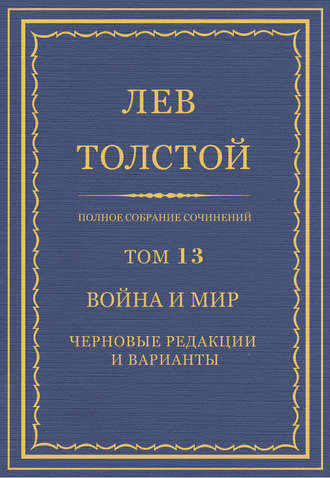
Лев Толстой
Полное собрание сочинений. Том 13. Война и мир. Черновые редакции и варианты
* №31 (рук. № 70. T. I, ч. 2, гл. XIV).
В то время, как давя друг друга, бежали обозы, и главнокомандующий прощался с князем Багратионом, отсылая его на верную погибель, войска, составлявшие отряд Багратиона, стояли в виду французских войск, не зная всей опасности своего положения и не думая о нем. Войска эти были так измучены своим ночным переходом 2-го и беспрестанными передвиженьями 3-го и 4-го числа, что одною мыслью и заботою их был отдых. После ночного перехода их поставили на Венско-цнаймской дороге лицом к ожидаемым французам, частью в городке Голабруне и деревне Шенграбене, частью совсем сзади в деревне Грунте и около нее в поле, лагерем. Едва они пришли, как все пехотные полки потребовали на работы укреплении. Не успели поесть каши, как австрийские гусары, стоявшие впереди, отошли назад, и весь отряд, оставшийся неожиданно без аванпостов, стал вновь перемещаться. По лагерю пронесся слух, что австрийцы изменили, и начальство должно было вмешаться для того, чтобы удержать солдат от побития камнями проходивших Гесен-кобургских гусаров.[1751] Войска видели, что Багратион проехал в Шенграбен, и стало известно, что все начальники были собраны на военный совет. Скоро после этого на месте ушедших австрийских гусар у Голабруна показались синие капоты французов. Багратион опять появился верхом между войск, адъютанты поскакали по разным направлениям и, не доев каши, солдаты строились, рассыпали цепь и отступали. Шенграбен очистили и за оврагом остановились. Дело не начиналось. Начальство ездило взад и вперед, и солдаты, и офицеры не имели ни времени отдохнуть, ни сварить каши. Целый день и целую ночь ожидали каждую минуту начала сражения. Мелкий дождик не переставал. На другой день к вечеру пронесся слух не только о перемирии, но и о мире, и 4-го числа, в тот самый день, как Lemarrois скакал с письмом к Мюрату, солдаты в первый раз сварили кашу. Люди отряда были так измучены, что для них было совершенно всё равно – мир ли или война, придется ли им драться одному против десяти или вовсе итти назад в Россию. Все желания их большинства были теперь направлены на одно… отдохнуть, обсушиться, согреться и поесть горячего.
В таком положении застало их то самое утро 4-го октября <в которое Мюрат получил грозное письмо Наполеона и атаковал тридцатью тысячами наш пятитысячный отряд.>
Местность на расстоянии шести верст в окружности, еще за два дня представлявшая вид спокойного благосостояния жителей, местность, оживленная заросшими садами деревнями, дорожками между полей, пасущимися стадами и жителями, – теперь была только военный лагерь с отовсюду дымящимися кострами, коновязями, глиной краснеющими земляными работами, зелеными ящиками, штыками, орудиями и рассыпанными по всему пространству серыми шинелями и нечистотами.
* № 32 (рук. № 71. T. I, ч. 2, гл. XIV—XVI).
В то время, как по Цнаймской дороге, давя друг друга, бежали обозы армии, войска, составлявшие отряд Багратиона, обреченные, по словам Кутузова, на верную погибель, стояли в боевом порядке перед Шенграбеном.
Шенграбен, большая деревня, которую накануне еще занимали русские, виднелся перед ними на горе на самом горизонте, в нем и вокруг него виднелись сплошные массы французов. Правее его, по дороге стояли французские, направленные на нас, орудия. От Шенграбена шел отлогий спуск и крутая гора, которую справа обходила столбовая дорога из Шенграбена в Грунт. Центр нашей позиции находился на этом, противуположном Шенграбену, возвышении. На нем стояла русская полевая батарея с снятыми с передков орудиями, направленными на Шенграбен. Вокруг батареи справа, слева и сзади располагались пехотные полки. Спереди под горой была только цепь стрелков. Далеко вправо, через большую дорогу, на другом возвышеньи виднелись еще пехотные полки и, на самом конце правого крыла у леса, стояли драгуны; влево, также на протяжении больше трех верст, тянулись войска – пехота, казаки и Павлоградские гусары. Сзади войск была мелкая речка и еще большее возвышение, на половине которого была занятая резервами деревня Грунт. Перед Грунтом сделаны были и теперь еще работались полевые укрепления. В лощине между Шенграбеном и первым возвышением были цепи. По лощину мы были дома, всё было наше, дальше начиналась та неведомая, неопределенная и страшная область – неприятеля.
Несмотря на то, что с вчерашнего дня было перемирие и б[арон] Винценгероде <с белым значком проехал туда, за цепь, там всё казалось странно и[1752] непонятно. И тем страннее, непроницаемее и страшнее казалась эта черта, чем дальше от нее. Тем, которые смотрели из Грунта на Шенграбен и видели смутно только точки и полосы французов, тем казалось страшно и невозможно проникнуть туда, за эту черту; те, которые смотрели с возвышения, составлявшего середину позиции, те представляли себе возможность поспорить еще за эту черту; те же, которые лежали внизу в цепи на ружейный выстрел от французов, нисколько не сомневались в том, что коли велит начальство, так сейчас и пойдем вперед вон туда, за этот лужок к жневью, что на горе, вон туда, где эти французы сидят теперь.
Военные люди[1753] чувствуют, как тяжело должно быть, раз поверив в конец войны, снова приниматься за дело и потому бессознательно никто не верил в мир, несмотря на перемирие и ходившие слухи. Прикажет начальство, назад пойдем, а прикажет, здесь постоим или вперед пойдем – оно знает.>
Хотя и говорят про пять, шесть тысяч войск – горсть храбрых и т. п., шесть тысяч войск не горсть, а очень, очень много народа, так много народа, что несмотря на то, что они сколь возможно более были сжато поставлены, шесть тысяч человек, бывшие у Багратиона, были растянуты на пространстве больше десяти верст в окружности. Передовая цепь, отделявшая их от французов, тянулась больше, чем на версту. Справа и слева цепи, неприятельская и наша, стояли друг от друга дальше пушечного выстрела, но по дороге в лощине, там, где проезжали парламентеры, они сошлись ближе ружейного выстрела, так что ясно могли видеть лица друг друга и переговариваться и, кроме солдат, занимавших цепь, с обеих сторон к этому месту сходилось много любопытных, которые, посмеиваясь, разглядывали странных и чуждых для них неприятелей.[1754]
[Далее со слов: С раннего утра, несмотря на запрещение… кончая: …обращенные, снятые с передков пушки. – близко к печатному тексту. T. I, ч. 2, гл. XV.]
<Зрителей разогнали.
– Пропорол бы ему брюхо, – сказал Долохов, вскидывая ружье на плечо, и пошел прочь.
Офицер, заведывавшиы в цепи, крикнул на Долохова: прочь из цепи.
– Чего? – хмурясь, ответил Долохов.
– Полноте, идите, – сказал Брыков. – Что вы какой нынче сердитой, Ваську своего избили.
– Такой день, видно. Всё думали драться, а вот третий день стоим, ничего не делая. – Долохов находился в том состоянии озлобления, которое находило на него по временам. Произошло ли это от волненья, он напрасно готовился к сраженью второй день, или от голода, но он с утра был зол и в своей роте, где, с одной стороны щедростью, с другой – решительностью, он заставил уважать себя, его боялись нынче. Долохов был нынче в том сердитом, бешеном д[ухе], в к[отором] его бо[ялись]. Он избил до полусмерти[1755] солдата, который за деньги служил ему, и изругал юнкера за то, что тот тронул его собаку. Долохов еще ни разу не был в деле. Особенный несчастный случай отводил его от сражения во время всего похода – раз он был в командировке, другой раз он[1756] уезжал в город. Для него сраженье, кроме того, что он желал его, как удовольствия, вперед зная и говоря, что он будет первым и что из ста человек девяносто – трусы, и, как необходимость для того, чтобы быть произведенным. Он был все эти дни озлоблен, но в это утро дошел до бешенства, начавшегося над солдатом.
– Коли не пойдем в дело, кому-нибудь кровь пу[щу].[1757]
– Вы хоть и разжалованный, а будьте учтивы, – сказал цепной офицер.
– Мне что? Ниже солдата не разжалуют. Распорю брюхо, кто меня тронет.
– Полно, полно, Долохов, – сказал Брыков. Долохов замолчал: несмотря на бешенство, он, с свойственным ему тактом, знал, он зависит от Брыкова и, презирая его, покорялся ему.
В цепи все говорили о близости сражения, в арьергарде было другое.
Долохов, отходя от цепи, слышал этот хохот, но и в нем оно не утишило того желания подраться с французами, которое мучало его всё время отступления.>
– Ведь надо же мне это проклятое несчастие, – сказал Долохов своему ротному,[1758] шедшему подле него. – Три месяца в походе и ни разу не попасть в[1759] рукопашную.
– Э, батюшка! у нас говорят: ни от чего не отказывайся, никуда не напрашивайся.
– Да, вам хорошо, а мне ведь сермяга то надоела. Да и так хочется подраться, хочется. Так и пропорол бы брюхо[1760] кривоносому этому в синем то, что раскачивался так…[1761]
– И рад бы пропороть, да кусаются, – со вздохом отвечал ротный.
– Не укусят! Вы как хотите там судите. А я знаю, что все трусы. Из ста человек девяносто девять – трусы. Ведь я видел под Амштетеном.
– Посмотрим, посмотрим вас, гвардейцов, – спокойно-шутливо отвечал ротный. – Ну, однако, идите к своему месту, неравно генерал подъедет, – тихо прибавил он таким тоном, что видно, несмотря на всё любопытство, возбуждаемое в нем гвардейцем и его знанием французского языка,[1762] он не забывал своего дела.
Долохов оглянулся с удивлением,[1763] как будто не понимая. Потом, вероятно вспомнив, что надо и Брыкову повиноваться, повернул к своей роте.[1764] Рота Долохова стояла в лесу и занималась рубкой дров. В береженом молодом дубняке слышался треск топоров и валимых деревьев. Костры дымились в нем и около костров с говором копошились солдаты.
Позади леса, в котором дымились костры, на возвышении стоял полковой командир полка, в котором служил Долохов, тот самый, который представляя полк Кутузову, за ним и вокруг него стояла свита офицеров полка и в том числе Жеребцов с своей вертлявой фигурой и высоко поднятыми плечами. Жеребцов был особенно учтив, внимателен и подобострастен перед генералом. Он беспрестанно наклонялся, поднимая руку к козырьку, и всеми силами видимо желая угодить генералу. Жеребцов был прислан от князя Багратиона с тем, чтобы[1765] получить рапорт. Опоздав уже для того, чтобы поспеть к обеду в Грунт, и заметив подле балагана полкового командира запах бульона и засученные, голые руки солдата повара, выставившего пирожки на доску, он решился обворожить полкового командира с тем, чтобы у него пообедать. Что тем заманчивее было для Жеребцова, что найти слабую сторону человека и поиграть, хотя бы и в отсутствии зрителей, составляло наслаждение для корнета.
Накануне генерал был призван в Грунт к князю Багратиону и участвовал на военном совете вместе [с] другими начальниками. Теперь он желал произвести такой же военный совет с своею свитою. Присутствие ординарца князя Багратиона еще более поощряло его к этому. Он был старший чином на левом фланге и пригласил на совет полкового командира Азовского полка и Павлоградского. Павлоградский не поехал, не признавая власть начальника левого фланга, но другие начальники явились, и человек двенадцать полковников, майоров и адъютантов сопутствовали генералу, когда он, хмурясь и вдавливая щеки на воротник мундира, подрагивающей походкой ходил осматривать «пазицию», как он говорил.
– Я полагаю, господа, – говорил он, щуря глаза, вглядываясь вперед, – что надо будет отступать на большую дорогу к лесу.
– Хоть и не мое дело, ваше превосходительство, – изгибаясь, с рукой к козырьку вмешался Жеребцов, – а я слышал, князь именно говорил к лесу.
– Что? Да, к лесу. – Все молчали, ожидая речи полкового командира, но видно было, ему нечего было сказать и он придумывал.
– И… я… думаю эшалонами… да, эшалонами, – повторил он с удовольствием.
– Странно, – сказал Жеребцов. – Как ваше превосходительство сходитесь с князем.
– Что? – строго спросил генерал.
– Он именно говорил эшалонами. Выразив еще несколько таких мыслей и вызвав одного разговорчивого маиора на изложение своих мнений, полковой командир остановился. Маиоры, полковники и адъютанты, с печальными лицами молча ходившие около него, стали откланиваться, желая поскорее пойти к себе отдохнуть и пообедать.
– Трудно управлять, – сказал Жеребцов с улыбкой сожаления. – Вы, я думаю, еще и не обедали, ваше превосходительство?
– Так пожалуйте, господа, – обратился полковой командир к батальон[ным] командир[ам], не отвечая Жеребцову.
– И я еще не обедал, ваше превосходительство. – Генерал строго посмотрел на него и приятно улыбнулся.
– Милости просим ко мне солдатской каши разделить.
После обеда у генерала Жеребцову нужно было заехать еще на крайний левый фланг к Павлоградскому полку с тем же приказанием. Павлоградские гусары стояли [?] далеко от французов. Впереди были линии коновязей, за коновязями костры, люди, поправее большой балаган полковника и кухня. Сзади виднелся уединенный дом, единственная крыша на всем пространстве, занимаемом гусарами. Перед домом стояли с раскрасневшимися лицами песенники эскадрона. Накануне привезены были кресты в эскадрон и навешены за Эмский мост N. Ростову, юнкеру Миронову и двум солдатам. У маркитанта были куплены вина и N. Ростов угощивал эскадрон, офицеров и солдат. В доме, пустом, разоренном[1766] и брошенном хозяевами, слышались крик и хохот. N. Ростов в расстегнутой куртке и без фуражки вышел из дома, старательно ступая по ступеням крыльца, завернул за угол. Жеребцов окликнул его, но Nicolas не услыхал его голоса. «Нет, лучше не заезжать теперь», и Жеребцов проехал мимо.
Ростов был пьян в первый раз в жизни. Он прильнул открытой головой к сырой холодной стене и ему казалось, что он умирает. Снизу поднималось, поднималось что то, выворачивалось, переворачивалось в голове и вот, вот казалось всё скроется. – Боже мой, я упаду. Не видит ли кто? – бормотал он. – Другие ничего. Отчего же я так болен? Да, болен. А, вот он, – говорил он, – оглядывая внизу крест на шнурках куртки, и тупая улыбка изменяла его бледное лицо. Но крест поднимался, опускался, убегал, выворачивался вместе с головой и со всем телом. Всё происходило, как во сне. «Зачем я выпил еще этот стакан?»[1767] и он тяжело вздыхал и грустно закатывал глаза.[1768] – Георгий, – говорил он. – Крест на груди, на храброй груди.[1769] – И он ласкал крест, потряхивая его. – Нет, не могу, умираю.
– Иди, Ростов, – послышался голос. – Где ты? Иди лодку петь. Ростов не отвечал.
– Господи, помилуй, господи, помилуй, – шептал он, изнывая.
А между тем, всё приближался адъютант Бонапарта, скакавший к Мюрату с приказанием атаковать и убить всех этих русских.
В то же время в арьергарде подле Грунта в одних рубахах работали солдаты, выкидывая красную глину на вал будущего укрепления и тащ[а] фашины. В самой же разоренной деревне Грунте все дома были наполнены начальством и штабными, по всем улицам толпились обозы, со всех сторон солдаты тащили, кто сени [?], кто двери, кто заборы и на площади была раскинута палатка маркитанта. У маркитанта сидели офицеры с красными и истомленными лицами и пили. Один[1770] из офицеров, закутавшись в шинель по уши, дрожал всем телом. Его била лихорадка и он не мог согреться глинтвейном.[1771] «Бог с ними со всеми, с походами», – думал он, «вот с утра не могу согреться, а скажись больным, подумают – трушу».
– Что получили? – спрашивал другой офицер у казначея, шедшего с узлом золотых. – Мне за треть вперед, полковник обещал.
– Там увидим, приходите в полк.
– Стыдно вам, стыдно, господа, – говорил дежурный штаб-офицер, входя под палатку маркитанта, – извольте итти к своим местам, князь приказал. – Некоторые находили удовлетворительные ответы и оставались, другие шли. Офицер в лихорадке пошел к своему месту.> На горе впереди Грунта[1772] в одной пехотной роте собралась толпа около песенников. Солдаты стояли кружком и с присвистом пели плясовую песню и в середине их[1773] плясал молодой рекрут, выделывая ногами и ртом уродливо быстро невозможное. Чрез плечи друг друга солдаты с одобрением смотрели на пляшущего.
– Пройдись, ну, Макатюк, ну же, – говорили старому с медалью и крестом эфрейтору, пихая его в круг.
– Да я так не могу, как он.
– Да ну.
Макатюк вышел в круг в шинели, с мотавшимися на ней орденами, внакидку и с руками в карманах, и прошелся по кругу шагом, чуть встряхивая плечами и прищуря глаз, поглядывая кругом всё равно на кого, хотя обращение [?], казалось, имело в виду какого [то] одного приятеля, с которым он этим взглядом вспоминал штуку. Он остановился посередине и то он плясал. Плясал больше быстроногого рекрута, одной противуположностью своей неподвижности с удалью песни. Вдруг он повернулся, вспрыгнул, сел на корточки, сделал два раза ногами, поднялся, перевернулся и, не останавливаясь и отталкивая останавливающих, пошел вон из круга.
– Ну, вас совсем, пущай молодые ребята пляшут, пойти ружье почистить.
<A Lemarrois подъезжал уже и передавал письмо Мюрату.>
На самом крайнем правом фланге в то же время в одном из эскадронов драгун между коновязями слышался крик, но крик не песни, не смеха, не многих людей, а крик одного человека, болезненный, страждущий, испуганный и всё-таки еще притворный крик. Два драгуна, раздевшись для ловкости, взмахивали над головой и в такт били длинными розгами по до половины обнаженному телу солдата, наказываемого за воровство. Солдаты с остановившимися выражениями лиц стояли кругом (им велено было). Один офицер, толстый майор, нахмуривши[1774] одутловое лицо, переваливаясь назад в грязной шинели, ходил взад и вперед и, не обращая внимания на крик и не переставая, говорил:
– Солдату позорно украсть, солдат должен быть честен, благороден и храбр, а коли у своего брата украл, так в нем чести нет, это мерзавец. Еще, еще. И всё слышались удары и притворный и отчаянный крик. Лошади на коновязи косились на лежащего солдата. Одна взбрыкнула и все всполошились. Унтер офицер крикнул.
– Еще, еще, – говорил майор. Молодой офицер отошел от коновязи (ему велено было тоже тут быть) и оглядывался на наказываемого. На лице его выражалось больше страдания, чем на лице наказываемого. «Нет, не могу». Он зажал уши и убежал к своему месту. Через две минуты наказанный с товарищами сидел у костра и не давал своей трубки покурить просившему у него товарищу.
<В то же время на возвышении, составляв[шем] артиллерийский парк, у орудий, снятых с передков и направленных против французов, стоял невысокий артиллерийский офицер лет тридцати, с впалыми щеками, нависшим лбом и умными, добрыми глазами. Он ушел от своих товарищей и подчиненных (он был старший офицер в батарее), чтоб быть одному и, рассеянно лаская ровный круг гладкой меди дула орудия, стоял задумавшись. Он вздрагивал и оглядывался. Офицера мучал страх, непреодолимый страх смерти и страданий, страх сражения. «Я подлец, – говорил он сам себе, – подлец. А подлец, так пускай убьют. Больше ничего не стою. Да, не могу. Не могу. Нет, еще хуже быть одному. Пойти к Белкину. Ох, Белкин, и за что я его люблю, а никого не люблю, как Белкина. Когда с ним, мне легче.»>[1775]
* № 33 (рук. № 71. Т. І, ч. 2, гл. XV?).
<Долохов не ходил на работы, но ротный требовал, чтобы он был на своем месте. Он вошел в лес и подошел к костру, у которого сидела аристократия роты – фелдвебель, каптенармус и два солдата.
– Что, судырь, видали хранцузов, – сказал фелдвебель, выставляя обе руки перед огонь и оттягивая жарившееся лицо.
– Нутка табачку на трубочку, – попросил каптенармус.[1776] Пришел ротный, спросил фелдвебеля, встал и пошел. Долохов не отвечал и лицо его приняло такое злое выражение, что солдаты,[1777] посмотрев на него, переглянулись и стали разговаривать между собой. Они знали[1778] уж характер судыря, который иногда такие истории рассказывал, что вся рота собиралась слушать и ни за что давал по три рубля на водку, а иногда не говорил ни слова, делался зверем[1779] и ни за что готов был избить человека. Ротная шавка Мухтарка, виляя хвостом, подошла к костру.
– Вишь и Мухтарка сушиться пришла, – сказал солдат, сидевший подле, взял Мухтарку за спину и хотел, играя, перебросить ее через огонь. Собака визгнула.
– Что ты ее трогаешь? Что она тебе сделала? – крикнул Долохов и грубо толкнул солдата. – Мухтарка, сюды.
– Эй легче, судырь, – проговорил солдат. – Вишь, в лицо лизать ему дается…..
А между тем французские орудия, направленные на нас, виднелись на горе, и у наших орудий, стоявших перед Грунтом, стояли офицеры и генерал и рассчитывали, куда по французам донесет их выстрел.
Подле орудий стоял полковой командир, генерал, представлявший полк Кутузову, подле него стояли артиллеристы и с высокоподнятыми плечами Жеребцов. Генерал выспался в построенном полковом балагане, закусил и, подрагивая, вышел погулять, так как делать нечего было. Но увидав подчиненных, он почувствовал, что ему, командиру, генералу, необходимо бросить общий взгляд на позицию. Что такое позиция и что такое общий взгляд, он не знал и не мог бы сказать, но что то сделать он чувствовал необходимость, и что то показать главное. Еще более побудил его к этому приезд Жеребцова от Багратиона с приказанием опре[делить], много ли людей в полку. Надо показать адъютанту. Он вышел, подрагивая, к орудиям, прищурившись поглядел и сказал:
– Гм! Да! Ежели бы фланг, – он строго оглянулся, – что?
– Так точно, ваше превосходительство, – сказал Жеребцов, – г-н офицер, – обратился он поспешно к артиллеристу, – пожалуйте к генералу. Жеребцов, присланный сюда, не мог успеть вернуться к обеду в Грунт, а проходя мимо балагана полкового командира, он слышал запах бульона и видел пирожки, выложенные засученными солдатскими руками на доску. Ему надо было пообедать у генерала и потому он особенно внимателен и искателен был с ним. Артиллерийский офицер, молодой человек, подошел. Он тоже был рад поговорить о позиции и подать мнение и поиграть в воина, и они поговорили.
– Ежели обойдут, то буду обстреливать на картечный [?] выстрел на отвозы. [?]
– Так, так, – сказал генерал.
– Вы уже обедали, генерал? – спросил Жеребцов.
– Не угодно ли, милости прошу, – и они прошли к балагану. В это же время еще правее, где стояли гусары позади коновязей, в мельнице, единственном доме, бывшем в поле, слышались крики пьяных голосов, из которых громче всех раздавался картавый голос Денисова.>







