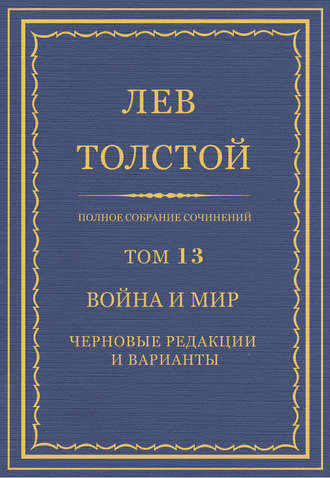
Лев Толстой
Полное собрание сочинений. Том 13. Война и мир. Черновые редакции и варианты
* № 124 (рук. № 89. Т. II, ч. 4, гл. III).
<Третьего дня было счастливое поле, в котором Nicolas в Соповом и Кипарисной вершине затравил трех лисиц на одной перемычке, в полях затравил семнадцать русаков и в лоск, как говорили охотники, уложил лошадей, собак, борзых и гончих, которые лихо вывели в поле матерую лисицу и, обведя два круга верст в двадцать, в бурьянах под мельницей словили ее. Наташа участвовала в этой охоте, одна из первых на своей пристяжной Белогубке подскакала к словленной гончими лисице и возвращалась не только счастливая и усталая, но довольная собою и ничего в мире не желающая, как может быть доволен человек, совершивший величайший подвиг мира, долженствующий предать его имя бессмертию.
Nicolas, притворяясь совершенно равнодушным к радостям нынешнего дня (Niсо1аs, как и все охотники, считал великой заслугой и необходимым притворяться, что какое бы великое счастье он ни испытывал на охоте, что всё это ему очень обыкновенно, и что радоваться над тем, что случилось, не следует, а нужно думать только о том, как бы еще большие подвиги совершить в будущем), Nicolas объявил, что теперь он три дня даст отдыхать собакам и, хоть бы в сад к нему перевела она (т. е. волчица) выводок, он не поедет до 14-го. «А то собьешь собак и не с чем выехать будет». Он с снисходительным презрением слушал Наташу, которая, не понимая еще правила притворяться равнодушной, с разгоревшимися глазами и махая руками и стараясь, но перевирая охотничьи выражения, рассказывала Nicolas, как она подскакала, и собаки за хвост ( – трубу, – поправил строго Nicolas) – за трубу хотели поймать, и Трунило первая поймала ее.[3472]
– Отчего же поймала? поймал, – опять заметил Nicolas.
– Нет, вот что, теперь дадим вздохнуть три дня, а потом слушай, – говорил Nicolas. – Я тебя отпрошу у папеньки, и маленькой отъезд сделаем. Начнем с Дубровы, тут выводок, потом проравняемся… И Nicolas, сияя ожиданиями будущих радостей, изложил Наташе и подъехавшему ловчему план следующего маршрута с 14 сентября.>
№ 125 (рук. № 89. T. II, ч. 4, гл. III—VII).
Nicolas велел седлать.[3473] Но только что Данила хотел выйти, как в комнату[3474] вошла быстрыми шагами Наташа, еще не причесанная и вся окутанная в большой нянин платок с черным полем, на котором были изображены птицы.
Наташа была взволнована так, что она насилу удерживалась не раскрыть платка и не замахать при охотниках голыми[3475] руками. Она отчасти это и сделала.
– Нет, это гадость, это подлость, – кричала она. – Сам едет, велел седлать, а мне ничего не сказал…
– Да ведь тебе нельзя. Маменька сказала, что тебе нельзя.
– А ты и выбрал время ехать. Очень хорошо. – Она едва удержалась, чтоб не заплакать. – Только я поеду, непременно поеду. Что хочет мама, а я поеду. Данила, вели мне седлать, и Саша чтоб выезжал с моей сворой, – обратилась она к ловчему.
И так то быть в комнате Даниле казалось неприятно и тяжело, но иметь какое-нибудь дело с барышней, – в этом уж он ничего не понимал. Он опустил глаза и поспешил выйти, как будто до него это не касалось, стараясь только как-нибудь нечаянно не повредить барышню.
Хотя и говорили, что Наташе нельзя было ехать, что она простудится, но еще меньше можно было помешать ей сделать то, что она хотела, и Наташа собралась и поехала.[3476]
Старый граф, всегда державший огромную охоту и изредка сам выезжавший в поле, теперь же передавший всю охоту в ведение сына, в этот день 12 сентября, развеселившись, собрался сам тоже выехать и послал жену, Соню, гувернантку, Петю ехать в линейке. Через час вся охота была у крыльца. Nicolas, не дожидаясь никого, с строгим и серьезным видом, показывавшим, что некогда теперь заниматься пустяками, прошел мимо Наташи, с помощью своего стремянного Саши садившейся на лошадь, осмотрел все части охоты, послал вперед стаю и охотников в заезд, сел на своего рыжего донца и, подсвистывая собак своей своры, тронулся через гумно в поле, ведущее к Отрадненскому заказу. Лошадь старого графа, игреневого меренка, называемого Вифлянкой, вел его, старого графа, стремянный, сам же он должен был прямо, на оставленный ему лучший лаз, выехать в дрожечках. Всех гончих собак в охоте Ростовых было восемьдесят. Все одной старинной ростовской породы, костромки, низкие на ногах, сухие, паратые и голосистые, черные с подпалинами. Но много уже было подбившихся собак, так что вывели в стаю всего пятьдесят четыре собаки. Данила с Карпом Туркой ехали передом. Сзади ехало три выжлятника. Борзятников было четыре господских своры: графские (старого графа) в одиннадцать собак и два стремянных, графченкова (Nicolas) в шесть собак, Наташина в четыре плохеньких собачки (на нее не надеясь, ей дали что было похуже) и Митинька с своей сворой; кроме того, было семь свор борзятников. Так что вышло в поле около ста пятидесяти собак и двадцать пять конных охотников. Каждая собака знала хозяина, кличку, каждый охотник знал дело, знал свое место и назначение. Весь этот хаос визжавших собак, окрикивающих охотников, собравшийся на дворе дома, без шума и разговоров равномерно и спокойно расплылся по полю, как только вышли за ограду. Только слышно было изредка подсвистыванье, храп лошади или взвизг собаки и, как по пушному ковру, шаги лошадей и побрякиванье железки ошейника. Едва выехали за Чепыж, как по полю показались еще пять охотников с борзыми и два с гончими, шедшие навстречу Ростовским.
– А. дядюшка, – сказал Nicolas подъехавшему к нему красивому старику с большими седыми усами.
– Так и знал, – заговорил дядюшка (это был дальний родственник, небогатый сосед, исключительно посвятивший свою жизнь охоте), – нельзя вытерпеть и хорошо, что идешь, такая погода – чистое дело марш (это была поговорка дядюшки). Бери заказ сейчас, а то мой Гирчик мне донес, что Илагины с охотой в Карниках стоят, они у тебя, чистое дело марш, под носом выводок возьмут.
– Туда и иду. Что же свалить стаи? – спросил Nicolas. Гончих соединили в особенности потому, что дядюшка утверждал, что без его Волтора, чистое дело марш, на волков хоть не ходи, и господа поехали рядом. К ним галопом подскакала и Наташа, неловко и уродливо закутанная и увязанная и перевязанная платками, которые все-таки не могли скрыть ее ловкой, уверенной посадки на лошади и ее оживленного, счастливого, с блестящими глазами, лица, высовывавшегося из-под платков и мужской шапки. На ней сверх всего был однако рог, кинжал и сворка.
– Nicolas, какая прелесть Трунила, он узнал меня, – заговорила она. – Здравствуйте, дядюшка.
Nicolas не отвечал, озабоченный соображениями и планами, чувствуя на себе всю ответственность предприятия и оглядывая свою армию. Дядюшка поклонился, но ничего не сказал и поморщился при виде юбки. Он не любил, чтоб соединяли баловство с серьезным делом, как охота. Nicolas был того же мнения и строго взглянул на сестру, стараясь ей дать почувствовать то расстояние, которое их должно было разделять в эту минуту, как Генрих IV давал чувствовать Фальстафу, что, какая бы ни была между ними дружба прежде, теперь между королем и Фальстафом была пучина. Но Наташа была слишком весела, чтобы заметить это.
– Nicolas, посмотри, какая Завидка моя стала худая – ее верно плохо кормят, – она подкликнула Завидку, старую, старую облезлую суку с шишками на кострецах. – Посмотри.
Nicolas дал эту суку Наташе потому, что некуда было девать ее, и теперь перед дядюшкой ему совестно было, что у него в охоте была такая собака.
– Ее повесить надо, – сказал он коротко и сделал распоряжение, которое передавать поскакал стремянной на рыжей лошади, брызгая грязью в Nicolas, Наташу и дядюшку. Но плохое положение Завидки не смутило Наташу. Она обратилась к дядюшке, показывая ему свою другую собаку и хвастаясь ею, хотя и эта другая была очень плохая собака. Но уже остров Отрадненского заказа виднелся саженях в ста, и доезжачие подходили к нему. Nicolas, решив окончательно с дядюшкой откуда бросать, указал Наташе место, подтвердив, где стоять ее стремянному, и сам поехал в заезд над оврагом, считавшимся вторым по достоинству лазом на матерого волка. Лучший лаз в узкой перемычке к большому лесу предоставлен был старому графу.
– Nicolas! – прокричала Наташа, – я сама заколю…
Nicolas не отвечал и только пожал плечами на бестактность сестры.
– На матерого становишься, прогладишь, – сказал дядюшка.
– Как придется, – отвечал Nicolas. – Карай, фють, на, – крикнул он, отвечая этим призывом на слова дядюшки. Карай был огромный бурдастый кобель, не похожий на собаку, серьезный и уродливый, известный тем, что он в одиночку бирал матерого волка.
Все разъехались.
Старый граф, зная охотничью горячку сына, поторопился не опоздать, и еще не успели доезжачие подъехать к месту, как Илья Андреич, веселый, румяный, позавтракав, с трясущимися щеками, на своих вороненьких подкатил по зеленям к лазу и, расправив шубку и надев охотничие снаряды, влез на свою гладкую, сытую, смирную и добрую, поседевшую, как и он сам, Вифлянку. Лошадей с дрожками отослали. Граф Илья Андреич, хоть и не охотник в душе, но знавший твердо охотничьи законы, забрался в опушку леса, от которого он стоял, разобрал поводья, выправил шубку и оглянулся улыбаясь. Подле него стоял его камердинер и старинный ездок, но отяжелевший Семен Чекмарь, державший на своре трех лихих тоже зажиревших, как хозяин и лошадь, волкодавов. Две собаки умные, старые улеглись без свор. Подальше в опушке стоял другой стремянной, маленькой краснорожий, всегда пьяный форейтор Митька Копыл, отчаянный ездок и страстный охотник. Граф, по своей старинной привычке, перед охотой выпил охотничей запеканочки серебряной кубочек, закусил и запил полубутылкой своего любимого Бордо. Илья Андреич был немножко красен от вина и езды, глаза его, подернутые влагой, особенно блестели, и он, прямо, укутанный в шубку, сидя на седле, оглядывался, улыбаясь, кругом и имел вид ребенка, которого собрали гулять.
Семен Чекмарь, пивший запоем, худой, с втянутыми щеками, имел грозный вид, но не спускал глаз с своего барина, с которым они жили тридцать лет душа в душу, и, понимая его приятное расположение духа, ждал приятного разговора. Еще третье лицо подъехало осторожно (видно, уж оно было учено) из-за леса и остановилось позади графа. Лицо это был старик в седой бороде и в женском капоте и высоком колпаке. Это был шут Настасья Иваныч.
– Ну, смотри Настасья Иваныч, – сказал ему, подмигивая, граф, – ты только оттопай зверя, тебе Данила задаст.
– Я сам… с усам.
– Шшш, – зашипел граф и обратился к Семену.
– Наталью Ильиничну видел? – спросил он у Семена. – Где она?
– Они от Жаровых кустов стали, – отвечал Семен улыбаясь, – так и норовят волка затравить…
– А ты удивляешься, Семен, как она ездит… а? – сказал граф.
– Хоть бы мущине впору…
– Николаша где? Над Лядовским верхом что ль? – спросил граф, всё говоря шопотом.
– Так точно-c. Уж они знают. Так тонко езду знают, что мы с Данилой другой раз с диву даемся, – говорил Семен, зная чем угодить барину.
– [3477]Хорошо ездит, а? А на коне то каков, а?
– Картину писать. Как намеднись они из Заварзинских бурьянов лисицу перескакивали, – страсть: лошадь тысяча, а седоку цены нет. Ну, уж такого молодца поискать.
– Поискать… – повторил граф, видимо сожалея, что кончился так скоро разговор Семена. – Поискать? – сказал он, отворачивая полы шубки и доставая табакерку. Семен слез и, выпростав табакерку, подал.
– Намедни, как от обедни во всией регалии вышли, так Михаил то Сидорыч… – Семен не договорил, услыхав ясно раздавшийся в тихом воздухе гон с подвыванием не более двух или трех гончих. Он поспешно ухватился за стремя и стал садиться, крехтя и бормоча что-то.
– На выводок натекли… – заговорил он, – вон она, во подвывает, вишь подваивает. Но…прямо на Лядовской повели.
Граф, забыв стереть улыбку с лица, смотрел перед собой вдоль по перемычке и, не нюхая, в руке держал табакерку. Семен говорил правду. Послышался голос по волку в басистый рог Данилы. Стая напала на выводок, слышно было, как заревели с заливом голоса гончих с тем особенным подвыванием, которое служит признаком гону по волку, слышно было, как уж не порскали, а улюлюкали доезжачие, и из за всех голосов выступал голос Данилы, то басистый, то пронзительно стальной, тонкий, которому мало было этих двухсот десятин леса, так и выскакивал наружу и звучал везде в поле. Прислушавшись несколько секунд, граф заметил, что гончие разбились на две стаи: одна, большая, ревевшая особенно горячо, стала удаляться, (это были прибылые) другая часть стаи понеслась вдоль по лесу, мимо графа, и при этой стае было слышно улюлюканье Данилы. Оба эти гона сливались, переливались, но оба удалялись. Семен вздохнул и нагнулся, чтобы оправить сворку, в которой запутался молодой кобель. Граф тоже вздохнул и машинально, заметив в своей руке табакерку, открыл ее и достал щепоть.
– Назад, – крикнул шопотом в это время Семен на кобеля, который выступил за опушку. Граф вздрогнул и уронил табакерку.
Семен хотел слезть поднять ее, но, раздумав, мигнул шуту. Настасья Иваныч слез и, подходя к табакерке, зацепился за сук и упал.
– Али перевесила? – Семен и граф засмеялись.
– Кабы на Николашу вылез, – сказал граф, продолжая прерванный разговор. —То то бы потешился, Карай возьмет…
– Ох, мертвый кобель… Ну, давай сюда, – говорил Семен, протягивая руку к табакерке графа и смеясь тому, что Настасья Иваныч одной рукой подавал табакерку, а другой подбирал табак с сухих листьев.[3478] И граф и Семен смотрели на Настасью Иваныча. Гончие всё гоняли, казалось, всё так же далеко. Вдруг, как это часто бывает, звук мгновенно приблизился, они услыхали гон, как будто вот – вот перед самыми ими были лаящие рты собак, и услыхали улюлюкание Данилы, который, казалось, вот – вот задавит, скача на своем буром мерине. Оба испуганно и беспокойно оглянулись, но впереди ничего не было. Граф оглянулся направо [на] Митьку и ужаснулся. Митька с выкатывавшимися глазами, бледный, плачущий, смотрел на графа и, подняв шапку, указывал ею вперед на другую сторону графа.
– Береги! – закричал он таким голосом, что видно было, это слово давно уже мучительно просилось у него наружу. Митька поскакал, выпустив собак, к графу. Граф и Семен, сами не зная зачем, выскакали из опушки и налево от себя, шагах в тридцати, увидали седого, лобастого волка, с наеденным брюхом, который неуклюжо, мягко переваливаясь, тихим скоком подскакивал левее их к той самой опушке, у которой они стояли. Злобные собаки визгнули, ахнули и, срываясь с свор, как стрелы, отбивая скачки по упругому, мягкому жнивью, понеслись к волку, мимо ног лошадей.[3479] Волк уже был у опушки; он приостановил бег, неловко повернул свою седую голову к собакам, как больной жабой поворачивает голову, и так же мягко переваливаясь, прыгнул раз, другой, мелькнуло полено, и скрылся в опушку. В ту же минуту, как граф, чувствуя свою ошибку, плачущим голосом заулюлюкал вслед волку, в ту же минуту из противуположной опушки с ревом и гоном, похожим на плач, растерянно вынеслась одна, другая, третья гончая и вся стая взрячь понеслась по полю, по тому месту, где бежал волк. Но это бы было еще ничего: вслед за гончими расступились кусты орешника, и вылетела бурая, казавшаяся вороной от поту, лошадь Данилы. На длинной спине комочком, валясь вперед, сидел Данила, без шапки, с седыми встрепанными волосами над красным потным лицом (одни усы насмешливо торчали кверху).
– Улюлюлю, – крикнул еще раз в поле Данила. – Береги распро…… – крикнул.
– Ж..а, – крикнул он, со всего размаха налетая с поднятым арапником на графа. Но, и узнав графа, он не переменил тон.
– Проб…ли волка-то. Охотники. – И как бы не удостоивая графа дальнейшим разговором, он со всей злобой на графа ударил по быстро ввалившимся [?] мокрым бокам бурого мерина и, улюлюкая так, что ушам больно было, понесся за гончими. Граф, как наказанный, стоял, оглядываясь и стараясь улыбкой вызвать хоть в Семене сожаление к своему положению. Но Семен, увидавший наеденное брюхо волка, понял, что была надежда перескакать его, и несся по кустам, заскакивая волка от Засеки. С двух сторон также перескакивали зверя борзятники. Но волк пошел кустами, и ни один охотник не перехватил его.[3480]
Через полчаса Данила с гончими с другой стороны вернулся в первый остров, подваливая их к отбившейся части стаи, всё еще гонявшей по прибылым.[3481]
В острову оставались еще два переярка и четыре прибылых. Одного прибылого затравил дядюшка, другого словили гончие и откололи выжлятники, третьего затравили борзятники на опушке, по четвертому еще гоняли. Один из переярков слез лощиной к деревне и ушел нетравленным, другой переярок полез по Лядовскому оврагу, тому самому, над которым стоял Nicolas.
Nicolas чувствовал охотничьим чувством (определить и сознать которое невозможно) по приближению и отдалению гона, по звукам голосов известных ему собак, по приближению, отдалению и возвышению голосов доезжачих, что совершалось в острове, что были прибылые и матерые, что гончие разбились, что где-нибудь травили и что что-нибудь случилось неблагополучное. Сначала он наслаждался звуками варом варившей стаи, два раза проведшей мимо его по опушке, сначала он замирал, напрягая зрение и, подбираясь на седле, с готовым криком отчаянного улюлюкания, стоявшим уже в верху его горла. Он держал во рту этот крик, как держат воду во рту, готовясь всякую секунду его выпустить. Потом он отчаявался, сердился, надеялся, несколько раз в душе молился богу о том, что[бы] волк вышел на него, – молился с тем страстным и совестливым чувством, с которым молятся люди в минуты сильного волнения, зависящего от ничтожной причины. «Ну, что тебе стоит», говорил он богу,[3482] «сделай это для меня. Знаю, что ты велик, и что грех тебя просить об этом, но, ради бога, сделай, чтобы на меня вылетел матерый и чтобы Карай на глазах дядюшки, который вон оттуда смотрит, влепился ему мертвой хваткой в горло».
Но волк всё не выбегал. Тысячу раз в эти полчаса упорным, напряженным и беспокойным взглядом окидывал Nicolas и опушку леса с двумя редкими дубами над осиновым подседом, и овраг с измытым краем, и шапку дядюшки, чуть видневшегося из-за куста направо, и Наташу с Сашей, которые стояли налево. «Нет, не будет этого счастия!» думал Nicolas, «и что бы стоило. Не будет, мне всегда во всем несчастье, и смотреть нечего».
Он думал это и в это самое время, напрягая усталое зрение, весь зрение и слух, оглядывался налево и опять направо……….
Направо, лощиной по Лядовскому верху, уж шагах в тридцати от опушки, в то время, как Nicolas опять глянул направо, катил матерый, как ему показалось, волк, своей белой сериной отличаясь от серой зелени травы по скату оврага. «Нет, это не может быть!» подумал Nicolas, тяжело вздыхая, как облегченно вздыхает человек при совершении того, что долго ожидаемо. Совершилось величайшее счастье и так просто, без шума, без блеска, бежит серый зверь, как будто по своему делу, бежит вскачь, не шибко, не тихо, оглядываясь по сторонам. Nicolas не верил себе; он оглянулся на стремянного. Прокошка, пригнувшись к седлу, не дышал, устремляясь не только выкаченными глазами, но и всем наклоненным туловищем к направлению волка, как кошка, встречающая беззаботно бегущую к ней мышь. Собаки лежали, стояли, не видя волка, ничего не понимая. Сам старый Карай, завернув голову и оскалив желтый, старый клык, щелкал зубами, сердито отъискивая блоху в своем лесе комками висевшей на задних ляжках шерсти.
Бледный Nicolas строго и значительно оглянул их, но они не поняли взгляда. – Улюлюлю! – шопотом, оттопыривая губы, проговорил он им. Собаки, дрогнув железками, вскочили, насторожив уши. Карай дочесал однако свою ляжку и только потом встал, насторожив уши и слегка мотнув хвостом, на котором висели войлоки. «Что ж, я готов, в чем дело?» как будто сказал он.
«Пускать, не пускать,» всё спрашивал себя Nicolas в то время, как волк подвигался к нему, отдаляясь от леса. Но вдруг вся физиономия волка изменилась: он вздрогнул, увидав человеческие глаза, устремленные на него, присел, задумался – «назад или вперед» – и пустился вперед, уж не оглядываясь, своим мягким, редким, вольным скоком, как будто он сказал себе: «Э, всё равно! посмотрим еще, как то они меня поймают».
«А! ты так! ну, держись». И Nicolas, заулюлюкав, выпустил во весь мах свою добрую лошадь под гору Лядовского верха, впоперечь волку. Nicolas смотрел только на собак и на волка, но он видел и то, что напротив его в развевающейся амазонке неслась с пронзительным визгом Наташа, обгоняя Сашку, сзади спешил дядюшка с своими двумя сворами.
Волк летел, не переменяя направления, по лощине. Первая приспела чернопегая Милка. Но, о ужас, вместо того, чтобы наддать, приближаясь к нему, она стала останавливаться и, подняв хвост, уперлась на передние ноги. Второй был Любим. Этот с разлета схватил волка за гачи, но волк приостановился и, оглянувшись, оскалился. Любим спустил. «Нет, это невозможно. Уйдет», подумал Nicolas. – Карай! – Но Карай медленно, тяжело скакал наравне с его лошадью. Одна, другая собака подоспели к волку. Собаки Наташиной своры были тут же, но ни одна не брала.
Nicolas был уже шагах в двадцати от волка. Волк раза три останавливался, садился на зад, огрызался, встряхивался от хватавших его больше за задние ноги собак и с поджатым хвостом опять пускался вперед. Всё это происходило на середине[3483] верха, соединяющего Отрадненский заказ с казенным огромным лесом Засекой. Перейди он в Засеку, волк ушел. – Караюшка, отец, – кричал Nicolas. Древний урод, калеченный Карай был немного впереди лошади и ровным скоком, сдерживая дыханье и не спуская[3484] глаз, спел к опять на мгновение присевшему в это время волку. Муругой молодой, худой, длинный кобель своры Наташи с неопытностью молодости подлетел спереди к волку и хотел схватить его. Волк быстро, как нельзя было ожидать от него, бросился к неопытному кобелю, ляскнул зубами, и окрававленный, с распоротым боком кобель, поджав хвост, бросился в сторону, отчаянно и неприятно визжа. Волк поднялся и опять двинулся вперед, между ног пряча полено. Но пока происходило это столкновение, Карай с своими мотавшимися на ляжках войлоками и нахмуренными бровями, был уже в пяти шагах от волка, всё не изменяя свой ровный скок. Но тут, как будто какая-то молния прошла сквозь него, Nicolas видел только, что что-то сделалось с Караем: он двумя отчаянными прыжками очутился на волке[3485] и с волком вместе повалился кубарем. Та минута, когда Nicolas увидал голову[3486] волка, с разинутой, ляскающей и никого не достающей пастью, поднятой кверху, и в первый раз всю фигуру волка на боку, с усилием цепляющимся толстыми лапами за землю, чтобы не упасть на спину, была счастливейшей минутой в жизни Nicolas. Nicolas был уже тут же над ним и заносил уже ногу, чтобы слезть принимать волка. Карай сам упал через волка. Шерсть его поднялась, он весь дрожал и делал своими съеденными зубами отчаянные усилия, чтобы встать и перехватить из шиворота в горло. Но, видно, зубы его были уже плохи. На одном из этих усилий волк рванулся, справился. Карай упал и выпустил его. Как бы поняв, что шутить нечего, волк выпустил во весь мах и стал отделяться от собак.
– Боже мой! за что? – с отчаянием закричал Nicolas.
Дядюшка, как старый охотник, скакал наперерез от Засеки и встретил опять и задержал волка. Но ни одна собака не брала плотно. Карай отстал далеко сзади. Охотники, Nicolas, его стремянный, дядюшка с своим, Наташа с своим, все вертелись над зверем улюлюкая, крича, не слыша друг друга, всякую минуту сбираясь слезать, когда волк садился на зад. Но всякий раз волк встряхивался и медленно подвигался к Засеке, которая должна была спасти его.
Еще в начале этой травли Данила, услыхав улюлюканье, выскочил на опушку и, так как это было дело не его и без гончих, остановился посмотреть, что будет. Он видел, как Карай взял волка, ждал, что сейчас возьмут его. Но когда охотники не слезли, волк встряхнулся, Данила крякнул.
– Отвертится, – сказал он и выпустил своего бурого не к волку, но прямой линией к Засеке, к тому месту, где, он знал, волк войдет в Засеку. Благодаря этому направлению, он подскакивал к волку в то время, как во второй раз его остановили дядюшкины собаки прежде, чем Карай успел второй раз приспеть к зверю.
Данила скакал молча, держа вынутый кинжал в левой руке и, как цепом, молоча своим арапником по подтянутым бокам бурого. Nicolas не видал и не слыхал Данилы до тех пор, [пока] мимо самого его не пропыхтел, тяжело дыша, бурый, и он не увидал, что Данила через голову лошади не упал в середину собак на зад волка. В то же мгновение те же собаки, которые не брали, уцепились с визгом за гачи волка, и Данила кубарем, падая вперед, добежал до остановленного зверя и измученный, как будто ложась отдыхать, всей тяжестью повалился на волка, хватая его за уши. Данила не позволил колоть волка, а послал стремянного вырубить палку, засунул ее в рот волку, завязал сворой и взвалил на лошадь. Когда всё было кончено, Данила ничего не сказал, а только, сняв шапку, поздравил молодого графа с красным полем и улыбнулся из-под усов своей детски нежной, круглой и кроткой улыбкой.
Гончих вызвали, все съехались, желая поговорить; под предлогом рассказать друг другу всё, что было, рассказали всё то, чего не было, и тронулись дальше. Старый граф посмеялся Даниле об прозеванном волке.
– Однако, брат, ты сердит, – сказал граф. Данила на это только улыбнулся своей приятной улыбкой. Старый граф и линейка поехали домой. Наташа, несмотря на уговоры и требования, осталась с охотой. Более всего хотелось Nicolas захватить Зыбинскую вершину прежде Илагиных, которые стояли недалеко от нее, и потому он пошел дальше, чем предполагал.
Зыбинская вершина была глубокая, изрытая водой, поросшая чащею осинника котловина в зеленях, в которой всегда бывали лисицы. Только что бросили гончих, как услыхали в соседнем острове рога и гон Илагинской охоты и увидали охотника Илагина с борзыми, стоявшего от Зыбинской вершины. Случилось так, что в то время, как из-под Ростовских гончих побежала на перемычку от Илагинского леса лисица, их охотник заезжал в заезд. Травить стали оба, и Nicolas видел, как расстилалась по зеленям красная, низкая, пушисто-странная лисица, как кругами плавала она между собак, всё чаще и чаще делая эти круги и обводя вокруг пушистой трубой, и как наконец налетела белая собака и вслед за ней черная и всё смешалось и звездой, врозь расставив зады, чуть колеблясь, стали собаки и подскакали два охотника – один его, в красной шапке, другой чужой, в зеленом кафтане. Охотники эти долго не торочили, стояли пешие – около них на чумбурах лошади с своими выступами седел и собаки – и махали руками и один махал лисицей и подал голос.
– Дерутся, – сказал стремянной Nicolas. Так гончие вышли за лисицей. Nicolas послал подозвать к себе сестру и шагом поехал на место драки. С другой стороны, тоже прекрасной лошадью и нарядом отличаясь от других, сопутствуемый двумя стремянными, выехал навстречу Nicolas толстый барин. Но прежде, чем съехались господа, дравшийся охотник с лисицей в тороках подъехал к графу. Он далеко снял шапку и старался говорить почтительно, но он был бледен, как полотно, задыхался и был видимо в таком озлоблении, что не помнил себя. Глаз у него был подбит, но всё он имел гордый вид победителя.
– Как же, из-под наших гончих он травить будет, да и сука то моя поло̀вая поймала. Поди, судись. За лисицу хватает, я его лисицей-то по морде съездил. Отдал в тороках. А этого не хочешь, – говорил охотник, указывая на кинжал и вероятно воображая, что он всё еще говорит с своим врагом. Nicolas, не разговаривая с охотником, тоже взволнованный, поехал вперед к приближавшемуся барину. Охотник победитель въехал в задние ряды и там, окруженный сочувствующими любопытными, рассказывал свой подвиг. Вместо врага Nicolas нашел в Илагине добродушного и представительного барина, особенно желавшего познакомиться с молодым графом. Он объявил, что велел строго наказать охотника, очень жалеет о случившемся, просит графа быть знакомым, предлагал свои места и низко галантно снял соболью шапку перед Наташей и сделал ей несколько мифологических комплиментов, сравнивая ее с Дианой. Илагин, чтобы загладить ви[ну], настоятельно просил Nicolas пройти в его угорь, который берег для себя и в котором было пропасть лисиц и зайцев.[3487] Nicolas, польщенный любезностью Илагина и желая похвастаться перед ним охотой, согласился и отвлекся еще дальше своего маршрута. Итти до Илагинского угоря было далеко и голыми полями, в которых было мало надежды найти зайцев. Они разровнялись и прошли версты три, ничего не найдя. Господа съехались вместе. Все взаимно поглядывали на чужих собак, тайком стараясь, чтобы другие этого не заметили, и с беспокойством отъискивали между этими собаками соперниц своим. Ежели разговор заходил о резвости собак, то каждый обыкновенно особенно небрежно говорил о достоинствах своей собаки, которых он не находил слов расхваливать, говоря с своим охотником.
– Да, это добрая собака, ловит, – равнодушным голосом говорил Илагин про свою краснопегую Ерзу, за которую он два года тому назад отдал три семьи дворовых соседу. Эта Ерза особенно смущала Nicolas, она была необыкновенно хороша. Чистопсовая, тонкая, узенькая, но с стальными на вид мышцами и с той драгоценной энергией и веселостью, которую охотники называют сердцем. «Собака скачет не ногами, а сердцем». Всем охотникам без памяти хотелось померять своих собак, у каждого была своя надежда, но они не признавались в этом. Nicolas шопотом сказал стремянному, что даст рубль тому, кто подозрит, то же самое распоряжение сделал Илагин.
– У вас половый кобель хорош, граф, – говорил Илагин.
– Да, ничего, – отвечал Nicolas.[3488]
– Я не понимаю, – говорил Илагин, – как другие охотники завистливы на зверя и на собак. Я вам скажу про себя. Меня веселит, знаете, проехаться, потравить, вот съедешься с такой компанией… Уж чего же лучше. – Он снял свой бобровый картуз перед Наташей, – а это, чтобы шкуры считать, сколько привез, мне всё равно.
– Ну, да.
– Или чтоб мне обидно было, что чужая собака поймает, а не моя – мне только бы полюбоваться, – не так ли, граф, потому я сужу…
Охотники ровнялись вдоль оврага. Господа ехали в середине правой стороной.
– Оту его, – послышался в это время протяжный крик одного из борзятников Илагина. Он заработал рубль, подозрил русака.
– А, подозрил, кажется, – сказал небрежно Илагин. – Что же, потравим, граф?







