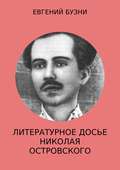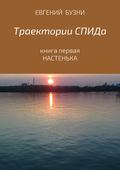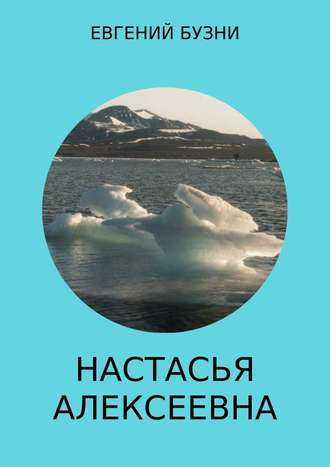
Евгений Николаевич Бузни
Настасья Алексеевна. Книга 4
– Только не говори мне, что у тебя несчастная любовь.
– Да, я ничего не говорю, – сказал он и немного нахмурил ровные, как стрелки, брови.
– Нет, говоришь. Я же вижу по твоим глазам.
– Ты колдунья какая-то.
– Да, и я чувствую, что ты хочешь сказать, но не надо. У тебя есть дети?
– Двое, мальчик и девочка.
– Ну, вот видишь, ты счастливый отец. И у меня есть сын. И я счастлива.
Настеньке так хотелось, чтобы всё так и было, чтобы она была счастлива с Женечкой, но смутная тревога о нём никогда не покидала её, внося тень сомнения в её счастье.
– А где же твой муж? – Неожиданно, потеряв всякую осторожность, задал свой главный вопрос Иван крестьянский сын. Он готов был услышать в ответ всё, что угодно, только не то, что сказала Настенька:
– Он умер, так и не узнав, что это сын не его.
Настенька сама не знала, как у неё вырвалось то, что её мучило и мучает всё время. Никому и никогда она не рассказывала то, что произошло с нею. А тут вдруг совершенно незнакомому человеку, но к которому она как-то странно для самой себя почувствовала такую близость, что слова сами вдруг помимо её сознания начали выплёскивать почти всю её историю.
– Как не его? – Иван чуть не подскочил от неожиданности сказанного. Ему тут же с ужасом представилось, что Настенька гуляла с одним, а вышла замуж за другого, то есть произошло то же, что и с ним, но он не успел додумать эту мысль, как был прерван рассказом:
– Тут совсем не то произошло, что ты подумал.
Настенька явно читала его мысли и отвечала им:
– Я была беременна от моего Володеньки. Всё правильно. Но…– Настенька тяжело вздохнула, не зная, продолжать ли рассказ. Какая-то неудержимая сила заставила её говорить абсолютную тайну для всех: – До этой беременности была у меня другая, случайная. Так уж вышло в моей жизни, что меня пригласили на празднование Рождества. Неважно куда и кто. Но там мне налили в шампанское водку или что-то другое, и я отключилась. Тогда меня изнасиловали сразу трое. Правда, все они потом погибли. Один сразу, когда я его сбросила с себя, и он ударился головой. Второй был иностранец. Умер у себя на Родине от СПИДа. А третий выбросился из окна, когда шёл судебный процесс, и он понял, что будет обвиняемым.
– Ты роковая женщина, – тихо, как бы про себя, проговорил Иван крестьянский сын.
Но Настенька услышала.
– Это мне не приходило в голову. Но, наверное, ты прав. Выходит, все, кто имел дело со мной в любви, ушли из жизни. Вот и Володенька. Он же на самом деле любил меня. Он взял на себя ответственность после моей беременности неизвестно от кого из трёх, пошёл в роддом и дал согласие на аборт, представившись гражданским мужем, а потом стал моим законным, и у нас родилась девочка, но мёртвой, и мне судьба вручила сына другой женщины, которая отказалась от него в том же роддоме. Тогда я Володеньке не сказала, что это не его сын, а потом Володя умер от белокровия.
Иван крестьянский сын сидел, растерянно опустив руки с колен, и лицо его выражало ещё большую боль и печаль.
Рассказывая свою историю, Настенька не смотрела на Ивана, вся уйдя в воспоминания. Закончив говорить, она подняла глаза и твёрдым голосом сказала:
– Ваня, я впервые в жизни была столь откровенна. Извини, но я прошу тебя сейчас уйти. Мне очень тяжело. И не надо ничего говорить. Я прошу.
Иван крестьянский сын поднялся, молча надел куртку и шапку, но, открывая уже дверь, как бы заметил:
– Но я буду приходить к тебе. – И вышел.
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ НЕСЧАСТЬЯ
1.
– Эту землю, покрытую вечной мерзлотой глубиной до ста пятидесяти и трёхсот метров, с мощными ледниками до нескольких сотен метров толщиной и почти постоянными снегами, окружённую ледовитым океаном, происходящим от слова лёд, вряд ли кто-то мог бы назвать землёй обетованной, хотя кто её знает – историю?
Услышав слова про историю, Настенька невольно улыбнулась. Говорил ни кто иной, как доктор исторических наук, археолог, прекрасно знавший историю, но вот, подишь ты, вроде бы сомневается. Но она без всякого смущения переводит сказанное трём норвежцам, что приехали во второй половине дня, устроились в гостинице, пообедали в гостиничном баре, а теперь вот решили посетить музей. Тут как раз была намечена лекция для вновь прибывших шахтёров и их жён. Такая традиция здесь – перво-наперво знакомить в музейной комнате библиотеки с историей Шпицбергена.
Посовещавшись, решили присоединить норвежцев к этой же лекции. Переводя почти синхронно, стараясь не очень отставать от говорящего, весьма пожилого, но довольно энергичного, подвижного, что было естественно при его худобе и небольшом росте, человека. Но говорил он неторопливо, время от времени поглядывая на переводчицу спокойно, не напрягая её взглядом, а, казалось бы, думая о своём.
– Ведь находят же шахтёры в угольных пластах Шпицбергена окаменелые листья древних папоротников или их отпечатки. А в 1961 году норвежская экспедиция обнаружила гигантский след, оставленный на этой земле миллионы лет назад динозавром. – И Фёдор Васильевич – так звали автора музейной экспозиции – показывает на экспонаты окаменелостей и фото следа динозавра, поясняя свою мысль:
– Значит, шумели здесь когда-то джунгли, гуляли меж деревьев древние ящеры, пели песни райские птицы? Мог и этой край стать обетованным. Впрочем, и сейчас в летнее время на архипелаге поют остроклювые с серыми спинками и хитринкой в глазах пеночки, гуляют белоснежные куропатки, постоянно кричат о чём-то чайки да носятся с кораблями наперегонки глупыши, а хозяин Заполярья белый медведь оставляет, конечно, не такие большие следы, как динозавр, но тоже весьма впечатляющие в сравнении, например, с мелкими отпечатками ног песца.
Нет, теперь райским уголком холодную землю, где мороз зимой проявляет себя, опускаясь до сорока шести градусов, а в короткое время лета едва достигает плюс двадцати, назвать трудно. Но опять же, кому как. Был обычай у поморов ставить на высоких местах, чтоб с моря заметно было, высокие семиметровые обетованные кресты, у подножия которых давали обет сюда вернуться. Называли их и приметными крестами, служившими знаками, наносимыми на лоцманские карты, и поклонными для поклонения. Всё одно. – И Строков показывает указкой на фотографии поморских крестов.
– Только известно, что с давних пор тянуло сюда людей, как магнитом. Кругом льды, ураганные ветры, снег колючками бьёт в лицо, ни зги не видно, когда ночи бесконечно длинны, волны высотой аж под самое небо захлёстывают судёнышки со всеми мачтами и переборками, чего, спрашивается, лезть в такую стихию? А лезут. И первыми сюда направились русские поморы. Ну, никак не сиделось им на обжитых берегах Сибири, строили свои деревянные кочи, налаживали паруса и шли по морю-океану ещё дальше на север, туда, где вспыхивает вдруг белым сиянием ночной небосвод, да потом окрасится разными красками, и пойдут гулять по небу разноцветные волны, аж сердце замирает от красоты невиданной. В дороге тонули судёнышки, погибали люди, но тяга к новому, неизведанному сильнее смерти у русского человека, и ничто не могло его остановить.
По тому, как говорил профессор, видно было, что он влюблён и в Шпицберген, и в русский народ, который, по его мнению, да и на основании показываемых им музейных экспонатах, были первыми на Архипелаге. Слова его лились подобно песни:
– По меньшей мере, за сто лет до того, как голландский мореплаватель Уиллем Баренц наткнулся кораблями его экспедиции на землю, которую назвал за остроконечные пики холмов Шпицбергеном, что стало известно всей Европе, русские поморы уже целый век вели своё промысел на архипелаге, который называли по-своему Груланда. А несколько позднее это наименование трансформировалось в более короткое и звучное Грумант или более ласково Батюшка Грумант. Именно о нём слагали поморы песни, кои исполнялись по возвращении с далёкой земли посказатели да песенники. Вот одна из них.
Строков опять взглянул на Настеньку и извиняющимся голосом произнёс:
– Я буду напевно говорить, медленно, и хоть слова будут попадаться старинные, я думаю, вы поймёте для перевода. – И, делая большие паузы, которые только придавали эмоциональность тексту, он начал почти петь:
– СТИХОСЛОЖНЫЙ ГРУМАНТ
В молодых меня годах
жизнь преогорчила:
Обручённая невеста
перстень воротила.
Я на людях от печали
не мог отманиться.
Я у пьяного у хмелю
не мог звеселиться.
Старой кормщик Поникар
мне судьбу обдумал,
На три года указал
отойти на Грумант.
Грумалански берега —
русский путь, изведан.
И повадились ходить
по отцам, по дедам.
Мне по жеребью надел
выпал в диком месте.
…Два анбара по сту лет,
и избе за двести.
День по дню, как дождь, прошли
три урочных года.
Притуманилась моя
сердечна невзгода.
К трем зимовкам я ещё
девять лет прибавил,
Грозной Грумант за труды
меня не оставил.
За двенадцать лет труда
наградил спокойством,
Не сравнять того спокою
ни с каким довольством.
Колотился я на Груманте
Довольны годочки.
Не морозы там страшат,
Страшит тёмна ночка.
Там с Михаилы, с ноября,
Долга ночь настанет,
И до Сретения дня
Зоря не проглянет.
Там о полдень и о полночь
Светит сила звездна.
Спит в молчанье гробовом
Океанска бездна.
Там сполохи пречудно
Пуще звёзд играют,
Разноогненным пожаром
Небо зажигают.
И ещё в пустыне той
Была мне отрада,
Что с собой припасены
Чернило и бумага.
Молчит Грумант, молчит берег,
Молчит вся вселенна.
И в пустыне той изба
Льдиной покровенна.
Я в пустой избе один,
А скуки не знаю,
Я, хотя простолюдин,
Книгу составляю.
Не кажу я в книге сей
Печального виду.
Я не списываю тут
Людскую обиду.
Тем-то я и похвалю
Пустынную хижу,
Что изменной образины
Никогда не вижу.
Краше будет сплановать
Здешних мест фигуру,
Достоверно описать
Груманта натуру.
Грумалански господа,
Белые медведи,—
Порядовные мои
Ближние соседи.
Я соседей дорогих
Пулей угощаю.
Кладовой запас сверять
Их не допущаю.
Раз с таковским гостеньком
Бился врукопашну.
В сенях гостьюшку убил,
Медведицу страшну.
Из оленьих шкур одежду
Шью на мелку строчку
Убавляю за работой
Кромешную ночку.
Месяцам учёт веду
По лунному свету,
И от полдня розню ночь
По звёздному бегу.
Из моржового тинка
Делаю игрушки:
Веретенца, гребешки,
Детски побрякушки.
От товарищей один,
А не ведал скуки,
Потому что не спущал
Праздно свои руки.
Снасть резную отложу,
Обувь ушиваю.
Про быванье про своё
Песню пропеваю.
Соразмерить речь на стих
Прилагаю тщанье:
Без распеву не почтут
Грубое сказанье.
Фёдор Васильевич остановился, показывая всем видом, что песнь завершена, и тогда раздались дружные аплодисменты. Хлопали ладонями и норвежцы. Лектор был доволен.
– Думаю, что наши гости из Норвегии тоже всё поняли, раз и они аплодируют.
– Я-а, я-а, – закивали они головами, и Настенька быстро перевела: «Да, да».
Все дружно рассмеялись, расслабляясь от слушания, И Строков, переждав смех и сам мягко улыбаясь, продолжил рассказ:
– А ещё вот уже второе столетие рассказывают о приключении четырёх русских поморов, вынуждено зимовавших на одном из островов Шпицбергена шесть лет и три месяца. Вкратце эта длинная, но очень волнующая история, которой заинтересовались и подвергли своему описанию многие историки и писатели разных стран, может быть передана следующим образом. Но сначала несколько слов о фамилиях героев. Дело в том, что первым приключения четырёх матросов описал, человек, воочию беседовавший с двумя из них, француз, российский академик Ле Руа, и он почему-то записал их под именами Алексей и Иван Химковы, тогда как по установленным в конце двадцатого века данным это были Алексей и Хрисанф Инковы. Эта фамилия кормщика упоминается даже в списке, составленным лично Михаилом Ломоносовым, как о поморе, зимовавшим шесть лет на острове Грумант. А произошло с ними вот что.
Однако, прежде чем продолжить рассказ, добровольный гид, он же и лектор предложил всем сесть на стулья, внесенные только что из читального зала библиотекаршей Марией Семёновной. Когда экскурсанты шумно расселись (Настенька посадила норвежцев сзади, чтобы не очень мешать своим переводом другим слушателям), и обратили своё внимание на оставшегося стоять перед ними Строкова, он опять поднял указку и поднёс её к большому фото шестёрки поморов. Все одеты в тулупы с перекинутыми через плечи ремнями и перепоясанные широкими поясами, высокие сапоги и на головах фуражки. Только у двоих вместо фуражек длинноухие шапки, доставшиеся поморам от их чудских предков. На поясах у каждого ягдташи для ношения добытой дичи и патронташи. Трое поморов бородачи и усачи, а трое ещё слишком молоды для такой мощной растительности, но, тем не менее, выглядят тоже богатырски.
– Вот, примерно так выглядели наши герои в те времена, когда летом 1743 года житель города Мезени Архангельской губернии Еремей Окладников снарядил и отправил для ловли в северных морях китов, моржей и тюленей судно с экипажем в четырнадцать человек. Торговля морским зверем носила международный характер, и промысел этот был весьма выгоден. Судно взяло курс на Шпицберген и первые восемь дней шло легко, быстро, при благоприятном ветре. На девятый день ветер изменил направление, русских моряков отнесло к востоку. Вместо того, чтобы подойти к берегам западного Шпицбергена, куда приставали корабли голландцев, англичан, шведов, русские моряки оказались неподалеку от одного из островов восточного Шпицбергена, известного у поморов под названием Малый Брун. Сейчас этот остров называется Эдж.
Указка рассказчика переместилась на висевшую тут же карту архипелага.
– Собственно же Шпицберген именовался поморами Большим Бруном.
Корабль поморов попал в ледяную западню. Положение становилось все более и более опасным. Решили высадиться на берег. Кормщик Инков вспомнил, что несколько лет назад жители Мезени зимовали на этом острове. Они приплыли сюда с уже подготовленным строительным материалом, соорудили на острове избу, жили и охотились здесь. Эта изба могла сохраниться.
Попавшие в беду поморы послали на остров четырех разведчиков – Алексея Инкова 47 лет, его крестника Ивана Инкова 23 лет, матроса Степана Шарапова 35 лет и матроса Фёдора Веригина 30 лет.
До берега было около четырех вёрст. Но каждый шаг грозил гибелью. Приходилось пробираться через ледяные торосы – нагромождение вздыбленных льдин, через скрытые снегом провалы и трещины. В дорогу пришлось взять лишь самое необходимое: немного продовольствия, ружьё, рожок с порохом на 12 зарядов и столько же пуль, топор, маленький котёл, 20 фунтов муки в мешке, огнянку (жаровню), кусок трута и огниво, нож, пузырь, набитый курительным табаком, да деревянные трубки для каждого.
Добравшись до острова, моряки вскоре обнаружили хижину, расположенную верстах в двух от берега. Она оказалась довольно большой: примерно 6 саженей (сажень – 2,13 метра) длиной и около 3 саженей по ширине и высоте. Изба делилась на сени и горницу. В горнице была русская печь, которая топилась по-чёрному. Дым выходил через отворяемую дверь или небольшие окна, прорубленные в стенах на высоте головы сидящего человека. Дым выходил наружу, не, опускаясь ниже уровня окон, и поэтому не причинял людям, сидящим в избе, особых неудобств. Но потолок в избе был от дыма чёрен. Когда кончали топить, окна плотно закрывали доской. На печи можно было спать.
Матросы несказанно обрадовались, найдя это пристанище. Дрожа от холода, кое-как провели здесь ночь, а утром поспешили на берег моря, чтобы поделиться с товарищами известием о своей удаче, чтобы всем вместе перенести с корабля на остров продовольствие, оружие, снаряжение. Каков же был их ужас, когда, выйдя на берег, на то самое место, где вчера высадились, они не увидели своего корабля! Перед ними было совершенно чистое ото льда море. Ураганный ветер, свирепствовавший всю ночь, разломал, разбросал ледяные торосы. Жестокая буря либо разбила корабль, либо вместе со льдиной, которая его сковала, унесла в открытое море. Больше они уже никогда не видели своих товарищей.
В полном отчаянии матросы вернулись в избу. Сразу же пришлось думать о пище, о жилье. Двенадцатью зарядами пороха, которые у них были, можно было подстрелить двенадцать сайгачей – диких северных оленей, их много ходило по острову. Совершенно не пуганные, они представляли из себя лёгкую добычу. Значит, еды на какое-то время хватит. Необходимо было как-то утеплить избу, залатать многочисленные и огромные щели, поправить отвалившиеся кое-где брёвна.
На острове в изобилии рос мох. Им законопатили стены. К счастью, был топор. Брёвна оказались крепкими, не гнилыми. Ну, а починить своими руками избу – привычное крестьянское дело.
Чем отапливать жилище? Ни деревья, ни кустарники на заполярном острове, конечно, не росли. На берегу нашли немало выброшенных волнами деревянных обломков судов, потерпевших кораблекрушения. Иногда попадались целые вырванные с корнями деревья, неизвестно откуда занесенные на остров.
Однажды кто-то из матросов нашёл доску с вбитыми в неё гвоздями и толстым железным крюком. Это оказалось очень кстати. Пороха уже не было. Мясо убитых оленей подходило к концу. Людям угрожала голодная смерть. Решили сделать рогатины, чтобы охотиться и обороняться от белых медведей, которые становились всё назойливее и наглее.
Чтобы отковать наконечники для рогатин и стрел, нужен был молот.
В железном крюке, который нашли вместе с доской, было на конце отверстие, его увеличили, вбили в него рукоятку и самый толстый гвоздь. Получился молот. Наковальней служил большой булыжник. Клещи соорудили из двух оленьих рогов. С помощью этих примитивных орудий отковали два больших железных наконечника. Потом отшлифовали и наточили их на камнях. Рогатины получились крепкие, надёжные, с их помощью можно было отражать атаки белых медведей. Мясо медведей, оленей, песцов спасало людей от голодной смерти, а звериные шкуры от полярной стужи. Необычайно крепкие медвежьи сухожилия использовали как тетиву для лука, ими же сшивали одежды из шкур.
Кроме двух больших железных наконечников для рогатин, матросы отковали четыре маленьких наконечника для стрел, отполировали, заострили и крепко привязали наконечники к стрелам с помощью шнуров из медвежьих сухожилий. Стрелы даже украсили птичьими перьями и чтобы лучше летели.
Пользуясь только этим оружием, они в течение шести лет и трёх месяцев кормили и одевали себя. Белых медведей убили всего десять, и каждый раз с большой опасностью для себя. Выходить из дому, как говорится, до ветру, приходилось всегда вдвоём или втроём.
Питаться приходилось полусырым мясом, потому что топливо оставалось самой большой драгоценностью. Ни соли, ни хлеба, ни крупы у них не было.
Чтобы как-то разнообразить еду, придумали коптить мясо, подвешивая его к стенам внутри избы и над кровлей, там, где его не могли достать белые медведи. Летом на воздухе мясо отлично высыхало и становилось чем-то немного похожим на хлеб. В питье недостатка не испытывали, оказалось, что на острове много ключей. Зимой растапливали в котле снег или лёд.
Страшной угрозой надвинулась цинга (скорбут). Матрос Иван Инков, который раньше зимовал на берегу восточного Шпицбергена, порекомендовал своим товарищам жевать ложечную траву, которая часто встречалась на острове, пить ещё тёплую оленью кровь, вытекавшую из убитого животного, советовал, как можно больше двигаться. Эти средства помогли. Больше того, островитяне стали замечать в себе удивительную, небывалую подвижность. Так, Иван Инков, самый молодой из них, стал бегать с поразительной легкостью и быстротой.
Матрос Фёдор Веригин не смог преодолеть в себе отвращение к оленьей крови. К тому же он от природы был слишком неподвижен, медлителен, не мог активно противостоять болезни. Он заболел цингой раньше всех. Болезнь прогрессировала. Жестоко страдая, он слабел с каждым днём. Потом уже не мог ни подняться с постели, ни даже поднести руку ко рту. Товарищи кормили его, как малого ребёнка. Веригин умер зимой 1748 года. Эту смерть все тяжело переживали.
Островитяне вскоре оказались бы совершенно раздетыми, если бы не перешли на одежду из звериных шкур. Они спали на оленьих и песцовых шкурах, шкурами укрывались. Но шкуры надо было выделывать, дубить. Поморы вымачивали их в пресной воде, мяли и растирали размокшие кожи руками, покрывали их растопленным оленьим жиром, потом снова мяли, пока они не становились мягкими и гибкими.
Чтобы сшить одежду из меха или кожи, нужны были шило и игла. Пришлось их выковывать, обтачивать на большом камне. Огромного труда стоило просверлить игольные ушки, и всё-таки они не получались ровными и гладкими. Нитки (жилы) то и дело рвались в ушках.
Остров, пленивший поморов, довольно большой – 150-170 вёрст в поперечнике, лежит он между 77°25′ и 78°45′ северной широты, или, по выражению Леруа, «между концом третьего и началом четвёртого климата». Полярный день длится там четыре месяца.
Проблемой было и освещение в избе в тёмное время. Но хозяйственные поморы и эту проблему решили. Из глины, которой было много под ногами, они вылепили плошку, из кусков одежды сделали фитиль, налили в плошку растопленное оленье сало, и получилась лампада. Но горячий жир к несчастью стал впитываться глиной и протекать сквозь неё. Тогда они сделали новый глиняный сосуд, высушили его, промазали изнутри жиром, смешанным с небольшим количеством муки, и прокалили сосуд на огне. К общей радости плошка получилась твёрдой и перестала пропускать растопленный жир. Но для большей уверенности поморы оторвали лоскутки одежды, смочили их в мучном растворе и облепили ими плошку снаружи. Теперь лампадка могла работать бесконечно долго, не забывай только подливать жир. В избе теперь был всегда свет и кроме того лампада всегда дарила огонь для раскуривания трубок и для разжигания огня в печи. Поэтому островитяне сделали на всякий случай несколько таких плошек.
Всё время пребывания на острове поморы вели календарь. Они считали для себя очень важным точно знать дни церковных праздников. Шли годы, бесконечно долгие полярные ночи сменялись полярными днями, когда солнце по четыре месяца не уходило за горизонт. Тут не мудрено было сбиться со счёта. Тем не менее, их календарь оказался довольно точным. 15 августа в церковный день успения к острову подошло судно. А наши поморы отметили день успения за два дня до этого. То есть ошибка их календаря была очень незначительной. Штурман Алексей Инков хорошо умел определять время по высоте солнца в дневное время и по положению звёзд в ночной темноте.
Появившееся в море судно, как потом выяснилось, принадлежало русскому купцу. Шло оно из Архангельска и первоначально планировало идти на зимовку к Новой Земле, но по предложению Вернезобера было отправлено к Шпицбергену. К счастью для наших островитян, ветер пригнал корабль не к западному, а к восточному Шпицбергену, к острову Малый Брун, почти к тому же месту, где они сами когда-то высадились. На острове разожгли костры, размахивали рогатинами и шкурами. Очень волновались: вдруг их не увидят и пройдут мимо. Но на корабле заметили дым и сигналы, кормщик изменил курс, и судно, несмотря на опасные подводные камни, подошло к берегу.
Трое оставшихся в живых островитян упросили капитана взять их на службу матросами. А за доставку имущества обещали по возвращении на родину уплатить восемьдесят рублей. Поморы погрузили на судно пятьдесят пудов оленьего жира, двести оленьих шкур, больше двухсот шкурок белых и голубых песцов, медвежьи шкуры. Не забыли взять свой лук, стрелы, рогатины, лампады, топор и сильно сточенный нож, самодельные иголки, ремни – словом, всё, что у них было и чем обзавелись.
Фёдор Васильевич закончил рассказ, и было похоже на то, что это его совсем не утомило, так как он тут же пригласил всех подойти к витринам, говоря при этом:
– К сожалению, всех этих реликвий героев у нас пока нет, поскольку они хранятся в Архангельском краеведческом музее, но мы надеемся открыть когда-нибудь в Баренцбурге большой музей поморов и сделать более полными и интересными наши экспозиции.
2.
Этот понедельник оказался для Настеньки поистине тяжёлым днём, хотя погода была замечательная, солнечная, радостная отражениями почти безоблачного неба в голубых спокойных водах фиорда, на которые Настенька неустанно поглядывала, любуясь. До приезда иностранцев новой переводчице пришлось с самого утра, после раннего завтрака в столовой, бежать в управление рудника, чтобы пройти процедуру оформления на работу, где её ускоренным темпом, учитывая послеобеденную занятость, прогнали через отдел кадров, бухгалтерию, профсоюз и отдел техники безопасности.
Так же скоренько пообедав, быстрым шагом и даже почти бегом по дороге, выложенной бетонными плитами, но покрытой уже снегом, она примчалась в кабинет Василия Александровича, который сам только собирался на обед и предложил ждать приезда гостей, сидя у него в помещении, чтобы слышать появление снегоходов. Их тут называли скутерами. Но не успел шеф уйти, как послышалось сначала отдалённое, потом совсем громкое жужжание моторов, и к гостинице подкатили три скутера. Настенька ещё не разделась, а Василий Александрович уже оделся, чтобы отправиться в столовую, так что они вместе вышли на крыльцо.
Все приехавшие были одеты, как показалось Настеньке, в комбинезоны, но на самом деле в специальные костюмы для езды на снегоходах, не продуваемыми, облегающими всё тело с головы до ног единой, тёплой, не рвущейся материей, застёгивающейся почти по всей длине молнией, и завершающейся капюшоном. На лицах надеты большие защитные очки, на руках большие тёплые рукавицы. Экипировка показалась Настеньке отличной.
Норвежцы при виде встречавших, ещё сидя на снегоходах, весело помахали руками и приветственно закричали:
– Хай!
– Хай! Хай! – Ответил Василий Александрович и тоже поднял приветственно руку.
Настенька ещё не привыкла к такому выражению, но быстро сориентировалась и тоже сказала «Хай!».
– Ну, вы пока устраивайте их в гостиницу, – проговорил торопливо Василий Александрович, а я пойду, пообедаю, чтобы успеть открыть им почту.
В гостинице на втором этаже прямо против лестницы было помещение, называвшееся почтой. И на самом деле, оно служило отделением почтовой службы норвежского посёлка Лонгиербюена, куда Настенька прилетела, но видела там лишь аэропорт, а с самим городком ей предстояло только познакомиться. Но функции этого почтового отделения ограничивались продажей норвежских марок и открыток, с чем справлялся Василий Александрович, используя свой небольшой запас английских слов.
Настеньке при оформлении на работу в Москве говорили, что ей придётся заняться в Баренцбурге и почтой. Но, когда вчера она сказала об этом Василию Александровичу, полагая, что облегчит его задачу, к своему удивлению, она услышала:
– Ну, пока Ваша помощь здесь не требуется. Я сам с усам.
Настеньке было невдомёк, что почта – это денежное дело, давало какой-то доход в валюте, от которого шеф не собирался отказываться, несмотря на то, что попутная должность продавца открыток, казалось бы, не сочеталась с высоким положением уполномоченного треста в Норвегии.
Настенька занялась гостями. Это два рослых парня с крупными чертами лица и не отстающая от них в этом отношении девушка. Сняв с себя очки, скинув с голов капюшоны, взяв со скутеров небольшие сумки, они последовали за Настенькой.
Комендант Сергей Степанович открыл три номера на втором этаже – тут никаких проблем не было. Но вопрос, который задала ему Настенька, поставил его в тупик. Она поинтересовалась, как будут рассчитываться приехавшие гости и с кем. Выяснилось, что деньги получал всегда переводчик и относил их в бухгалтерию, но никаких квитанций он не выписывал, а кассовых аппаратов на руднике с роду не существовало.
На вопрос: кто брал деньги в отсутствие переводчика, Сергей Степанович ничтоже сумняшися ответил, что он сам брал и относил будто бы в бухгалтерию.
Не долго думая, пока иностранцы приводили себя в порядок в своих номерах и потом обедали в баре, Настенька распечатала на машинке под копирку в двух экземплярах квитанции об оплате, указав цену за трое суток, и там же в баре, где норвежцы допивали свой кофе, она взяла с них кроны, виденные ею впервые в жизни. То, что она рассчитывалась именно в баре, оказалось удобным, ибо сдачу переводчица, не имевшая в своих руках валюту, она дать не могла бы, не разменяй большие купюры у барменши Кати, которая спокойно принимала всю оплату наличными.
Норвежцы были приятно удивлены, получив квитанции, которые представляли из себя обычные стандартные листы бумаги, но пронумерованными, с названием фирмы, именами клиентов, с указанием даты, подписи – всё честь по чести. Этому Настенька научилась в институте на лекциях по деловому английскому языку.
К этому времени пришёл из столовой Василий Александрович и открыл свою почту. Настенька привела туда норвежцев. За стеклянной перегородкой были разложены открытки с видами Шпицбергена, конверты и почтовые марки. Шеф, сидя на стуле за прилавком, в белой рубашке с расстёгнутым воротником и без галстука похож был на настоящего служителя почты. Его вопросительный взгляд приглашал делать покупки.
Но это была бы не почта, если бы здесь занимались только продажей, как в обычных киосках. Пожалуй, главным атрибутом всякой почты является наличие почтового штемпеля, наносящего на конверты и открытки оттисков с датой и наименованием почтового отделения. Баренцбург – хоть и не самый северный населённый пункт, так как севернее норвежский Лонгиербюен и ещё севернее российский посёлок Пирамида, где тоже есть почтовое отделение – но туристы, посещающие то ли все посёлки, то ли какой-нибудь из них, очень любят покупать открытки, тут же делать на них скорое послание и оставлять их на почте для отправки с почтовым штемпелем, подтверждающим их историческое пребывание на далёком архипелаге. А некоторые особые любители протягивают свой паспорт и просят поставить оттиск штемпеля в нём, дабы навечно отметить это важное для них событие. У самых заядлых путешественников собирается целая коллекция таких штемпелей из разных стран, что является предметом гордости и о чём можно рассказывать своим друзьям за бокалом вина, подтверждая сказанное штемпелями в паспорте.
При выходе, на стене крыльца гостиницы висит большой почтовый ящик, куда и опускаются открытки или конверты с письмами. В дни приезда туристов ящик заполняется почтовыми отправлениями, которые Василий Александрович иногда тут же достаёт, упаковывает в специальный пакет и просит иногда тех же туристов, возвращающихся морем, вертолётом или снегоходами в норвежский посёлок, передать на их главную почту для дальнейшей отправки самолётом скандинавских авиалиний, обслуживающих Шпицберген. Бывает так, что туристы, путешествующие теплоходом, отправляют из Баренцбурга письмо, которое приходит по адресу раньше отправителя, что его особенно радует.