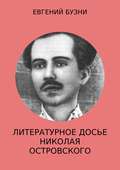Евгений Николаевич Бузни
Настасья Алексеевна. Книга 4
Я всё больше убеждаюсь в том, что из Джанкоя в теперешнее время мне нельзя уезжать, т.к. перспективы на будущее здесь гораздо лучше, чем в Симферополе. Мне ещё несколько землемеров предлагали взять меня весною к себе в партию, и обещают в одно лето сделать из меня землемера. А ведь это не дурно: без работы землемеры не бывают никогда, да и оплачивается их труд прекрасно, а материальная обеспеченность в нашей жизни играет громадную роль и в особенности нужна в семейной жизни, жизни, дающей новую жизнь. Ты знаешь, о чём я говорю?…
Я часто представляю себе картину, когда мы вечером, сидя в уютной комнатке, будем забавлять смеющегося, прелестного, всего в кружевах, малыша, а затем будем укладывать в люльке, освещённой мягким розовым светом, рассказывать ему сказки».
Землемером, правда, Николай Ипполитович не стал, хоть и работал в наркомземе главным бухгалтером, но любовь, дети и олеандры в квартире были.
А кем же явилась к нему его ненаглядная избранница?
История мамы
В давние-давние годы привезли в Россию из Турции мальчика. То ли воевали в те времена с турецким пашой, да оказался мальчонка без родителей и кто-то взял его с собой, то ли ещё почему, но дали мальчику фамилию Туркин. Вырос он и оженился на россиянке, которая родила ему в 1856 году девочку Машу. Она-то и стала нашей прабабушкой, когда вышла замуж за белоруса Андрея Егоровича Миронова, служившего канониром в русском воинстве, а потом писарем, хотя отец его был крепостным крестьянином, и родила нам будущую бабушку Лидию Андреевну. Её нам довелось хорошо знать и любить за удивительно добрый нрав учительницы гимназии.
А связала она свою судьбу с белорусом Владимиром Гущинским, матерью которого была полька Александра Ставрович, что добавило нам к турецкой, русской и белорусской крови ещё немного польской к той, что уже была. Поэтому, если говорить о кровном родстве, то я бы затруднился сказать, чьей крови в нас больше: чешской, молдавской, греческой, турецкой, русской, белорусской или польской. Всего понемногу в кровеносных сосудах.
Но вот я смотрю на фотографию большой семьи из тридцати четырёх человек (29 – взрослых и 15 – детей) 1912 года, и к ней у меня имеется интересный документ. Это приглашение родственников на празднование золотой свадьбы. Текст отпечатан на пишущей машинке с буквами ять и высокопарным слогом. Привожу его полностью:
«Милостивый Государь!
Свидетельствуя всем и всему Вашему семейству своё почтение, настоящим имею честь предложить Вам следующее: близким и родным по крови, как нам, так и Вам, дорогим нашим родственникам, Терентию Егоровичу Почкаеву и супруге его Ефросинии Сазоновне Почкаевой 29 апреля сего текущего года наступает 50-летие со дня их бракосочетания, что знаменует собой золотую свадьбу.
Желая почтить такую редкую совместную их жизнь, мы остановились на той мысли: пусть эта память 50-летия союза супружеской любви, верности останется светлым днём в сердцах всех близких и дальних их родственников, пусть послужит она руководящим примером единодушия в нашей же семейной жизни, а им на старости лет /обоим вместе 156 лет/ настоящим чествованием отраду и, быть может, последнюю для них в сей скорбной жизни радость.
Мы, представители сего чествования, крайне бы желали, к великой нашей радости, видеть всю собравшуюся на это чествование семью из фамилий Почкаевых, Красницких, Ставровичей и Гущинских в одном месте, помолиться о здравии наших дорогих юбиляров и собственном, и да послужит оно к сплочению всех этих отдельных самих по себе членов в такую массу, в которой мы, надо сознаться, нуждаемся, и от отсутствия которой /сплочённости/ страдаем во всех формах нашей земной жизни.
Мы надеемся, что Вы, Милостивый Государь, откликнитесь на этот душевный призыв, не считаясь с некоторыми, быть может, отрицательными для сего условиями и почтите с Вашим дорогим семейством пожаловать к нам к этому дню, в воскресенье 29 апреля на станцию, где будет всё подготовлено для приёма наших дорогих гостей.
О Вашем намерении покорнейше просим сообщить нас не позднее, как за три недели до наступления праздника».
К письму прилагался порядок чествования юбилея, включающий в себя присутствие в местной церкви на Божественной литургии и молебне, фотографирование всех родственников в доме, игру оркестра, с 4 до 6 вечера общее ознакомление всех с вопросами о семейной, религиозной и политической жизни, с 8 до 9 отдых и прогулка, ужин. От главы каждой семьи требовался определённый взнос, который включал стоимость фотографий, рассылавшиеся затем по почте. Ответ просили прислать на станцию Орша, туда, где родилась наша мама.
Этот снимок на юбилее я и рассматриваю. Слева на нём вижу гордую осанку красивой женщины с медальоном на груди. Это наша бабушка Лидия Андреевна. Неподалеку от неё с медалью на сюртуке сидит её отец, наш прадед Андрей Егорович Миронов с нашей трёхлетней мамой у его колен. По правую руку от него находится его жена Миронова (бывшая Туркина) Мария Александровна, а по левую руку с нашей будущей тётей Маней на руках торжественно восседает юбиляр Почкаев плечом к плечу со своей супругой, на коленях которой наш будущий дядя Тёма, впоследствии ставший страстным охотником и рыболовом. За спиной у бабушки стоит её муж Владимир Андреевич Гущинский. Но мы с ним знакомы только по фотографиям. На фото справа стоит, скрестив руки, бабушкина сестра Елена Андреевна, получившая после замужества фамилию Голенко, знаменитую уже тем, что её сын Георгий Борисович, наш двоюродный дядя, воевал на финском фронте, а после войны стал адмиралом военно-морского флота СССР, и мы были очень дружны и до сих пор не прерываем связи с семьёй его сына, нашего троюродного брата Андрея.
Но я уже забежал вперёд. После того, как наши будущие родители поженились, они сразу же позаботились об осуществлении папиной мечты, так что в 1930 году появился сын Рома, через семь лет дочь Галя, а спустя три года, накануне войны, родились и мы – близнецы – Женя и Тёма. Папа, хоть и был в солидном возрасте, ушёл на фронт, правда, служил, как грамотный человек, писарем в части (кому-то ж надо было выполнять и эту работу), а вся наша семья была в военные годы в эвакуации, о которой я вспоминал в своём стихотворении «Сорок первый»:
Нам повезло –
успели переправиться
туда,
куда снаряд не долетел.
И в детской памяти
прошла эвакуация
лишь голодом шатающихся тел.
Заключение
В нашем архиве сохранились и письма папы с войны, и письма мамы папе на фронт, и письма бабушки из Симферополя, когда она с нетерпением ждала нашего возвращения и всё высматривала любимый поезд, в котором надеялась увидеть дочь и внуков. Открытки от папы приходили иногда на фирменной бумаге с изображением в углу звезды с серпом и молотом посередине и надписью: «Красноармеец! Презрение к смерти рождает героев! Не знай страха в борьбе за нашу Родину, за наши города и сёла, за наших отцов, матерей, жён и детей». Вот, например его письмо, написанное 5 июля 1942 года на одной странице, которая складывалась втрое перед отправкой и заклеивалась:
«Дорогие! Пишу под впечатлением очень грустным. Пришлось нашим войскам отдать Севастополь, и пока что наши мечты об освобождении Крыма и возврата туда на старое место на некоторое время откладываются. Я думаю, что мы пойдём туда скоро, но пока об этом не слышно. Нахлынули воспоминания: как я в Симферополе в коляске возил по ул. Горького наших близнецов, как Галочка пела «Ой, пропали гуси, один серый, один белый», прогулки на ставок и рыбная ловля с Ромой, купание, катание в лодке, санаторий Кучук-Ламбат, курсы бухгалтерии и наши прогулки.
Читаете ли вы газеты? Почему не пишешь, получила ли справку, которую я послал заказным письмом. Очень мало вы мне пишете, я обижаюсь и сам перестану писать вам в наказание. В последнем коротком письме было обещание подробного письма, и я его не имею, а беспокоюсь я ужасно, так как ты писала о том, что заболел Тёмик и ты не можешь достать для него Сульфедин. Сейчас лето – и желудочные болезни, как ты знаешь, очень опасны для ребят, тем более, если у них дизентерия или холера, сульфедин надо достать обязательно, я бы вероятно это сделал.
Шурочка, если ты мне пришлёшь от врача справку о серьёзности болезни Тёмика, то меня смогут отпустить в кратковременный отпуск, и я либо по дороге, либо в Степанакерте или в Тбилиси достану сульфедин с таким расчётом, чтобы хватило на будущее. Только с присылкой справки поспеши, очень уж хочется увидеть вас и помочь в ваших делах путём личного посещения Азторга, секретаря Райкома и вашего начальства. Это возможное дело, некоторые у нас уже побывали в отпуску.
Срочно пиши, как твои денежные дела. Если увидимся, поговорим многое, а когда пишешь, многое, о чём думал написать, забываешь в момент писания письма. Я живу по-старому, пишу день-деньской, жду новостей от вас и с фронтов. Целую вас всех крепко. Ваш Коля
От кого получаете письма? Не думаете ли ещё уезжать в деревню? Очень прошу, пиши чаще, если есть конверты, пришли. Как здоровье Юрика, мамы и Маруси? Как ведут себя Рома и Галя? Целуй их и наших близнецов».
Но если это письмо написано мелким убористым почерком, то письмо старшему сыну Роме (ему тогда уже исполнилось 12 лет) папа писал крупными буквами, чётким почерком:
«8/VI-1942 Дорогой Ромочка!
Хороший ты у меня сынок, что не забыл своего папку и написал ему несколько строк; когда вернусь домой, крепко расцелую тебя за это, ты представить себе не можешь, как я был рад твоему письму, хотя ты его и не закончил и не подписал, но это пустяки. Я хочу тебя просить об одном важном для меня деле, которое, я думаю, ты будешь выполнять, если меня любишь. Это вот какое дело: мама очень всегда занята работой в учреждении и дома и часто писать мне письма не может, поэтому я прошу тебя не реже, чем через 2-3 дня писать мне письма о том, как вы живёте подробно без прикрас и хорошее и плохое, какие успехи наших близнецов Жени и Тёмы, как поживает моя Галюська, как их кормят в яслях и детском саду, что вы достаёте для питания деток и что сами кушаете, как с хлебом, хороший или опять плохо выпеченный, регулярно его получаете, не болеете ли, читаете ли газеты, какая у вас погода, что есть на базаре и почём, как ты справляешься с домашними делами, читаешь ли книги и решаешь ли задачки, кто где спит и как спите, исчезли ли блохи?
Одним словом, пиши обо всём, не забудь написать, как живёт бабушка и Маруся с детками, как здоровье Юрика, от кого ещё получаете письма.
Мне живётся неплохо, работаю много, целыми днями пишу и пишу, недавно на три дня уходили в поход на учения.
Недельки через 2-4 поедем крушить своей артиллерией фашистов и освобождать от них нашу Родину и в частности наш Крым и Симферополь. Я здоров, только от недостатка витаминов имею на ноге фурункул.
Целую тебя, Галочку, Женюрку и Тёмочку несчётное число раз, очень по вас тоскующий папа».
Мы жили в Азербайджанском городе Агдам, а письма приходили из Тбилиси, где стояли наши войска. Отец служил в 5-й батарее артиллерийского полка. Он просил писать почаще. Не знаю, кому было труднее: ему на фронте или маме в тылу. Приведу одно письмо мамы, написанное сразу после отправки семьи в эвакуацию, точнее после прибытия на место в октябре 1941 года, когда отец был ещё в Крыму, а немецкие войска только подходили к нему. Письмо написано частично чернилами, а частью карандашом на старом бланке промыслово-кооперативного товарищества. Видимо, другой бумаги для письма не было. В нём писалось:
«Дорогой Коля!
Получили твою телеграмму 13-го, наверно в ответ на ту, что мама послала тоже. Ну, мы устроились в общем так. Живём в комнатушке при дет. площадке. Спим пока на полу. Сделают три топчана. Больше не станет. Маруся работает в кухне: копает картошку, жнёт коноплю. Мы с мамой помогаем дет. площадке кое-что. Хлеб и картошку получаем. Мама ездит на базар в Отрадное по воскресеньям, покупает яблоки, лекарства и что унесёт из продуктов: масло, сало. Здесь можно найти курицу за 8, гуся за 15 р., а вот муки нет. Купила мама глиняной посуды для молока. Съедаем 4-5 литров в день. В общем не голодаем, только не хватает овощей и фруктов. Семечек много. Табаку нет. Мама поневоле бросает курить. Рома пошёл в школу 4-летку. Нету книг. Если можно выслать бандеролью, пришли, Коля, его историю грамматики и достань остальные для 4 класса: географию, задачник, хрестоматию и др. Если можно, то присылай какие-нибудь журналы или книги для чтения. Это, если придётся здесь зимовать, помрёшь с тоски. Газету здесь видим редко, новостей не знаем. Не жалеешь ли, Коля, что отправил нас сюда? Галя каждый день спрашивает, когда папа за нами приедет. Далеко забрались, теперь хочешь – не хочешь, вернуться нельзя. (Дальше письмо написано карандашом). 20/IX. Продолжаю. Посмотри, Коля, и напиши, дома ли мой жакет и детские пододеяльники. Матрацы ты, наверное, не положил. Ах, как плохо. Получили твою открытку; очень все обрадовались, так хочется домой, только скоро ли? Не хватает нам многого: диэтичного питания, одежды для детей, галош, света, кончаются свечи, керосина нету. По приезде дали лампу – уже выгорела. Галя и я страдаем желудками и кроме того меня зубы день и ночь не дают покоя. Сделали нам 2 топчана. На одном Маруся с Юрой, на другом я с одним и Галей. Другой малыш на детской раскладушке и Томила. Мама с Ромой пока без места, но будет и им. Купила тапочки вместо туфель. Из Темрюка послала тебе телеграмму. Разве не получил?
Как мы ехали, я пока тебе не пишу. Скверно приходилось. Не спали мы втроём взрослые почти все ночи. Малыши с голоду высохли. Теперь немножко отошли. Очень благодарна я только Мазур и Рае за помощь. Спасибо Евдокии Михайловне, что вернулась за чайничком. Как бы мы обошлись без него? Передай ей большое спасибо. Он нас выручал: хоть кипятку доставали в дороге. Напиши, Коля, как ты дежуришь. Я думаю, тебе не скучно с Александрой Ивановной, Муськой, Полей, словом, утешителей много. Ну, целую крепко. Пришли бумаги».
Такая была переписка. Шли годы войны с горечью поражений и радостью побед. После окончания войны мы вернулись из эвакуации в Симферополь. Жили на улице Дражинского в небольшой двухкомнатной полуподвальной квартике две семьи. Многие спали на полу. Тикали часы-ходики. Дядя тёма однажды во сне схватил рукой опустившуюся над ним гирю часов и оторвал её. Днём он пытался разорвать цепь руками и не смог, а во сне удалось.
Папа вернулся с фронта и устроился работать главным бухгалтером в Ялте сначала в санаторий «Нижняя Ореанда», а, спустя два года, перешёл на ту же должность на кинофабрику, ставшую потом киностудией художественных фильмов, откуда и ушёл на пенсию и дожил до девяноста пяти лет, исполняя обязанности добровольного дежурного в Ялтинском горно-лесном заповеднике. О том, что он потомственный дворянин мы никогда не вспоминали, потому что не было такой необходимости. Мама занималась в основном воспитанием детей, иногда подрабатывая счетоводом или бухгалтером в разных организациях, пока не вышла на пенсию.
Так складывалась история семьи Бузни, а как она пойдёт дальше – это уже другой рассказ. Но завершить историю я хочу своей поэмой, посвящённой этой же теме.
МОЯ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ – ЧЕЛОВЕК
Поэма о важном
1
И в Тамбове я помнил про Крым,
но не тот, что в руках был Батыя,
а другой, что себе я открыл,
раздвигая небесные крылья…
Я родился под сердцем его,
беспокойным в чреде революций.
Моё детство счастливо легло
в колыбель симферопольских улиц.
Звёзды добрыми были в тот день,
как и тысячи звёздных лет прежде.
Я родился, и должен теперь
оправдать их большие надежды.
Через первые годы мои
говорливые воды Салгира21
животворной струёй протекли,
открывая сокровища мира.
2
Мой край, что опоясан пеной моря,
подарен мне пять тысяч лет назад.
Я скиф, я тавр,
и пусть со мной не спорят.
Не опровергнуть слов, что я сказал.
Мой слог пророс из хеттского наречья,
славянским распустившимся цветком.
Шумеры и аккады из Двуречья
не знали, но мечтали о таком.
Мои слова рождаются из песен,
назад пять тысяч лет напетых мне.
Кто знает все любви большой предтечи?
И на какой плывут они волне?
3
Ещё тогда волна ласкала берега
горы, уснувшей возле моря, как медведь,
что б я сегодня к морю Чёрному шагал,
чтобы сегодня мог о Чёрном море петь.
Какие б ветры ни гуляли над тобой,
мой край любимый, где родился я и рос,
я крымский скиф и тавр, и я навеки твой,
и прорасту через тысячелетье гроз.
4
Я скиф, я тавр, я россиянин,
на русской крови я взращён,
на четверть чех и молдаванин,
поляк и белорус ещё.
А если глубже покопаться,
то мой прапрадед турок был.
Его в Россию взяли в рабство,
мальчонкой -
он смышлёным слыл.
В России вырос, оженился
на русской девице как раз.
И хоть давно сам обрусился,
но дочка Туркиной звалась.
А уж она, на белоруса
любви тенёта разбросав,
мне мать родила белорусскую,
вложив турецкие глаза.
5
Я не любитель наций никаких.
Ведь я родился интернациональным.
Не нужно говорить мне «Ну и псих!».
Я русским вырос под звездой братанья.
Да, русские прошли через монголов,
оставив у себя следы татар
и поглотив их корни в русском слове,
как поглощает небо дым и пар.
И облака плывут и небо красят,
хоть небо хорошо само собой.
Впитали мы и англичан и басков,
французов, немцев, как никто другой.
Мы русские во всём гостеприимны.
Таков обычай на моей Руси.
Всех принимаем и в труде, и в гимне,
любовь ко всем с пелёнок мы растим.
Но все ли? Вот вопрос задам вначале.
Ответ не ляжет в строчку без печали.
6
Вопросами на площади палатки
у здания правительства стояли.
Татары крымские в руках кепчонки жали
и голосили, что не всё в порядке.
Их Сталин, мол, убрал совсем из Крыма
за чьи-то смерти, за предательства отдельных.
Плохих в любом народе меньше – верно.
Но истина не сразу всем открылась.
Когда Батый на Русь ордами двинул,
жёг сёла, русских женщин забирая,
копьём в чужую землю упираясь,
он не считал себя несправедливым.
Но то была пора средневековья.
Цивилизация пришла в народы.
В народе русском поговорка ходит:
Глаз вон тому, кто старое припомнит.
Крым русский ли, татарский, украинский?
Такой вопрос казался раньше детским.
Все знали лишь одно, что Крым советский.
И всем один закон был для прописки.
7
Прошли года, но память не уходит.
Прибалтика, Молдавия, Кавказ.
Весь мир перекосился, стал уродлив.
Рознь наций лопухами разрослась.
И листья лопухов, что глушат совесть,
врастают в улицы и транспорт городов,
в смертельный муджахеда прячась пояс,
выглядывая из парламентских домов.
Почто? Зачем? Кому всё это нужно?
Пройдут века, и больно будет всем
за это время жидкое, как лужи,
и грязное от мрази лживых дел.
Зачем живём?
Берёзы не ответят,
прошелестев стихами под рассвет.
Мы на земле все маленькие дети.
Купели нашей миллиарды лет.
Миг нашей жизни должен быть достойным,
зерном, проросшим колосом хлебов,
где каждый колос счастлив тем, что волен,
и для всемирной жатвы он готов.
8
Я скиф, я тавр, я киммериец,
я славянин и в чём-то грек.
Моя,
прошу вас, присмотритесь,
национальность – Человек!
И я пою мою поэму
национальности своей.
Иную веру не приемлю.
Я верю ценности людей.
Ни раса, ни национальность,
ни вера в чьё-то божество
не успокоит мир наш славный,
не даст нам счастья торжество.
Лишь только вера в человека,
лишь только вера в день-деньской,
когда нет наций, нет расцветок,
нам принесёт любовь с собой.
Я скиф, я тавр, я киммериец,
я славянин и в чём-то грек.
Моя,
прошу вас присмотритесь,
национальность – Человек!
БОРЬБА ПОД СОЛНЦЕМ
1.
Теперь, когда у Настеньки должен был родиться ребёнок, она не знала ещё сын или дочь, но твёрдо решила, что он будет, её мысли возвращались вновь и вновь к роду Бузни, в продолжение которого вносила свою лепту новая семья Инзубовых. Каким он будет – их ребёнок? Кем он станет в сегодняшней быстро меняющейся жизни?
Вспомнилось детство. Счастливая пора. В первом классе они все мечтали поскорее перейти во второй класс и стать пионерами, носить красные галстуки. А для этого надо было хорошо учиться и не баловаться в школе. И она училась. А потом с замиранием сердца чувствовала руки старшей пионервожатой, которая нежно повязала на шею галстук. И стихи. Они не забываются до сих пор:
Как повяжешь галстук,
Береги его.
Он ведь с красным знаменем
Цвета одного.
Красное знамя – символ победы. Знамя пионерской дружины тоже было красным. Где сейчас это знамя? Где пионерские дружины? Где пионерские горны, зовущие ребят к хорошим делам в общем строю? Где красные галстуки? Чем будет занят её мальчик или девочка, когда пойдёт в школу? Какая идея будет объединять малышей? Что будет звать их в будущее? Есть? Пить? Зашибать деньгу любыми способами? В чём они будут видеть смысл жизни?
История. Всё в ней последовательно. Всё закономерно. Питекантропы и другие человекообразные думали только о еде и первые орудия труда у них были тоже для добывания еды. Проходили века, тысячелетия, человек развивался, стал умнеть. Теперь ему было мало – только есть и пить. Хотелось развлечений. И доразвлекались. У власти стали не те, кто с сильными мышцами и могли защитить своё племя, а у кого работал лучше ум, чтобы взять власть на себя. Появились вожди, монархи, шахи, цари и короли, потом уже президенты. И всё сопровождалось войнами, в которых бедный простой люд использовался в качестве солдат для защиты интересов тех же шахов, королей, царей, президентов. А это надо ему – народу? Но кто его спрашивает? Теоретически рабства уже нет на земле. А практически? Вон, даже несчастный директор рудника чувствует себя маленьким, но царьком, и как-то обмолвился и, может, не один раз, что шахтёры все его рабы, что хочет, то с ними и сделает. При советской власти он такого сказать не мог. Там был профсоюз и партийная организация, без ведома и согласия которых он даже уволить никого не мог. А уж приказать шахтёрам собирать в нерабочее время валяющиеся на берегу фиорда нанесенные волной брёвна, чтобы продать их потом норвежцам за наличный расчёт и деньги положить себе в карман, такое и в голову не могло прийти, а в нынешнее время пришло. Правда, за такую работу шахтёрам выписывались «упряжки», то есть рабочая смена, как будто бы они трудились в шахте, или выдавалась бесплатно бутылка водки, которая могла легко списываться по акту на бой. А шахтёр «облагодетельствованный» таким образом, раболепно называл директора родным отцом.
Когда портовый рабочий нелегально продал норвежскому мотоциклисту канистру бензина, узнавший об этом директор гневно распекал его на шахтёрском общем собрании и грозился отправить нарушителя на материк, а сам, между тем, продавал бензин тоннами направо и налево владельцам норвежских рыболовецких судов, заходивших в Баренцбург специально, чтобы заправиться дешёвым российским топливом. Настенька аккуратно получала с них норвежскую валюту, выписывала квитанции за каждую такую заправку и сдавала всё в бухгалтерию, не подозревая о том, что ни квитанции, ни деньги не попадали в управление треста.
И вообще. Что такое жизнь? Зачем она? Никто не знает. Но мы живём. Только все по-разному. Однако все живут, чтобы жизнь продолжалась. Настеньке вспомнились строки стихов Евгения Николаевича, её Женьчика:
Я для того родился на земле,
что б каждый слабый ставил ногу твёрже
с моею помощью, коль повстречался мне.
И ведь он так и живёт, никому не отказывая в помощи. Даже почтовые посылки с вертолёта и на вертолёт сам грузит, если рядом не оказываются рабочие. Да и в Лонгиербюене помогает норвежскому почтовику Хальге укладывать в машину посылки русских, ничего за это не прося.
А сама Настя разве не такая же? Выйдя замуж, она видит своё назначение в жизни для мужа и их будущего ребёнка. Она переводит слова Евгения Николаевича иностранцам, переводит то, что он пишет уже не столько за зарплату, а потому что это нужно ему, потому что ему это помогает решать важные вопросы. Она живёт для него. Это в первую очередь. А и для других тоже. Переводит же она, когда попросят шахтёры или их жёны, инструкции к магнитофонам и другой технике, которую они выписывают из-за границы, и никогда не берёт за это деньги, считая плату за помощь, которая ей ничего не стоит, унизительной. Правда, просители обычно не остаются в долгу и дарят Настеньке то плитку шоколада, то бутылку сладкого вина. Отказываться от подарка неудобно, и она берёт с благодарностью, что бы дарителей же потом и угостить при случае.
Словом, они были очень похожи друг на друга – Евгений Николаевич и Настенька. И они скромно улыбались, слыша, как приехавший с визитом генеральный директор треста «Арктикуголь» Павел Филиппович высказался однажды:
– Мне тут все говорят, что вы оба бессребреники. Это удивительно, но хорошо.
Он, к сожалению, не мог сказать так о себе и директоре рудника. Евгений Николаевич, как уполномоченный треста, обязан был заниматься и финансовыми операциями. Они были простыми: деньги, которые иностранные фирмы перечисляли за некоторые услуги треста, такие как продажа добываемого угля, собранного с берегов леса и других товаров, Евгений Николаевич должен был из норвежского банка переводить на два московских счёта треста в определённой пропорции и регулярно отчитываться за переводы, посылая факсы в трест неким шифром, указывая только переведенные суммы без упоминания номеров счетов.
Евгений Николаевич догадывался, что один из счетов принадлежит лично генеральному директору, но догадка это не есть факт. То, что деньги уплывали из государственных рук в частные, становилось обычным делом. А как этому воспрепятствовать, если всё кругом становилось на частные рельсы, большинство руководителей зависели друг от друга не только положением, но и экономически? Так и директора рудников на Шпицбергене чувствовали себя фактическими владельцами шахт. Товары, имевшиеся на складах, директора, узнав о девальвации рубля, скоренько списали, как уже проданные по старым ценам, и начали продавать шахтёрам по возросшим новым, направляя весь доход в директорский карман.
Это хорошо понимали в управлении треста, но что же делать, если перед глазами акты на списание, заверенные печатью? Генеральному тоже не трудно было всё понять и потому, прилетая на Шпицберген, он с удовольствием получал от директоров на командировочные расходы валюту, которую свободно тратил на покупку себе и своей семье зарубежных вещичек в норвежских городах, через которые проходили авиарейсы.
Настеньке очень не хотелось, да она просто не могла себе представить, чтобы их ребёнок вырос таким мздоимцем. Ей думалось, что изменения в стране, в которой теперь властвуют деньги, временны, и скоро вновь придёт советская власть в улучшенном виде, ещё крепче, чем была, ещё надёжнее для народа, а их ребёнок будет счастливым в этой обновлённой стране, став учёным, писателем или таким же переводчиком, как она.
И вдруг в голову пришла мысль: «А почему она не предполагает, что ребёнок вырастет и станет шахтёром? Разве она презирает шахтёрский труд?» Нет, конечно. Шахтёры как раз очень хороший по природе народ. С ними всегда легко. Им можно доверять. Они не обманывают, не хитрят. А чего им хитрить? Работа у них трудная и опасная. Года не проходит, как кто-то из них погибает в шахте. Никто никого не подсиживает. На их место никто не зарится. Но шахтёрами становятся обычно те, кто не поступил в институт или техникум, кто не приобрёл себе другую специальность. Правда, важно и то, что они хорошо зарабатывают – гораздо больше, чем получает Настенька. И многие едут за Полярный круг специально, чтобы заработать себе на машину или квартиру, а то и дом. Так это и нормально. Они честно получают деньги за свой нелёгкий труд.
Понятное дело, что те из них, кто приходят заниматься английским языком к ней на курсы, с трудом постигают иностранный язык, и обучать их очень и очень нелегко. Только Настенька не показывает виду, что ученики у неё слабые, что с детьми заниматься легче. Она упрямо требует от них заучивать наизусть разговорные фразы: «Привет!», «Как вас зовут?», «Как дела?» и другие, так необходимые им в разговоре с часто приезжающими в посёлок норвежцами. И с каждым слушателем она говорит так, словно влюблена именно в него и хочет, чтобы он понял, что она сказала. Даже, когда на занятия приходит Евгений Николаевич, она не делает различия между ним и шахтёрами так, будто это не её муж, называя его мистером Инзубовым, а чаще «мистер Женя», поскольку и других учащихся кличет по именам.
Конечно, мечталось Настеньке, недалеко то время, когда в подземных кладовых перестанут работать киркой да лопатой, когда приходящие им на смену механизмы полностью заменят тяжкие ручные усилия, а шахтёры будут техники и инженеры с высшим образованием. Сохранят ли они к тому времени свою рабочую искренность, открытость, напоённость радостью труда? Может быть, именно её ребёнку предстоит такая модернизация труда, а не борьба за власть, за место под солнцем, за безразмерные счета в банках. А то вдруг сын или дочка станет лётчиком или космонавтом? Кто знает?
2.
Они прилетели в посёлок Пирамида втроём: Андреас Умбрейт, Евгений Николаевич и, конечно, Настенька. Вертолёт мягко присел на маленькую посадочную площадку, пожужжал винтами, разгоняя под собою недавно выпавший снег, и затих. Коротенький трап спущен, и пассажиры один за другим сошли на землю. Первым буквально выскочил механик Володя. Кожаная куртка на нём не вполне сочеталась с высокими бахилами на ногах, но так ему было удобнее работать в случае необходимости посмотреть двигатель или шасси. Вышедший вторым, одетый в красный тёплый комбинезон и чёрные сапоги, был немец Умбрейт. За спиной у него висела неизменная двустволка. Она в данном случае была не лишней, ибо Пирамида лежит на пути миграции белых медведей, так что встреча с ними и в действующем шахтёрском посёлке могла быть в любое время, а уж в закрытом, из которого все почти выехали, тем более.
Да, шахту на Пирамиде, закрыли. Причина для угольных рудников банальная – эндогенный, то есть подземный пожар. Ещё в 1970 году самовозгорелись угольные пласты. А кто работал или связан был с угледобычей, тот знает, как трудно погасить тлеющий или даже горящий пламенем уголь, который подпитывается воздухом через прорубленные штольни. Ведь даже огромные терриконы, красующиеся на материке возле шахт, эти гигантские склады отвалов угольных пород, дымят, напоминая собой вулканы, и температура в них может достигать тысячу и больше градусов. А что же говорить о невыработанных пластах угля, которые могут воспламениться то ли от взрыва газа метана, то ли самостоятельно при стечении ряда обстоятельств?