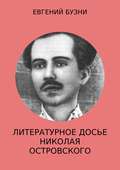Евгений Николаевич Бузни
Настасья Алексеевна. Книга 4
Евгений Николаевич рассмеялся:
– Это не проблема. У Настасьи Алексеевны давно текст экскурсии написан. Остаётся только выучить наизусть, как стихи. – И уже серьёзно сказал: – Завтра же идите на приём к генеральному директору. Только он решает о приёме на работу. А я позвоню сегодня директору рудника Леониду Александровичу, чтобы он записал вас на приём и походатайствовал. И скажите, если спросит, что с нами вопрос согласован.
А на следующий день произошёл смешной казус. Надежда пришла к генеральному директору, который принимал сотрудников в кабинете директора рудника и в его присутствии, и обратившись с просьбой перевести на работу в качестве коменданта, заключила свою просьбу для убедительности, как она думала, словами:
– Настасья Алексеевна согласна.
Лицо генерального директора, привыкшего, что здесь всё решает он, побагровело, и он едва не взорвался, но пересилил себя и спросил Леонида Александровича:
– Кто это Анастасия Алексеевна, что даёт согласие на работу? Зачем мне её согласие?
Перепуганная Надежда решила, что всё пропало, когда услышала спокойный голос Леонида Александровича:
– Павел Филиппович, вы же помните, что мы приказом организовали туристическое бюро? Гостиница входит в административное подчинение заведующей Болотиной Настасьи Алексеевны. Она вместе с Евгением Николаевичем Инзубовым разговаривала с Надеждой Тарасовной прежде чем направлять её к вам. Ну, и я тоже думаю, что она нам подойдёт, так как она знает английский язык и может сама разговаривать с туристами и выписывать счета на оплату.
Так и разрешилась едва не возникшая конфликтная ситуация, и Надежду приняли комендантом гостиницы. В тот же день был подписан приказ, а как только улетел предыдущий комендант, семья Надежды переселилась в гостиницу. С тех пор Надя часто приглашала к себе в гости Евгения Николаевича и Настеньку. Поэтому и в этот раз Евгений Николаевич принёс наловленную рыбу Надежде с тем, чтобы она приготовила её и, как обычно, устроила застолье, что и произошло.
На жареную рыбу гостеприимная Надежда пригласила кроме своих шефов Настеньки и Евгения Николаевича свою подругу по столовой и, как оказалось, землячку Маричку, тоже с Западной Украины, но приехавшей сюда с мужем из Донбасса, откуда его пригласили как опытного шахтёра. Это был рослый парень с густой шевелюрой светло-серых волос и обладающий настолько могучим басом, что ему приходилось его притушёвывать, когда все начинали после принятия некоторого количества спиртного хоровое исполнение украинских песен, а его голос буквально заглушал хор.
Пришли и живущие здесь же в гостинице Люба с Игорем. Она работала в баре гостиницы и охотно занималась у Насти на курсах английским языком, который ей был очень нужен в почти ежедневном общении с иностранными туристами. Бар был специально для них. Всё, что там имелось: русская водка, французские вина, виски, ром и другие напитки, а так же закуски, различные блюда, привозимые из столовой, чай, кофе, яичница, сигареты и русские сувениры – продавалось только за норвежские кроны. Люба принадлежала к роду чувашей. На круглом лице выделялись чуть раскосые глаза и большие губы. Чем-то она понравилась Леониду Александровичу, что он поставил её на это хлебное место, приносящее доход в валюте не только тресту.
Однажды Евгений Николаевич заметил, что в баре появилось баночное пиво, которое привезли на рудник с материка, и он поинтересовался у Любы, как оно сюда попало. Дело в том, что все продукты в бар закупались в Лонгиербюене за кроны и продавались здесь с небольшой наценкой. Всё актировалось. А тут водка и пиво из магазина Баренцбурга. Люба, несколько смущённо сказала, что всем распоряжается директор. А через полчаса в кабинете уполномоченного треста раздался телефонный звонок от директора. Тот мягко, а он умел так говорить с нужными людьми, сказал:
– Я прошу вас, Евгений Николаевич, не вмешивайтесь в работу бара.
А ещё несколько минут спустя, позвонил консул и спросил, почему Евгений Николаевич расстроил Любу.
Словом, уполномоченному треста стало понятно, что не его дело финансовые отношения на русских посёлках.
И мужа Любы Владимира, невысокого, но плечистого и мускулистого парня, Леонид Александрович взял к себе водителем на газик, что тоже означало приближённость к директору.
До начала вечера, когда входили гости, в центре внимания оказывался маленький Тарасик. Как ни в чём не бывало, он подходил к взрослым и протягивал руку. Ничего не подозревающие гости, улыбаясь, брали его руку и внезапно отдёргивали свою ладонь, ощутив электрический разряд, с треском проскочивший между соединившимися руками. Мальчишка хохотал и предлагал руку следующему гостю. Происходило то же самое. Это казалось феноменальным. Мальчишка легко наэлектризовывался и как будто бы бил всех током, что очень развлекало малыша. Зато мама сердито говорила:
– Тарасик, перестань сейчас же. Ты так всех гостей разгонишь.
А гости, поняв, в чём дело, больше не касались мальчика, которому непременно хотелось снова ударить кого-то разрядом.
Но, наконец, все уселись за стол, накрытый, конечно, не только рыбой, но и массой других закусок в основном консервированных. Полярникам Шпицбергена ежемесячно выдавались различные овощные, мясные и рыбные консервы. Кому не хватало того, что выдавалось по разнарядке, могли прикупить в буфете или поюшарить в столовой селёдочку, солёную капустку, свеколку. Некоторые любители огородных дел устраивали у себя в квартирах на подоконниках целые оранжереи, где выращивали помидоры, перцы, огурцы. Надежда пока не успела взять себе рассаду из теплицы, но наметила на будущее.
Застолье было шумным. Евгений Николаевич часто запевал любимые им украинские песни «Ридна маты моя», «Ничь яка мисячна», «Реве та стогне Днипр широкий». И особенно всем понравилось, когда он запел популярную украинскую песню про Маричку. Ну, оно и понятно: все смотрели при этом на живую Маричку за столом. А Настенька запевала русские песни «Катюшу», «Ваку вакузнице», «Оренбургский платок» и «Стенька Разин». Потом, когда Тарасик лёг спать в соседней комнате, включили магнитофон и начали танцевать.
Почти за полночь разгорячённые, развеселившиеся гости стали расходиться по своим апартаментам. Евгений Николаевич провожал Настеньку до её номера. Никогда раньше он этого не делал. Она просто не позволяла этого, быстро взбегая по лестнице, если выходили из кабинета на первом этаже, или, останавливая его предупредительным жестом, когда он собирался пойти с нею. Тут как-то получилось само собой, что они дошли до самой её двери и Евгений Николаевич, тяжело вздохнув, вдруг начал:
– Настюша, я давно хотел тебе сказать…
Но она не дала ему договорить, прижав палец к его губам:
– Не надо, Евгений Николаевич. К вам через неделю прилетает жена. Не будем всё портить. Останемся честными до конца, – и, отперев дверь, вошла, оставив Евгения Николаевича в коридоре.
Настенька не могла себе и представить, насколько она была права.
2.
Середина октября ещё светлое время суток на Шпицбергене, когда полярная ночь приблизилась, но пока не наступила. Солнце появляется над горами поздно и уходит рано. Гуси, утки, журавли, лебеди и более мелкие пернатые обитатели архипелага такие как жаворонки, ласточки и прочая мелюзга давно покинули эти края, отправившись со своим недавно выведенным потомством в далёкое путешествие на юг, в жаркие страны. Улетели и крачки, так досаждающие людям своей агрессивностью особенно в период выведения птенцов.
Это удивительно смелые птицы почти полностью белого цвета, но с чёрными сверху головками. Проходящего мимо их гнездовья человека они бесстрашно атакуют, падая на него стрелой сверху вниз и норовя долбануть острым красным клювом в самую макушку. Не успевший отмахнуться получает внушительный удар в голову, после чего он уже не будет столь беспечным и станет постоянно взмахивать над собой руками, заслышав угрожающий крик несущейся на него крачки. Иной раз они пускаются в атаку по несколько особей сразу, что кажется вообще опасным для проходящей спокойно жертвы.
Не встретишь в октябре и такую же белую, но с чёрными крыльями, пухленькую красавицу пуночку, головка которой бывает бурого или рыжеватого, как короткий клюв, цвета. Это самая доброжелательная птаха, которую особенно ласково встречают в шахтёрском посёлке с приходом весны, благодаря её замечательно мелодичному пению. Она напоминает воробышка, весело скачущего по улицам почти под ногами людей, только белоснежного цвета и поющего.
А если вам пришло в голову прогуляться по берегу фиорда в летние месяцы с конца июня по конец августа, то всенепременно встретите среди гальки, такую же как она серую, остроклювую птичку, торопливо убегающую, но, казалось бы, не обращающую никакого внимания на вас, вечно занятую поиском выбрасываемой волнами пищи. Это морской кулик. К нему очень трудно приблизиться, чтобы поймать в кадр фотоаппарата, настолько он непоседлив и быстр в передвижении, беспрестанно суя свой нос в щели, ложбинки, трещинки между камнями. Но к сентябрю он тоже улетает в дальние края.
Зато чистики держатся дольше. Эти небольшие чёрные летающие создания снабжены смешными хохолками на голове, напоминающими рог. Этих птиц так много, а их рог настолько привлекателен, что в честь него назвали одну скалу горы Протектор, что в переводе с латинского означает «защитник», так как она находится у входа в Ис-фиорд, как бы защищая его от океана. Скала, получившее название «Рог чистика», выглядит птичьим хохолком горы.
Тут многие горы называются по какому-нибудь подобию. Например, две горы «Груди Венеры» сразу говорят сами за себя, на что они похожи. В районе Баренцбурга на противоположном берегу Грин-фиорда вершину горы называют «Спящий рыцарь». И действительно, не надо особо присматриваться, чтобы увидеть наверху очертания лежащей, словно уснувшей ненадолго, головы в шлеме. А на севере архипелага, возле международного научного городка Нью-Олесунд местной достопримечательностью являются три горы, которые прозвали Тре-Крунур, то есть «Три короны», по названию древнего деревянного замка шведских королей, сгоревшего дотла в 1697 году. На самом деле эти вершины напоминают три зубца одной шведской короны. Но символом Швеции изображаются три короны.
За год своего пребывания на Шпицбергене Настенька и Евгений Николаевич так часто летали на вертолёте, что лётчики смеялись, говоря, что им обоим пора выдавать сертификат пилотов. Помимо еженедельных полётов, а то и дважды в неделю, в Лонгиербюен или на Пирамиду, они успели побывать во всех населённых пунктах самого большого острова архипелага. Летали и в небольшой норвежский шахтёрский посёлок Свеагрува, и на польскую исследовательскую станцию Хорнсун, и в тот же Ню-Олесун, где раньше норвежцы тоже добывали уголь, но после взрыва метана в шахте в 1962 году, во время которого погиб двадцать один шахтёр, в связи с чем правительство страны вынуждено было уйти в отставку, через пять лет здесь сначала открыли телеметрическую станцию, а потом трансформировали её в международный научный центр. Всюду у Евгения Николаевича были дела по налаживанию связей с хозяйственниками и учёными Шпицбергена, по отправке и получении международной почты.
В этот раз они прилетели в Лонгиербюен для встречи самолёта из России, с которым прибывала очередная смена шахтёрам и Люся, жена Евгения Николаевича. Вчера супруги разговаривали по телефону. Люся безумно радовалась и басовито говорила, что ждёт, не дождётся, когда увидит своего любимого мужа. А сегодня утром начальник отдела кадров треста Копылкин позвонил Евгению Николаевичу и подтвердил, что самолёт вылетел и в нём находится вместе со всеми его супруга. Так что всё было в порядке. Через три часа самолёт ожидался в аэропорту Лонгиербюена.
Над аэродромом пролетали редкие чайки. Вдоль морской глади залива проносились редкие гигантские чайки – бургомистры да глупыши, не собравшиеся пока в миграцию. Некоторые бургомистры остаются на архипелаге даже в полярную ночь, продолжая усаживаться на подоконниках шахтёрских квартир, слабо надеясь на неожиданную пищу. В летнее время отдельные любители покормить огромную чайку открывают окно и оставляют на подоконнике лакомые кусочки то хлеба, то рыбёшки. Но ненасытным бургомистрам всегда этого было мало, и они начинали требовать ещё еду, громко стуча по стеклу своими мощными кривыми клювами и зло поглядывая на людей за окном. Так что прикармливание таких больших птиц являлось делом не безопасным.
Другое дело глупыши. Они тоже напоминают большую чайку, носятся в основном над водной гладью, соревнуясь с идущими судами на скорость, постоянно обгоняя их и, торжествуя, летя впереди. Только, если стоящие у бортов люди начинают бросать в воздух кусочки хлеба, глупыши, не смотря на такое прозвище, быстро разворачиваются в воздухе и с лёта подхватывают в клювы лакомство. Их можно встретить до самой полярной ночи. Вот и сейчас они стремглав проносятся недалеко от взлётно-посадочной полосы, которая идёт с одной стороны вдоль горы, а с другой стороны омывается заливом.
Это хорошо было наблюдать через широкое окно кафе на втором этаже аэропорта, в котором сидят Евгений Николаевич и Настенька и пьют кофе. Всякий раз, когда происходит смена шахтёров, у которых закончился контракт, уполномоченный треста с переводчицей прилетают в Лонгиербюен с первым рейсом вертолёта, чтобы наблюдать не за шахтёрами, а за правильностью оформления багажа, прохождения на посадку и для встречи прибывающего с материка нового пополнения. До прибытия самолёта ещё есть время.
В кафе приходят и некоторые шахтёры потратить заработанные на базаре кроны. Но, конечно, основную сумму в валюте они повезут с собой и обменяют в Москве на рубли. В советское время такой вариант был бы затруднителен, а теперь можно. Но и пошиковать в иностранном кафе, чтобы позже при встрече с друзьями рассказывать, как он был за границей и сидел в ресторане, иному человеку, не видевшему ничего другого кроме норвежского аэропорта, тоже хочется. Видя за столиком переводчицу, двое отъезжающих шахтёров, просят её помочь разобраться у буфетной стойки в ценах и объяснить норвежской буфетчице, что они хотят.
Настенька отходит с ними, помогает рассчитаться и возвращается к столу. Евгений Николаевич смотрит в окно, за которым видны низко проплывающие над фиордом облака. Под самыми лохмами тумана проносятся глупыши.
– Низкая облачность не такое уж редкое явление для Шпицбергена, – говорит он задумчиво.
– Да, уж, конечно, – соглашается Настенька, – не сенсация.
– Погода вообще редко выглядит сенсацией, тем более, здесь, на крайнем севере с его супер морозами и в то же время протекающим течением Гольфстрим. Вечная борьба тепла и холода, в результате чего постоянно то штормовые ветры, то тучи и облака.
– Как в политике, вечная борьба кланов, партий, бедных людей с богатыми. Там, однако, эта борьба всегда сопровождается сенсациями.
– Далось тебе это слово «сенсация»? – удивлённо сказал Евгений Николаевич, отодвигая пустую чашку в сторону. – Сейчас у нас в стране, что ни день, то политическая сенсация: то власть падает, то цены влетают. А раньше, ты помнишь, сенсации были в поэтическом мире. Как однажды Евгений Евтушенко опубликовал свои стихи во Франции. Его тогда начали чихвостить и в хвост и в гриву. Даже компартия Франции вступилась за него, так как стихи появились в их партийной печати. Но завистникам поэта было всё равно – главное, что стихи появились за границей в капиталистическом государстве. Для наших газет это была сенсация.
– А вообще-то человеком сенсацией, насколько я помню, называли Вознесенского.
– Ты права, но тогда в шестидесятые и восьмидесятые годы сенсационным был сам взрыв интереса к поэзии. Теперь он сходит на нет. Сенсацией стала политика. А, между прочим, я ведь встречался с Андреем Вознесенским в Ялте.
– Да ну! Как же это было?
– Так, ты же знаешь, что я был в литературном объединении и активно писал стихи, публиковал некоторые в «Курортной газете». Я часто бывал в доме творчества писателей, приглашая их на встречи с молодёжью или на книжные базары. Но Вознесенский никогда не отдыхал в нашем доме творчества, предпочитая гостиницы. Однажды я узнал, что он приехал в Ялту и остановился в гостинице «Украина». Кажется, мне об этом сказал наш ялтинский поэт Анатолий Никаноркин, с которым я был знаком. Ты, конечно, слышала о его необыкновенно талантливой внучке Нике Турбиной, которая начала сочинять стихи с четырёх лет, когда ещё сама не умела писать и потому диктовала их своей маме и бабушке. Знаменитая была девочка и, к сожалению, с тяжёлой судьбой, страдала психикой, в шестнадцать лет вышла замуж за семидесяти шестилетнего швейцарского психиатра, вскоре развелась с ним, а в двадцать восемь лет покончила с собой. Скоро слава её прошла и о ней все забыли.
Ты, конечно, слышала об этом, но, может, не знаешь, что в Ялте ходили слухи о том, что Ника незаконнорождённая дочь Вознесенского.
– Это я впервые слышу.
– Но я сам не знаю точно. Это слухи, как и то, что Вознесенский прилагал руку к стихам девочки. Если хотеть присмотреться, то что-то общее в них можно найти. Да, может быть, это оттого, что стихи маленькой ещё девчушки выглядели совершенно взрослыми. Но дело не в этом. Тогда я пришёл в гостиницу в люксовый номер познакомиться с Андреем. Меня поразило то, что я увидел. Вознесенский возлежал одетый на кровати, а вокруг почтительно стояла группа ялтинских поэтов. Все, казалось бы, непринуждённо беседовали. Я не понимаю, как такое могло быть. Известный молодой поэт лежит, а все стоят. Это какое же неуважение к товарищам по перу, да просто к людям! Ну, и я оказался в числе этих неуважаемых. Потом он поднялся, потому что надо было ему уходить. Я как-то тогда оказался в числе сопровождавших его на набережной и решился отдать ему листок со своими стихами, посвящённые ему же.
Евгений Николаевич посмотрел сквозь очки на слушавшую с большим интересом девушку, и глубоко вздохнув, вспоминая прошлое, продекламировал:
– Простите,
Андрей Вознесенский,
если хотите,
ответьте.
Я тоже пишу стихи.
У Вас не сдираю ни строчки,
но нравится мне Ваш стиль:
такой размашистый,
прочный.
Словно конь, закусив удила,
мчит по пашням,
а Вы, слегка
отклонившись назад,
поводья бросив,
швыряете взгляд
то в зиму,
то в осень.
И где ни вздохнёте,
там рифма cпадает.
Следующая не напротив,
а где-то подале.
И стих Ваш мечется,
но сквозь него
падает кречетом
конская дробь.
А почему я Вас никогда не видел,
хоть Вы часто бываете в Ялте?
Я в обиде,
но дело не в этом.
Представьте:
мне хочется просто сказать «спасибо!»
за то, что стиль Ваш
размашисто прочный.
Вы точки ставите
предельно точно.
За Вами скачем мы
конём норовистым
путём ухабистым
по сложным прописям.
– И как ему понравились эти стихи? – быстро спросила Настенька.
– Он прочитал их бегло и сказал, что ему понравилась строка : «падает кречетом конская дробь». Продолжения разговора не было, мы скоро расстались и я его больше не встречал. А стихи, названные «Андрею Вознесенскому» я потом дописал, предпослав им сначала эпиграф:
Алло, сенсация!
Физкульт-привет!
Шлю стихо-рацией
стихо-портрет.
А уже начатые стихи, которые я тебе прочитал после строк, где мы скачем по его сложным прописям шло у меня такое продолжение:
Но на минуту
глазами открытыми
рванёмся круто
сквозь параллелепипеды,
параллелограммы
стихов Ваших сбитых.
Посмотрим прямо
на то, что закрыто.
Мне кажется, чёртом
влезая в сенсацию,
теряем мы что-то
для всех обязательное.
Пусть форма,
пусть рифмы
необыкновенны.
Пусть слон давит рифы
могучим коленом,
и солнце раскатится
смехом занозистым,
пусть это сенсация,
но что-то не сходится.
Коперник смотрел
на людей изумлённо.
Открытие сверх
было сенсационно.
Но он открывал
не ради сенсаций
вращенья овал,
вращенье галактик.
Залпом раскатистым
плевала «Аврора»
не ради сенсации,
а ради народа.
Тот выстрел
сенсацией
стал вековою.
Жизнь им разрывалась,
рождаясь другою.
Чистому – чистое,
доброму – доброе.
Должно получиться,
чтоб все счастье добыли.
Для этого строчка
сенсационно умело
должна быть точной
с «Авроры» прицелом.
Пусть стих будет пушкой
и бьёт не касательной,
а прямо по душам,
не ради сенсации.
Чтоб он не "Озу"
заставлял обмозговывать,
а выбил слезу,
чтоб от стресса расковывать.
Чтоб в век технократно
смертельной опасности
мы не были б ватными
в строках неясности.
Стихом ли таращиться
в архитектуре
в последнем решающем
сражения туре?
Нам нужно стеною стать
против мерзавцев.
Нам не до сенсаций,
не до сенсаций.
– Здорово сказано, Евгений Николаевич. Вы послали эти стихи Вознесенскому?
– Ну, что ты, Настенька! Не думаю, что ему это понравится. А опубликовать эти стихи тоже вряд ли где-нибудь согласятся. Но мы с тобой заговорились, а самолёт должен уже подлетать. Пора нам с тобой спускаться вниз. Что-то там наши шахтёры поделывают?
В большом помещении первого этажа ожидавшие самолёта парни, почти все в дублёнках с нахлобученными на головы шапками-ушанками, стояли группками или сидели по одиночке на своих чемоданах. Особо смелые, видя, что невысокая фигура, подозрительно осматривающая всех, начальника отдела кадров Прибыльского отбежала в сторону, быстро доставали из-под полы бутылку водки, разливали в появившиеся из карманов рюмки прозрачный крепкий напиток, чтобы так же быстро опрокинуть его в себя и спрятав, запретное здесь зелье и приборы, спокойно закусывать, чем придётся, что тоже захвачено предусмотрительно с собой, замечая при этом:
– Как же можно не выпить за отъезд, за окончание такого необычного контракта, за расставанием с заполярным архипелагом, с которым, чем чёрт не шутит, возможно, придётся встретиться вновь и тогда снова выпить, но уже за встречу?
3.
Небесная птица, орёл воздуха, крепкокрылый лайнер, прославленный годами самолёт ТУ-154 подлетал к Шпицбергену, неся в своём нутре сто тридцать пассажиров и одиннадцать членов экипажа, включая опытных пилотов и молодых, но тоже опытных стюардесс и стюардов. Самой молодой из всего экипажа Катюше Ланцовой совсем недавно исполнилось двадцать шесть лет, а самому старшему, можно сказать, почётному ветерану, второму пилоту Борису Фёдоровичу Судареву уже было целых пятьдесят восемь. Естественно, он и налетал часов больше сорока пятилетнего командира воздушного судна Евгения Александровича Николаева на тринадцать тысяч. Потому он и сидел за штурвалом, пилотируя летательный аппарат, хотя на Шпицбергене садился впервые.
Погода была неважная: внизу тучи проливали дожди, да Борису Фёдоровичу не привыкать. Он их столько навидался в течение девятнадцати с лишком тысяч налётных часов, что переживать уж забыл как. Но, находясь в сплошном тумане, ничего не видя, поинтересовался у штурмана:
– Где мы?
В ответ спокойное:
– Пока держим так.
Командир попросил уточнить:
– Ты определил место?
– На траверзе поворотной точки, – ответил штурман, что означало «на девяносто градусов от точки поворота».
– Корректирующий поворот нужен будет?
– Мы заходим.
Первая связь со Шпицбергеном состоялась в восемь часов семнадцать минут. Диспетчер Лонгиербюена попросил соединиться с ним при удалении восемь миль. Зазвучал сигнал предупреждения об опасном сближении с землёй. Он длится шесть секунд. Пилот среагировал. Штурман ответил диспетчеру земли:
Вызовем вас на удалении десять миль. Но диспетчер повторил фразу:
– ВКО двадцать восемь ноль один, сообщите удаление восемь миль.
Бортинженер Анатолий, тридцати восьми лет от роду, сообщает коротко:
– Восемь миль.
Штурмана зовут Игорь Петрович. Он моложе Бориса Фёдоровича на восемь лет. Недавно исполнилось полста. Слыша бортинженера, спохватывается:
– Ах, на траверзе удаление восемь миль…
Диспетчер с земли говорит:
– Правильно.
Облака несутся сплошным месивом. Ни малейшего просвета. Опять звучит сигнал опасности сближения с землёй, но через две секунды прекращается.
В наушниках звучит:
– Снижаемся
Борис Фёдорович констатирует:
– Флажок исчез на моём инструменте!
Третий раз звучит сигнал опасного сближения с землёй.
Командир информирует:
– Я поворачиваю влево немного.
Борис Фёдорович:
– Поставь прямо.
Командир:
– Пятнадцать. Боря, получилось?
Видимости впереди никакой. Разговор идёт быстрый. Слова вылетают как пули из автомата.
– Поставь.
– Сколько?
– Выключи.
– Выключено.
– Что я должен держать?
– Хорошо оставь это.
– Так, какие будут рекомендации,
– Может, мы выполнили четвёртый слишком рано? – спрашивает Борис Фёдорович.
Командир отвечает:
– Выравниваемся. Нет, надо направо.
Штурман:
– Так, сейчас получится. Метка справа?
Борис Фёдорович:
– Нет, всё ещё там.
Командир:
– Направо! Поворачиваем направо!
И в четвёртый раз раздался предупредительный сигнал об опасном сближении с землёй. Но по-прежнему ничего впереди и по бокам не видно. А самолёт летит с бешеной скоростью. Это же не велосипед.
Командир корабля просит пилота:
– Дай мне схему захода, Боря.
– Мы должны здесь снижаться? – спрашивает он.
– Будем снижаться.
– Должны зайти?
– Давайте нырять. Какой курс ты держишь, спрашивает штурмана.
– Триста градусов. Но здесь это – четырнадцать.
Командир:
– О Кей. Да, поправь.
Штурман:
– Пять метров. Так, я буду держать триста двадцать. Хорошо?
Пилот обеспокоенно интересуется:
– Не слишком мало?
Штурман смотрит на карту:
– Должен быть корректирующий поворот.
Командир:
– Нет, поворачиваем влево!
Штурман, облегчённо вздохнув:
– Тринадцать. Можно спускаться.
Пилот:
– Влево!
Штурман:
– Три градуса и пять минут. Идёт по глиссаде.
Самолёт пилотирует Борис Фёдорович. Ему хочется как можно быстрее сесть, вытереть пот со лба, попросить Катюшу стакан воды а, быть может, даже горячего чая. Видимость нулевая, и он с надеждой спрашивает штурмана:
– Мы теперь на посадочном курсе, правильно?
Отвечает командир:
– Чтобы вернуться на посадочный, сделаем небольшую коррекцию влево.
Штурман провозглашает:
– Триста тринадцать. Снижаемся!
– Командир:
– Всё нормально. Триста градусов.
Пилот:
– Триста градусов. Это нормально?
Только настоящие лётчики могут понять этот волнующий момент посадки, когда взлётно-посадочная полоса находится в долине, окружённой горами, а те не видны , напрочь скрытые севшими прямо на них облаками. Уж какой опытный пилот Борис Фёдорович, какие он только тысячи ни налетал часов, а с таким впервые столкнулся, когда снижаться приходится в неизвестность, а штурман говорит:
– Летим до тысячи ста пятидесяти, слишком высоко, должны спуститься.
Ему вторит командир:
– Должны спуститься. Да.
А пилот спрашивает на всякий случай:
– Как мы заходим? Правильно или нет?
Но кто ж его знает, когда ничего не видно. Но самолёт идёт на посадку. И слова летят ещё короче, ещё стремительнее:
– Шасси?
– Шасси выпущены.
– Правее.
– Влево.
– Как идём по высоте?
– Триста пять метров. Снижаемся.
– Это примерно пять метров, или нет?
Пятый раз зазвучал тревожный сигнал опасного сближения с землёй. Но теперь это и понятно – они идут на снижение. Только вот полосы пока не видно.
Командир кричит:
– Горизонт!
Пилот:
– Го…
Диспетчер с земли:
– ВКО двадцать восемь ноль один, ветер от двести тридцать одного дробь семнадцать, видимость всё ещё больше, чем десять, дожди, облачность в девятистах футах и разрозненная в двух тысячах.
4.
К десяти утра, когда предполагалось прибытие самолёта, почти все отъезжающие на материк уже ожидали в здании аэропорта, нетерпеливо прохаживаясь и поминутно спрашивая Евгения Николаевича и Настеньку о последних сведениях. Естественно, ведь они собирались домой. В Москву приехали их родные для встречи. Последнюю партию шахтёров с Пирамиды вертолёт доставил полчаса назад.
Евгений Николаевич пошёл с Настенькой к начальнику аэропорта. Но он сам вышел навстречу из своего кабинета. Типичный норвежец крупного телосложения, полноватый, с изрядно поседевшей головой и небольшими усиками. На нём была белая рубашка, несколько скрадывавшая полноту тела, и чёрный галстук, придающий официальность. Он весьма редко улыбался даже на праздничных приёмах, куда его всегда приглашали. И сейчас он был сосредоточен.
– Hallow, Mister Pilckog! How are things going in?
Это приветствие «хэллоу» и вопрос «Как идут дела?» Евгений Николаевич знал и говорил сам на английском, а дальше для порядка переводила Настенька, хоть её шеф многое уже понимал без перевода.
– Хай, мистер Женя!
Пилског, как и многие норвежские партнёры, предпочитал обращаться к Евгению Николаевичу по имени, а не по фамилии. Произносить Инзубов им казалось сложнее, чем Женя.
– С минуту на минуту самолёт должен прибыть, – перевела Настя. – Десять минут назад поступило сообщение, что он пролетает над островом «Медвежий». Это первый пункт радиосвязи. Диспетчер дал добро на посадку со стороны гор.
Посадка самолётов предпочтительна со стороны фиорда, но диспетчер учитывает направление и силу ветра. Самолёты садятся обычно против ветра. Очевидно, в этот раз поддувало от фиорда.
Пилског ушёл в кабинет.
– Нет ничего хуже, чем ждать и догонять, – сказал мрачно Евгений Николаевич, и они с Настенькой вышли наружу.
Все те, кто оказался в это время здесь, смотрели на небо в сторону фиорда, в ожидании снижающегося самолёта. Евгений Николаевич и Настенька посмотрели в обратном направлении, но гор из-за сплошных низких облаков не было видно совсем. Не слышно было и звука пролетающего лайнера. Часы показывали двадцать пять минут одиннадцатого.
Евгений Николаевич с Настенькой пошёл к Пилскогу и опять они встретили его выходящим из кабинета. На этот раз на вопрос, как обстоят дела с посадкой, он хмуро ответил, что сам обеспокоен, не понимает, в чём дело, и пригласил последовать за ним на смотровую башню к диспетчеру полётов.
В круглом остеклённом со всех сторон зале напряжённо звонили телефоны. Дежурный диспетчер пытался вызвать на связь самолёт. Другой диспетчер разложил на столе карту местности и стал показывать по линейке предполагаемое направление движения самолёта. Приближение трагедии Евгений Николаевич понял по-настоящему, когда Пилског сначала попросил его уточнить число пассажиров и членов экипажа в заявленных списках, а затем поинтересовался, сколько горючего может быть в самолёте и долго ли он в состоянии продержаться в воздухе.
Все с беспокойством и ещё не оставленной надеждой смотрели на горы, откуда должна была совершиться посадка. То есть в направлении гор, которых фактически не было видно.
Евгений Николаевич, поняв, что дело не терпит отлагательства, скомандовал:
– Настя, переведи, пожалуйста, Пилскогу. Прошу вас разрешить нашему вертолёту немедленно подняться на поиски самолёта. У нас на взлётном поле стоят два готовые к вылету.