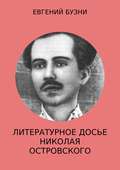Евгений Николаевич Бузни
Настасья Алексеевна. Книга 4
Когда она рассказала с чувством смущения об этом эпизоде Евгению Николаевичу, то он посочувствовал ей и добавил:
– Это меня не удивляет. Помнишь к нам летом приезжал Коре Карлстад со своей переводчицей?
Настенька помнила этого пожилого уже владельца судна, которое перевозило лес из Баренцбурга. Разумеется, на Шпицбергене лес не растёт, но в течение многих лет океанские волны прибивали в берегам архипелага брёвна, уносимые с материка. Как ни странно таких спиленных или срубленных деревьев за столетия принесло течениями столько, что ими усыпаны все шпицбергенские берега. И вот шахтёры по распоряжению директора Леонида Александровича собирали выброшенные на берег брёвна и использовали их иногда для постройки, а иногда для продажи. Коре с большой выгодой для себя покупал в Баренцбурге дешёвый лес. А так как он русский язык не знал, то с ним приезжала русская переводчица Мария. Поэтому Настенька в переговорном процессе не участвовала.
– Так вот, – продолжал Евгений Николаевич, – после успешных переговоров, в которых наш Леонид Александрович, – хорошо погрел руки, продав никем не учтённый лес, он пригласил Коре, нашего главного инженера Мизлумяна и меня в свою директорскую сауну. А Коре пришёл, понятное дело, с Марией. И ей одной молодой девушке пришлось раздеваться при всех мужиках, мыться в душе, сидеть в парилке. Правда, плавать в маленьком бассейне она отказалась, удовлетворившись душем. Ей, я думаю, пришлось труднее, чем тебе. Но она знала, на что шла. И потом, насколько я слышал от них, они поженились.
– Так он же почти старик.
– Зато богатый. У него в Осло свой дом. У нас в Баренцбурге швейную фабрику открывает.
– Я знаю, но думаю, лучше выходить замуж по любви, а не по богатству, – и Настенька обняла Евгения Николаевича, горячо целуя в губы.
Это был аргумент, против которого невозможно было спорить.
А сейчас они оба шли в бассейн через раздевалки. Он направился в левую – мужскую, она в правую – женскую. Надев резиновые вьетнамки и плавки, Евгений Николаевич ополоснулся в душе и вышел к бассейну, немного подождал, когда выйдет его партнёрша, они оба встали на тумбочки и дружно ласточками нырнули в тёплую зеленоватую морскую воду. Их тела, спаянные любовью, жили в гармонии друг для друга, чего нельзя было не заметить. Оба пловца в резиновых шапочках, делающих их головы похожими, вынырнули одновременно из-под воды и неторопливо, почти в унисон размахивая руками, поплыли к противоположной стороне. И то, как они размеренно гребли, не обгоняя друг друга, и то, как вместе оттолкнулись ногами от стенки бассейна, повернув назад и лёжа уже на спинах, и то, как были умиротворены их лица, обращённые к потолку, то, как они чувствовали друг друга, не могло не восхищать постороннего наблюдателя. Эти взрослые уже, но всё ещё молодые люди не кидались друг другу на шею, не целовались прилюдно, не обнимались поминутно, чтобы всем доказать свою верность и надёжность, но их взаимная любовь ощущалась во всём: в каждом взгляде, в каждом движении, в синхронности понимания того, что хотелось обоим делать, в угадывании мыслей, в спокойном разговоре между собой, как будто всегда на стороже, боящемся нечаянно обидеть словом, неосторожным взглядом.
3.
Тиграныч, так его все звали по отчеству, которое правильно было Тигранович, вёл вертолёт, как всегда, спокойно и уверенно. Его низкая коренастая фигура с водружённым на голову шлемофоном как бы впаялась в кресло пилота, руки слились со штурвалом, сосредоточенный взгляд охватывал приборную доску, следя за высотомером полёта и замечая одновременно сквозь огромное лобовое стекло, доходящее до дна кабины, узкую радужную полосу света на горизонте, говорящую о наступлении дня. Полярка шла к концу. Но не это занимало сейчас мысли начальника вертолётной службы Баренцбурга. Тиграныч за два года, проведенных на Шпицбергене, облетел почти всю северную часть архипелага, бывая с археологами на островах принца Карла, в норвежском посёлке Нью-Олесун и даже севернее в заливе Вудфьорд и на восточном побережье на Земле Улава Пятого.
На это побережье летели по просьбе английского туроператора Робина Буззы. Он зарабатывал на Шпицбергене тем, что возил туристов по архипелагу на собачьих упряжках. Но сам Бузза попал на Шпицберген весьма оригинальным способом, сделавшим его уникальной личностью.
Из Англии он отправился в путешествие к берегам Норвегии на вёсельной лодке. Собирался плыть туда с компаньоном, который в последний момент отказался от предприятия, и Робину пришлось плыть в одиночестве. В упорстве его натуры ему, конечно, не откажешь. Выросший в восточной Африке, он был послан учиться в Англию. После учёбы отслужил в армии и решил попутешествовать. Три месяца он шёл на вёслах вдоль Скандинавского полуострова, периодически останавливаясь на ночлег в береговых посёлках Норвегии, и добрался до города Тромсё. Там его видавшую виды лодку поместили в местный музей, а Робин отправился самолётом на Шпицберген, где и поселился, организовав свою туристическую фирму, объезжая с туристами на санях, запряженных пушистыми белыми собаками, всю территорию архипелага.
И вот по какой-то причине его группа застряла на восточной окраине архипелага, откуда не могла добраться на собаках. Почему Робин попросил помощи у русских, стало известно позже. Тогда небо всё было покрыто тучами, и Тиграныч поднял вертолёт выше облаков, чтобы случайно не наткнуться на какую-нибудь вершину. Летел по компасу. Точно выйдя к обозначенному на карте пункту, снизился почти до самой земли, вынырнув из-за облаков со стороны моря, и сразу же увидел впереди на берегу фигурки бегущих и размахивающих шапками людей. Дальше всё было просто. Посадка. Погрузка туристов со снаряжением. Полёт в столичный городок архипелага Лонгиербюен, где пассажиров уже ждал Робин.
Всё прошло замечательно, кроме одного. Бузза сказал, что заплатит за спасение группы, но не заплатил, сославшись на то, что, придя в контору губернатора, он узнал, что российским вертолётам на Шпицбергене не разрешено совершать коммерческие полёты, и ему как частному лицу, полиция не разрешает платить за услугу. Стало понятно, что Робин Бузза оказался хитрым дельцом, который не должен был обращаться в полицию за разрешением, а просто ему следовало заплатить свои деньги, как обещал, запрашивая помощь по телефону. Кроме того, норвежская полиция не имеет права вмешиваться в деятельность российских вертолётов, поскольку согласно Парижскому Договору 1920 года все страны-участницы соглашения пользуются равными правами по ведению коммерческой деятельности на архипелаге. Но дело было сделано, деньги не получены, и спорить с конторой губернатора не имело смысла, так как не они просили о помощи, а частное лицо.
Сейчас Тиграныч впервые направлял вертолёт в южную часть архипелага в Хорнсунн, где давно уже с 1957 года разместилась польская полярная станция. Это по приглашению польских учёных к ним летели главный археолог Строков, уполномоченный треста «Арктикуголь» Инзубов и переводчица Болотина. Так официально именовалась делегация. Переводчицу Настеньку взяли на всякий случай, поскольку из девяти жителей польской станции, хоть один да говорил по-русски, а Строков немного знал польский. Ему нужно было обсудить кое-какие археологические вопросы с польскими коллегами.
В сущности, насколько знал Строков, русские поморы оставили следы своего пребывания во всех частях архипелага, ещё до того, как здесь появились другие поселенцы. Залив Хорнсунн, куда они сейчас летели, самый южный на архипелаге и омывает собой землю Сёркапп, совсем рядом с которой находится небольшой остров Сёркапп, интересный уже тем, что на нём в 1827 году норвежский натуралист Валтасар Кейльхау обнаружил остатки русского поселения.
Я, дорогой мой читатель, позволю себе сделать небольшое отступление в историю, то есть процитирую строки из книги этого замечательного путешественника, оставленные им нам в память, проплывавшие перед глазами, читавшего их когда-то историка Строкова, и с небольшими моими пояснениями в скобках:
«Рано поутру 3-го, когда туман рассеялся, мы увидели, что совсем близко находимся от Сюдкапа (остров Сёркапп), он, казалось, был не слишком окружен льдом, и мы решили сделать попытку высадиться. Несмотря на значительное расстояние, отчётливо были видны некоторые из так называемых Тысячи Островов и Хоуп-айленд (остров Надежды) с семью заснеженными шапками фьельдов (горных массивов).
Мы тихо подошли к берегу, имевшему здесь совсем иную форму, чем на западном побережье: вместо тесно сбитых между собой фьельдов с острыми краями и зубцами, в этой южной оконечности Шпицбергена расположены лишь две широкие горы, образованные, как это стало видно ещё издали, слабо опустившимися горными пластами. С их северо-западной стороны уходило в сторону моря обширное и плоское ледяное поле, по другую же сторону этой громадной наклонной плоскости фьельды опять начали принимать острые очертания; впрочем, первая группа таких зубьев ещё была весьма скромной вышины.
В 10 часов утра мы миновали внешнюю толстую полосу льдов и больше не решались двигаться, поставили судно на якорь возле крупной неподвижной льдины. Снег шёл столь густой, что земли больше не было видно. Тем не менее, мы сели в шлюпку и оттолкнулись от борта. Стая крупных тюленей высунулась из воды и безо всякого страха, с любопытством следила за нами; другие смутились ещё того менее и продолжали играть друг с другом: они гонялись друг за другом малыми кругами и делали при этом всевозможные резвые движения. Стаи бесчисленных гагар летели на сушу и с нее; были там также два или три вида чаек, множество морских ласточек, отдельные буревестники и немного экземпляров хищных скоп.
Скоро мы подплыли к весьма плотному ледяному заслону (поясу), в котором отдельные льдины достигали более 200 футов длины и выступали из воды до 20 футов в вышину. Хотя льдины были так тесно сдвинуты, что проход казался невозможным, люди схватились за багры и, орудуя ими то с лодок, то со льдин, действительно продвигались вперёд. Точно так же люди эти в мае месяце, в течение двух суток, пробились через четырёхмильный ледяной барьер, окружавший остров.
После примерно часового отталкивания и протаскивания мы снова вышли на небольшое водное пространство, а вскоре увидели прямо перед нами чёрный утёс, на вершине которого, к нашей большой радости и удивлению, выступили из мглы два высоких русских креста.
В небольшой бухте за скалой, где мы незамедлительно высадились, стояла прямо в поле сложенная русскими печь из скреплённых между собой камней; следов жилища, однако, не было, и само место на небольшом острове, казалось, никто в последнее время не посещал.
Кресты были очень старыми и трухлявыми; один уже успел рухнуть, а так их прежде было три».
Обо всём этом Фёдор Вадимович успел рассказать Настеньке и Евгению Николаевичу ещё до вылета, чтобы они имели представление о том, куда отправляются, то есть о месте, где жили-поживали, хаживая на охоту, разрешённую им царской грамотой с печатью, о чём есть достоверные свидетельства, сотни лет назад русские поморы. Да и в «Записках о Московии», изданных ещё в 1557 году, почти за сорок лет до открытия Шпицбергена Баренцем, автор записок Герберштейн писал, что русские знакомы с большим островом Энгронеланд, что «лежит против шведских и норвежских земель».
А ведь ходили тогда в далёкое плавание не на больших лайнерах ледокольного типа, не на судах, вмещающих тысячи пассажиров, а на утлых судёнышках. Впрочем, утлыми поморские суда можно назвать только в сравнении с современными супер гигантами. В своё время поморские суда, промышлявшие на Груманте, что назывался ими более уважительно «Батюшка Грумант», славились своими мореходными качествами в Ледовитом океане, устойчивостью к ледовой обстановке и в не меньшей степени прирождёнными моряками, не боявшимися ни лютых ветров, ни ураганных штормов, ни льдин проклятущих, так и норовивших рассыпать судно на мелкие щепочки. Хотя, что греха таить, бывало и такое. Но не боялись и шли на Грумант.
Что их, русских, так влекло туда? Ну не сказочные богатства же? Это открывателей Америки влекла надежда найти краткий путь в сказочно богатые индийские земли. Это охота за лёгкой добычей китового жира привлекла всю Европу в путешествие к Шпицбергену после его открытия Баренцем, и интерес в архипелагу стал быстро падать с сокращением численности нещадно истреблявшихся китов.
Нет, русского человека, его поэтическую душу, манила не страсть к наживе, но прежде всего неуёмное желание встретить что-то новое, увидеть ещё непознанную сказку, пусть трудную, пусть смертельно опасную, и всё же настолько заманчивую, что невозможно усидеть дома. И как только зима ослабляет натянутые поводья морозов, а солнце выходит на небосвод в своё долгое незакатное дневное дежурство, тут уж всенепременно поморское сердце не выдержит долгого терпения и заставит навострить паруса и тронуться вдаль, на север, к родному Батюшке Груманту. Естественно, возвращаются оттуда не с пустыми закромами. Привозятся в трюмах и оленье мясо, и шкуры белого медведя, и моржовые клыки, и песец на воротник шубы. Да всё же это только предлог к путешествию, а главное – эта необузданная страсть и любовь помора к Северу, к его загадкам, о которых он и слагал свои неповторимые, тягучие, как зимние ночи, но прекрасные, полные жизни песни.
Вертолёт опустился и мягко присел на относительно узкую прибрежную полосу, несколько возвышавшуюся над самим морским берегом, и примыкающую по другую сторону к двум близко сходящимся горам, возле одной из которых, более круто поднимающейся вверх, располагалось длинное одноэтажное деревянное здание со светящимися электрическими огнями окнами. Рядом стояло такое же невысокое, но небольшое и с оштукатуренными стенами помещение, видимо служебное, может быть, котельная, подающая тепло в жилой дом, по обе стороны от которого возвышались огромные диски антенн. А чуть ниже, почти на самом берегу торчмя стояла узкая башенка, постоянно мигающая цветными огнями. Это, разумеется, был маяк, который Тиграныч заметил ещё в воздухе и, собственно говоря, на него ориентировался при посадке машины.
Не успел двигатель ещё полностью заглохнуть, а пропеллер продолжал ещё медленное вращение, как к вертолёту уже подходил одетый в тёплую доху серого цвета и такую же серую, по-видимому, из волчьего меха, шапку-ушанку бородатый мужчина с ружьём за плечами, в сопровождении двух породистых пушистых лаек, весело помахивавшими столь же пушистыми хвостами.
– Янек, – представился он сходящим по выброшенной из вертолёта лесенке гостям, протягивая каждому руку без рукавицы. Снятую только что, он держал в левой руке, и, поздоровавшись со всеми, тут же надел снова, сообщив мимоходом: – У нас мороз тридцать пять сегодня.
– Вы говорите по-русски? – спросил Евгений Николаевич.
– Немножко есть такое. Да мы все говорим чуть-чуть. В школе учили раньше.
– Дзень добри, пан!14, – ввернул Строков, проявляя свои познания в польском.
– Муви по польски? То добже15, – обрадовался Янек.
– Теж троха.16
– Но ниц. Зразум як кташ.17
Подождав, пока вертолётчики закрыли дверь, все отправились вслед за Янеком к дому.
Собаки дружно бежали впереди хозяина. Настенька не выдержала и спросила:
– Янек, какой породы ваши красавцы?
– Это есть самоедская лайка. Самая хорошая для севера. Она не боится холода и медведя.
– А вы тут всегда ходите с ружьём и собаками?
– Всегда. Недавно медведь опять приходил. Он собак не боится, но они ему не нравятся. Они лают на него. Он идёт, идёт, потом кидается на них. Но собака умная и отскакивает. А мы стреляем в воздух. Выстрелов он боится и уходит. Убивать медведя нельзя. Закон такой в Норвегии.
Тем временем подошли к дому. Дверь, как и полагалось, открывалась наружу, чтобы случайно медведь не мог бесцеремонно вломиться в жильё. Всё предусмотрено. В прихожей довольно тёмной, но тёплой разделись, повесив верхнюю одежду на свободные крючки, и пошли по длинному узкому коридору. Янек провёл небольшую экскурсию, показывая комнаты на одного или двух человек и поясняя, что сейчас на станции их восемь мужиков и одна женщина, жена гляциолога, которая выполняет обязанности метеоролога и повара. Перед глазами гостей предстали хорошо оборудованный тренажёрный зал, комната для игры в настольный теннис, душевая, туалеты, кухня, где орудовала в это время краснощёкая лет тридцати пяти Дагмара. Рядом с кухней, что и естественно, расположился обеденный зал с большим столом посередине, точнее, три стола были составлены в один и накрыты розоватой цветистой скатертью. Тут Евгений Николаевич и вертолётчики поставили тяжёлые сумки с продуктами и бутылками водки, передав их в качестве взноса к обеду хозяйке, приятной во всех отношениях женщине лет тридцати пяти, единственной женского пола в мужском коллективе. Она прибыла сюда в качестве метеоролога, но и исполняла роль поварихи и домохозяйки.
Впрочем, всё это, возможно, не так интересно знать читателю, как разговор, состоявшийся за этим столом во время праздничного обеда. А то, что обед выглядел праздничным – это понятно, поскольку не каждый день прилетали русские в столь далёкий уголок Шпицбергена. По этому случаю Дагмара проявила всё своё умение кулинара и приготовила специально чудную польскую похлёбку журек из овсяной муки с колбасой, клёцками, грибами, картошкой и сметаной, не говоря уже о пряностях, отваренном яйце и растительном масле. Вторым блюдом торжественно подавалась жареная оленина, добытая тут же в Хорнсунне. Всё это сопровождалось овощными салатами, квашеной капустой, солёными огурцами и, конечно, польской водкой из картофеля.
За столом собрались все члены научно-исследовательской экспедиции. Их имена, как будто специально подобранные для смеха, Янек, Марек, Яцек, Ростек, Юрек и Юлек совершенно сбили с толку русских, запутав совсем, как кого зовут. Только двоих звали отличительно без окончания «ек» – это Феликс, что означало, как он сам сразу признался, «счастливый», и Ежи, что тоже перевели по просьбе Настеньки, как «фермер», а она думала, что имя произошло от русского слова «ёжик» Предположение её оказалось ошибочным. Но именно с Ежи и произошёл в некотором роде спор за праздничным столом после принятия обильной пищи, смоченной хмельной водкой и чуть менее хмельным пивом.
Ежи был, очевидно, самым молодым из всей группы учёных. Он занимался вопросами геомагнетизма земли, то есть определял изменения магнитного поля планеты, а также проводил исследования по атмосферному электричеству. Всему этому он научился в Полярном геофизическом институте Кольского научного центра, где попутно совершенствовал знания русского языка. Высокий, худой с продолговатым лицом и чуть удлинённым острым носом, сорокалетний мужчина походил на птицу крачку, нападающую на всех, кто находился поблизости от её гнезда.
Пока Строков, устроившись в дальнем конце стола с паном Юреком, изучавшим на архипелаге экологические проблемы, увлечённо разговаривали на польском языке о возможностях сохранения русского поморского креста, стоявшего неподалеку от станции на мысе Хорнсунн, в другом конце стола Ежи наскакивал на Евгения Николаевича своими вопросами относительно нынешней политики Российской Федерации и её прошлого. Тиграныч со своим помощником Петром спиртное за столом не потребляли по причине предстоящего возвращения, а во время работы они не пьют, но зато поели от души и теперь сытые и довольные развалились на диване в дальнем углу комнаты и смотрели телевизор, который включил для них Юлек.
Разговор, что мне думается, будет интересен читателю, начался с самого обычного тоста. Евгений Николаевич поднял рюмку водки и предложил выпить, как говорится, дежурный тост за российско-польскую дружбу.
– Тост не новый, но всегда правильный, – поддержала его Настенька, поднимая свой бокал пива. Водку она терпеть не могла.
Юрек хитро блеснул глазами, опорожнил свою рюмку и вдруг спросил, накалывая на вилку кусок селёдки, чтобы закусить:
– А какую вы имеете в виду Россию? Ту, что была при советском строе, или теперешнюю при Ельцине?
– Ко ци то обхадзи?18 – пробурчал сидевший рядом Феликс, такой же бородатый, как Янек, но уже с приличной сединой и лысиной на голове. Он был начальником научно-исследовательской станции, по характеру сдержанный, немногословный. Русский язык ему был знаком, однако в разговор он старался не вмешиваться, следя главным образом за тем, чтобы у сидевших за столом рюмки и бокалы были всегда наполнены.
– Нет, мне не всё равно. Мне интересно, за какую вы Россию сейчас стоите? За ту, которая господствовала над Польшей, или за новую, для которой все страны равны?
– А я согласна с Феликсом, если правильно поняла, что он сказал, – опережая своего шефа, вставила Настенька. – Его имя значит «счастливый», и потому он хочет счастья всем независимо от того, какая теперь Россия. Дружить должны все поляки со всеми русскими.
– Настенька права, – поддержал подругу Евгений Николаевич. – Дружить должны все. Но вопрос Ежи поставил в другом плане. Он не спрашивает о дружбе. Его интересует наше отношение к советской власти. А это несколько иное. Дружить мы, конечно, будем, потому и прилетели сюда с дружественным, так сказать, визитом. Но ты, Ежи, разве что-то имеешь против Советского Союза, что так задаёшь вопрос?
Ежи опять хитро улыбнулся. Нос его словно ещё больше вытянулся, и всё лицо его напоминало скорее не маленькую крачку, а большого гуся. Глаза опять сверкнули:
– Я то ничего против не имею. Я учился в вашем институте на севере и должен быть благодарен за это. Но я видел, как все у вас там лобызали друг перед другом.
– Ты имеешь в виду, наверное, лебезили? – Поправила его Настенька. – Лобызать – это целовать кого-то.
– Да-да, конечно, лебезили. Спасибо за поправку. Русский язык очень трудный. Так вот, у вас не было совсем демократии в стране. Я читал вашего Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Такой кошмар он описал. Людей на улицах хватали ни за что, ни про что, арестовывали, а потом расстреливали. Много миллионов людей при Сталине погибли. Как вы могли такое терпеть?
Настенька посмотрела на Евгения Николаевича. Он был совершенно спокоен, только брови немного сдвинулись, придавая лицу нахмуренное выражение, когда он говорил:
– Во-первых, «Архипелаг ГУЛАГ» не документ, а литературное произведение человека, высланного из страны за клевету. В этом романе, насколько я помню, Солженицын пишет, ссылаясь на профессора Курганова, что в России с момента революции до тысяча девятьсот пятьдесят девятого года уничтожено шестьдесят шесть миллионов человек. Но если учесть, что всё население России составляло даже на начало Великой отечественной войны всего сто девяносто миллионов, то по Солженицыну выходит, что уничтожили третью часть населения. Это же явная глупость. А я читал, что, находясь за границей, Александр Исаевич давал испанскому телевидению интервью, в котором сказал уже о ста десяти миллионах погибших от сталинских репрессий. Разве здравый человек может в это поверить? Да чтобы такое количество людей уничтожить и при этом сохранить численность населения, а оно после войны снизилось до ста семидесяти миллионов, а потом выросло к шестидесятым годам до двухсот миллионов, для этого каждая женщина должна была бы рожать по ребёнку каждые два года. На самом же деле рождаемость в годы войны упала. Так что это со стороны Солженицына чистейшей воды утка. Надеюсь, ты понимаешь значение этого слова?
– О. утка, то есть враньё. Это я понимаю.
– Так вот, – продолжал Евгений Николаевич, – первым вопрос о сталинских репрессиях поднял Никита Сергеевич Хрущёв в своём знаменитом докладе «о культе личности Сталина» на двадцатом съезде КПСС. Стремясь разоблачениями своего предшественника Сталина тем самым возвеличить себя, Хрущёв не понимал, что подкладывал при этом мину замедленного действия под советскую власть, руководителем которой он сам являлся. Мина была в руках некоторых политиков и писателей. Так, например, Александр Яковлев, бывший секретарь ЦК КПСС, заявил, что в годы сталинских репрессий погибли сто миллионов человек. При этом он посчитал и не родившихся детей, которые могли бы родиться у репрессированных родителей. Соревнуясь между собой, кто больше назовёт, показывали в своих публикациях и заявлениях писатели Рой Медведев, Анатолий Рыбаков. Дмитрий Волкогонов переплюнул всех, назвав сто двадцать миллионов репрессированных.
Но официальные данные называют совсем иные цифры. Самое большое число заключённых ГУЛАГа с 1921 по 1953 годы, то бишь за тридцать три года, которые осуждены были по политической статье, это четыре миллиона, из них восемьсот тысяч были приговорены к расстрелу, а шестьсот тысяч умерли в тюрьмах. Получается, что уничтожено было за тридцать три года около полутора миллиона человек, тогда как в войне с Германией у нас погибло двадцать шесть миллионов по последним данным. А ты говоришь, что читал Солженицына. Да он сам сидел в тюрьме восемь лет за высказывания против Сталина, озлобился ещё больше и какую правду мог писать?
– Ну, ты сам сказал, – обрадованно воскликнул Ежи, заулыбавшись, – что Солженицын сидел в тюрьме за то, что говорил против Сталина. Это значит, что у вас не было демократии.
– А ты знаешь, что такое демократия?
– Ну, это когда все могут говорить свободно, что хотят.
– Э-э, нет, брат. Не совсем так. Ты, например, можешь сказать мне, что я дурак, потому что не согласен с тобой?
– Як то можливе? Лепье выпьеми за здравье.19 – опять вставил Феликс и поднял рюмку.
– Мы поняли без перевода, – засмеялась Настенька и чокнулась со всеми своим пивом. – Нам польский понимать легко.
– Это так, – согласно кивнул головой Евгений Николаевич и продолжил свою мысль: – Видишь, Ежи, не всегда можно говорить, что вздумается. Учёные давно спорят о том, что такое демократия и что есть свобода. Ты свободен говорить обо мне, что хочешь, а я свободен не слушать тебя. Но как же нам тогда быть с нашей свободой? Вот тут и создаются условия жизни в обществе. Ведь слово «демократия» происходит от древнегреческих слов «демос» и «кратос», что означает «власть народа». Каждый народ составляет правила поведения, которым каждая отдельная личность, живущая в этом сообществе, обязана подчиняться. Так было испокон веков. То есть человек в обществе с самого рождения не может быть свободен от этого общества, отправил общежития. Хочешь быть совершенно свободным – уходи в пустыню или в лес, но и там придётся жить, как говорится, по законам джунглей, где сильный побеждает слабого.
Даже когда человек был ещё человекообразной обезьяной, он жил в стае, у которой был вожак. Ему следовало подчиняться. Такова была необходимость существования. Вожак был самым сильным, он первым защищал свою семью, он главенствовал и, стало быть, все были в его подчинении, то есть не были абсолютно свободными. Позже люди стали объединяться в племена и опять же у племени был вождь, чьи команды выполнялись беспрекословно, хотя, конечно, многое делалось, как хотелось, но и желаний тогда было очень мало.
Совсем иначе пошла жизнь, когда круг общения людей расширился, когда одним племенам приходилось отстаивать свою территорию от набегов других племён, и общины стали объединяться в государства с их королями, шахами, президентами. Но что такое государство? Это, прежде всего, аппарат насилия. У каждого главы государства имелась армия не только для обороны страны, но и для подавления протестных выступлений недовольных правлением, а они всегда были, поскольку с возникновением государства появилось и расслоение общества на бедных и богатых, возникли рабы и рабовладельцы. Однако рабы не хотели быть рабами. Тут-то и возник термин «демос» – народ с его желанием самому властвовать над своей жизнью. Самому принимать решение, что ему хорошо, а что плохо. И ещё древний учёный Платон говорил о необходимости создания такого государства, которым бы управляли не цари, а совет мудрецов. И советский Союз с его Советами во главе был ближе всего к осуществлению этой вековечной мечте человечества, когда простые члены общества сами управляют своей жизнью.
– В Советском Союзе жизнью управляли не Советы, а Сталин, потом Хрущёв, Брежнев, Горбачёв, – ядовито возразил Ежи.
– Я знал, что ты это скажешь, – улыбнулся Евгений Николаевич.– Руководители государства, вожди, конечно у нас есть и будут. Но все решения у нас в стране принимались только на съезде народных депутатов. Обращаю твоё внимание, Ежи, на слова «народных депутатов». У нас осуществлялся принцип выборности власти снизу доверху, а подчинённость сверху вниз. Это значило, что выбирали сначала на местах, на предприятиях, в колхозах и совхозах представителей, а те уже из них же выбирали руководящие органы. И не было никакого имущественного ценза. Не имело значения, богат ты или беден. Главное, чтобы тебя уважали и тебе верили.
– Но репрессии всё же были. И в тюрьмы сажали, – не унимался Ежи, и казалось, что его лицо ещё больше заострилось.
– А у тебя есть дача дома? Или вообще ты когда-нибудь сельским хозяйством занимался? – неожиданно спросил Евгений Николаевич.
– Да, мои родители живут в деревне. Я сам из деревни. Но сейчас давно живу в Варшаве. А что? Какое это имеет отношение к разговору?
– А такое. Раз ты сам жил в деревне, то знаешь, какие растения больше всего не нравятся сельскому хозяину. Это сорняки. Они лезут из земли толпой. Ты их косишь, а они снова вылезают. Другое дело культурное растение, которое полезно людям. Правда, ты скажешь, что бесполезных растений нет, и это верно, однако всему своё место. Так вот, чтобы получить хороший урожай с культурного растения, зерно надо посадить в хорошо удобренную почву, ухаживать за появившимся ростком до самого его плодоношения. Так и у людей. Бесполезных людей, как и бесполезных растений не бывает, но находящихся не на том месте или не выращенных должным образом полным полно. Они лезут, как сорняки из-под земли, мешая культурным, то есть полезным людям, жить и развиваться. После революции, когда страна взяла курс на строительство нового советского общества, в котором каждый человек другому друг, товарищ и брат, не все приняли новые условия, не всем хотелось честно жить, помогая другим людям быть равными и одинаково счастливыми. Они желали счастья только себе и шли против народа. Вот таких людей, как сорняков, приходилось скашивать в тюрьмы, а иногда и выкорчёвывать.
– Значит, ты за то, чтобы репрессии были? – изумился Ежи.