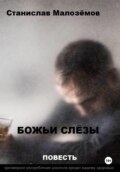Станислав Борисович Малозёмов
Всю жизнь я верил только в электричество
Я эту тётку не знал и не слышал о ней ни фига. Но снова кивнул.
– Ну, скажем, поёшь ты хорошо. А разговаривать можешь? Ну-ка, скажи что-нибудь кроме фамилии.
– Актером не пробовал быть ни разу. Но мне интересно, – я малость осмелел.– А кого играть-то? Я ж маленький.
– Маленьких и будешь изображать. У нас в пьесах пацанские роли есть очень интересные. Дом учителя знаешь где? – Мотренко поднялся и погладил меня поперек прически. – Вот туда приходи завтра к семи вечера.
Я прикинул, что тренировка заканчивается в шесть. Значит, успею.
То есть, кроме всего нахватанного моим здоровым, но жадным любопытством набора увлечений я получил ещё одно – стал на целых шесть лет артистом народного театра. Я шел домой и видел свое близкое театральное будущее: аплодисменты, цветы, автографы. Поклонников видел малолетних. Они после спектаклей дарили не цветочки, а пломбир или крем-брюле. А ещё фотографии свои в образе моих героев мысленно видел на всех городских досках для афиш. Нет, театр – это не кружок киномехаников. Это прямой путь к всесоюзной известности и званию народного артиста СССР.
– Просто повезло, – решил я, поднимаясь домой на второй этаж.– Случайно.
А случайно происходят всегда самые счастливые события в жизни. Это я уже знал точно.
После тренировки следующим вечером бегом пронесся я почти пять километров и возле Дома учителя присел на корточки. Дух перевести. Не был я здесь давно. Во втором классе, вроде бы, мама водила меня сюда на новогодний утренник, придуманный специально для детей педагогов всего Кустаная. Дед Мороз со Снегурочкой всем детям выдали по огромному разрисованному кульку с конфетами, всяким печеньем, вафлями, с большим апельсином и таким же здоровенным яблоком. Ну, а тем, кто песенку спел с табуретки под ёлкой или стишок рассказал – ещё по кульку перепало в награду. Я что-то читал. Кажется, про доктора Айболита. Эти два новогодних подарка я ел сам, раздавал родителям, бабушке и Жуку с Жердью. Сладостей Дед Мороз отвалил от души. Объелись тогда мы все и после сладкого долго не могли нормально поесть того же, например, борща на обед. Не лез борщ. И хлеб тоже. Но утренник этим и запомнился надолго.
Отдышался и аккуратно, по стеночке, прошел в зал мимо уборщицы, размашисто разгонявшей шваброй воду по коричневым доскам пола. На сцене репетировали четверо на фоне декорации старинного буржуйского дома с колоннами. Перед домом росли похожие на живые деревья и стояла большая старомодная скамейка с гнутой спинкой, на которой трое девушек в щирокополых шляпках внушали мужику с бородкой, тростью и белым стоячим воротничком, торчащим из полосатого длинного пиджака, несуразность и опасность связи какой-то Ольги с Игнатием Борисовичем.
Мужик отбрехивался как мог, но девушек было больше и они явно побеждали. Режиссёр Валерий Иваныч сидел в середине второго ряда и молча наблюдал, упершись локтем в переднее кресло, а подбородком в кулак. Заметно было, что игрой он был доволен. Из кулака время от времени высовывался указательный палец и поднимался вверх, ставя невидимый восклицательный знак в воздухе.
Мотренко увидел меня возле портьеры, прикрывающей входную дверь и махнул рукой. Пальцем показал на стул рядом.
– В другой пьесе, завтра начнем с ней работать, первая читка будет. Для тебя маленькая роль есть. Сейчас мы эту сцену пройдем и я тебя познакомлю с партнёрами. И экземпляр пьесы дам. Дома выучи всю. За ночь. А завтра вступишь в работу.
Как только мне дали толстую пачку листов с текстом, на первой странице которой в середине листа крупно напечатали название: «Александр Афиногенов. « Машенька», я понял, что с этой минуты я уже не какой-то там пацан Славка, а актер народного театра Станислав Малозёмов. И что слава артистическая, признание культурных масс и влюбленность наших школьных девчонок в мой дар актерский – дело не далекое.
Потом, через год где-то, совсем нежданно божественная театральная высь снизилась, нет, свалилась до пола сцены и стала довольно муторной, тяжелой, не всегда интересной и чем-то, чего сейчас объяснить не могу, отталкивающей работой. Я сыграл за четыре года в шести спектаклях и понял, что повторять чужие, даже очень хорошие слова, мне просто не интересно. Да и ещё причины были. Ходили мы, любители, часто довольно, учиться играть профессионально в драмтеатр. Смотрели на игру не из зала, а сбоку, пристроившись между кулисами. Я иногда уходил и болтался по коридору, заглядывая в гримёрки. Меня поразило то, что не занятые в мизансценах актеры ругались друг с другом, матерились, как мой любимый безногий дядя Миша, пили «жигулевское» из горла и коньяк, налитый в маленькие рюмочки. В одной гримерке трое одетых в реквизитные фраки и цилиндры молодых артистов из спичечных коробок насыпали на край круглого стола тоненькие полоски белого порошка и, зажимая поочередно ноздри, втягивали его в себя. Потом делали выражения лица, будто хватанули стакан водки без закуски и расслабленно, довольно выдыхали.
– Кокаин, что ли? – по-свойски спросил я с порога. Тоже ведь артист, хоть и любитель. – У нас в квартале главные блатные Иваны живут. Двое их. Так сами не нюхают. Только водку пьют. А дружки к ним приходили – те вот так же засасывали. Но они говорили, что в Кустанае кроме них кокаин никто не любит. Не солидно вроде. А они сами привозили его из Сочи и из Эстонии. Нормальные мужики приблатненные «ханку» варили из мака или «план» курили. «Марафет». Ну, вроде как кокаин – это баловство для слабаков и интеллигентов.
– Чё бы ты сёк в этом деле, парниша?– засмеялись артисты хором. Совсем не как артисты, а вроде шоферов с дядь Васиной автобазы. – Никто не любит кокаин! Благородный, мля, порошок! Не то, что ваша конопля драная. Её курить – всё равно, что бормотуху за одиннадцать рублей хлебать. Плодововыгодную. В подворотне. Это курево для пролетариев. Чтоб совсем мозги сдохли и ни о чем таком-эдаком не думали.
Они ещё раз дружно, как на репетиции, одновременно засмеялись и стали хлопать друг друга по ладошкам сверху и снизу.
– Что за контора Обком комсомола знаешь? – подошел ко мне один из них, откинул полу фрака и цилиндр с головы скинул кувырком в несколько оборотов точно в подставленную руку. – Вот там половина вожаков комсомольских «кокс» занюхивают. И в горкоме комсомольцы им подражают, вроде как недалеко стоят от высших чином. Тоже «снежком» балуются. Больше не знаем, где ещё «дутый» нюхают. Но возят нам всем из Прибалтики и Сочей. Спокойно таскают. Никто не запрещает. Это ведь не наркотик, не опий. Его вообще надо в магазинах продавать. Он тонус поднимает и человека радует. Видишь, какие мы радостные?
В народный театр приходили к Валерию Иванычу актрисы из облдрамы. Поболтать. И тоже нюхали кокаин по ходу разговора. Сам Мотренко кроме водки ничего не употреблял.
Поэтому в целом мне внутренняя театральная бытовуха не нравилась. Почти все артисты или ехидничали не в меру, завидовали другим из-за ролей, материли и заочно унижали презрением московских и ленинградских народных да заслуженных, много сплетничали и после спектаклей напивались до упаду. У нас в народном ребятишки да девчушки копировали профессионалов. Пили не в меру, злорадствовали по поводу успехов коллег по сцене, и «мыли кости» актерам нашего главного театра, которые «строили из себя» богему, а играли средненько.
Мне нравился сам Мотренко, добрый, увлеченный делом дядька, который из Томского театра понизил сам себя до кустанайского актёра с помощью всё той же водки. Пили её все и всюду почти все мужики, да и женщины от вина не отказывались ни по праздникам, ни в будни. Пили помногу. Как-то прижилось питьё внутри общей нашей жизни и никто никогда не обижал пьющих, помогали спивающимся менять работу на более простую, пристраивали с жалостью на квартиры тех, кого выгнали жены, да ещё и жен этих последними словами клеймили за скотское отношение к живому человеку. С горя пили редко. Потому, что горе прошло вместе с войной и двести граммов какой-нибудь «перцовки» удаляли легко и войну треклятую и горе, жившее в ней. От радости пили и от благополучия. Всё было замечательно в пятидесятые годы у народа. Дешевые продукты, одежда, быстро бегущие очереди на ковры, холодильники, мотоциклы и всё такое, престижное, но не очень нужное. Вроде хрусталя, обеденных чешских сервизов на двенадцать персон, радиол с радиоприёмником и проигрывателем пластинок в одном корпусе. Пластинки тогда делали из тяжелого шеллака, который бился как хрупкое стекло, и пластинку надо было покупать снова. Гибких виниловых дисков в середине и конце пятидесятых ещё было так мало, что до Кустаная они не доезжали.
На работе у всех профсоюзные деятели пахали как проклятые. Они вели запись, учет и движение очередей одновременно на массу всяких бытовых прелестей. По записи, подождав полгода или год, можно было купить всё – от стиральной машинки до полного собрания сочинений Александра Дюма-старшего. Длинные и ползущие как больная черепаха очереди были только на квартиры. Но зато дождавшиеся получали их как бы в подарок от советской власти, даром. Платили только за коммунальные услуги какую-то символическую мелочь. В моде были очереди на импортную польскую мебель – гарнитуры и стенки. На ковры и паласы, которыми завешивали стены над кроватями и укладывали на центр комнаты. В конце пятидесятых верх над всеми очередями взяли записи на установку телефона дома и покупку незнакомых простому народу телевизоров. В основном телевизоры привозили с малюсеньким экраном и толстой линзой перед ним, увеличивающей изображение. В линзу для увеличения кадра заливали дистиллированную воду. Назывались они КВН-49. Потом появились «Север-3» и «Беларусь-6» с экранами побольше.
Мой отец, первым на нашей улице, по быстрой редакционной очереди купил телевизор с довольно крупным экраном «Рекорд». Благодаря этому предмету наша квартира стала постепенно напоминать кинотеатр. Часто по вечерам, когда показывали художественные фильмы, наша большая комната превращалась в кинозал. Приходившие на просмотр соседи, естественно, билетов не покупали, зато приходили с баранками, конфетами, плюшками и просмотр совмещался с грандиозным чаепитием и громким обсуждением событий на экране. В домашней обстановке это было нормально, а из клуба болтунов выгнали бы мгновенно.
В общем, прекрасная была жизнь. Все при работе, при деньгах. Воевавшим- куча льгот. Тем, кто на войне не был и без поблажек хорошо жилось. Везде всё самое необходимое есть. Остальное, из разряда роскоши, добывалось без труда через очереди на работе. Кругом было полно библиотек, кинотеатров, кафе-столовых, магазинов продуктовых и промтоварных, «кулинарий» и отдельно – магазинов для детей. Хорошо жилось народу. Школьное, среднее специальное и высшее образование бесплатное, медицина тоже, масса кружков, секций, специализированных школ, студий и мастерских для взрослых и маленьких – все без денег. Лекарства дешевые, оплата за электричество и газ – копеечные, бензин для автолюбителей – практически дармовой. И чего не жить, не радоваться? Тем более, что светлое будущее, как поклялся народу Никита Сергеевич, уже неслось навстречу жителям СССР и к 1980 году мы все были счастливо обречены жить в раю, в высшем достижении человеческого блага – коммунизме. В честь этого умные люди понаставили памятников Ленину чуть ли ни на каждом пустом месте, чтобы не забывали – чья мудрость и любовь к людям привела советский народ в состояние процветающего блаженства.
А я тогда ещё не передумал стать летчиком. Выбирали время с пацанами, мотались в аэропорт и нам уже техники давали шланги для заправки самолетов. Мы, гордые, потом дома спрашивали родителей – чем от нас пахнет. Мама моя не угадывала, а бабушка – моментально.
– Смотрите там, не подпалите керосин…– советовала она строго.– Горит он как молния. За три секунды от вас один дымок останется.
Я смеялся. Страсть моя, авиация, к юности растворившаяся как сахар в чае, пока цвела надеждой. Она была главной мечтой и основным делом моей ускорявшейся в будущее жизни. Всё остальное я делал с любопытством и увлеченностью, но так. Для общего развития.
И вот это красивое и доброе время конца пятидесятых и начала шестидесятых как-то сразу убедило и маленьких и взрослых, что так будет всегда. Свобода, почти бесплатная жизнь, дружеская городская атмосфера, покой будничный без потрясений и опасностей, которые могли бы уничтожить такую прекрасную жизнь, близкое светлое будущее, которого и не ждали-то особо. И без него жилось как в хорошем кино, где всегда побеждали добро и любовь. Единственное, что никак не состыковывалось со всеобщей замечательной жизнью – серость всего, что попадалось на глаза даже в яркий день. Серыми были улицы, несмотря на довольно раскидистые деревья и цветы на клумбах, разбросанных по городу в невероятных количествах и неожиданных местах. Все двухэтажные дома и местные небоскребы-пятиэтажки отделаны были в основном бетонной крошкой цвета запылённого асфальты. Все автомобили ездили почти одного цвета: грузовые – грязно-зеленого, мрачного и тусклого, а легковые почти все – черного.
В будни народ наш не надевал на себя ничего приметного, броского, цветастого и яркого. Да и в праздники наряжались люди во всё новое, но тоже серое в полоску, в клетку или во что-нибудь с узорами и орнаментом, но почти такого же мрачного цвета как платья или брюки. Зимой серость общая подчеркивалась грязноватым от копоти разных труб снегом. Трубы торчали над домишками скромными, которых в Кустанае было очень много, над заводами, перевезенными в войну подальше от бомбежек и построенными уже после победы. Все они дымили отчаянно зимой, а заводские посыпали нас с высот своих сажей и летом. Мне уже в солидном возрасте доводилось с разной публикой говорить о прошлом. И никто никогда не смог толком даже для себя объяснить этот феномен советской серости, которая резко контрастировала с ярким духом народным, светлым энтузиазмом и просто хорошим расположением духа от почти беспроблемной жизни.
Были, правда, исключения, которые ударно подтверждали правило – не выделяться. Быть как все. Быть исключением позволяла себе только молодежь. Мама моя в шестидесятом году была красивой женщиной аристократической внешности и таких же манер. Такая гордая польская пани тридцати трёх лет. У неё, естественно и подружки были такие же. В основном, родом из Польши. Сейчас бы содружество в казахстанском городке поляков и полячек, попавших сюда изгнанными переселенцами или родившихся уже в Кустанае, называли бы диаспорой. Тогда не было этого термина, но какая-то внутренняя власть собирала их со всего города и обращала в содружество. Вот они любили повыпендриваться. Мама прекрасно шила и почти все её подруги носили одежду, скроенную и сшитую у нас дома. Сами придумывали модели, без проблем брали в магазине «Ткани» яркие, узорчатые крепдешин, креп-жоржет, ситец и шелк. Всё яркое и непривычное народу никто и не покупал. Это они первыми стали ходить в брючных костюмах умопомрачительных расцветок. Ткани блестели на солнце, смотрелись красиво, но вызывающе и провокационно. Население глядело на них косо. Но совсем уже безумными выглядели легкие нарядные платья броских цветов, шелковые, вискозные и ситцевые, которые моя мама, да и некоторые её знакомые, перешивали из нижнего импортного белья, из комбинаций. Шикарные летние легкие платья. В те годы нельзя было даже подумать о том, что под любое платье женщина осмелится не надеть комбинацию. Сегодня их, по-моему, не носят даже бабушки. Но чтобы в нижнем белье гулять по улицам! В то пуританское время такая выходка могла стоить отчаянной дурочке не просто потери репутации. Женщины попроще и нравом построже и за волосья могли оттягать. Так вот мама с подружкой Ритой нашли какой-то источник, где можно было недорого купить чешские, польские и английские комбинации. Они были, в отличие от советских, сшиты так, что если их малость подправить, то они превращались в нарядные лёгкие платья вроде сарафанов. Такая вот забавная мода была. И, кстати, мама мне рассказывала, что ходили в перешитых шикарных комбинациях-платьях поболее тысячи молодых женщин. И никому непосвященному в голову не могло прийти, какую наглость позволяли себе полячки и зараженные их новаторством русские, немки, кореянки, переселенцы из Прибалтики и юные казашки. Но общую серость обыденной жизни модницы нарушить не смогли и в целом счастливый внутри советский народ и места, где он жил, смотрелись уныло. До сих пор страсть к скромности и серой (в полосочку и клеточку) усредненности советского народа за рубежом путали и сейчас путают с убогостью существования нашего в СССР. И крупно в этом ошибаются. Жизнь была счастливой, яркой внутри всех советских, духовной и душевной, а будущее виделось светлым и благостным как земной рай.
Сейчас все, к сожалению, перевернулось с ног на голову. С точностью до «наоборот». Яркое вылезло наружу, а серость засосалась внутрь наших, свободных, демократичных граждан, которые искренне думают, что при капитализме, хоть и местного разлива, скопированном интуитивно и наугад, всё так и должно быть.
Глава семнадцатая
Новый, 1961 год мы всей семьёй встретили красиво. В ноль часов взрослые приголубили шампанского. Я – три стакана томатного сока. Съели всё, что влезло, спели новогоднюю песню про ёлочку, которая родилась в лесу. Мы на двух баянах с отцом играли, а пели все: Шурик, Зина, жена его молодая, тётя Панна, сестра бабушкина с мужем Виктором Фёдоровичем. И их сын Генка, шкет шестилетний. Потом отец достал картонную коробку из-под кровати и высыпал на пол, прямо под ёлку, штук пятьдесят хлопушек с верёвочками, торчащими петлёй с одной стороны. В хлопушках было конфетти разноцветное. Маленькие такие кружочки бумажные. Вот мы толпой рванули на улицу, растолкав по карманам хлопушки. Во дворе моей школы стояла огромная ёлка, рядом с ней десятиметровая горка. Сделали её из снежных кубиков, вырезанных лопатами прямо из огромных сугробов. Какие-то дядьки из какого-то ЖЭКА. Мама сказала. Что это за «жека», я знать не знал, но горка получилась просто как испытательный полигон для смелых. Или для храбрых. Ступеньки сзади аккуратные, наверху площадка на пятерых взрослых или десяток маленьких. Скат залили из шланга водой и горка вышла, как каток. Хоть на коньках с неё катись. Ёлка вся была в фонарях ярких, а по бокам горки поставили маленькие, но мощные прожектора. Они освещали всё. Было почти как днём.
Народу во дворе школьном и вокруг него было огромное количество. Изо всех ближайших кварталов пришли все, кто не сильно напился и мог ходить самостоятельно. Они резвились, валили друг друга в снег, забрасывали знакомых и чужих плотными шариками из лёгкого снега, пели и танцевали под чей-то звонкий аккордеон, пили шампанское и водку из прихваченных специально стаканов и закусывали яблоками. Яблоки и мандарины продавали перед Новым годом прямо с машин на многих улицах тоннами.
Ну и, конечно, всё лезли на горку. Напротив неё школьные ворота были открыты, а дорога ледяная вылетала за них далеко на улицу. Я заметил швыряющих снежками в кого попало Носа и Жука.
– Эй, Жук! – заорал я, победив трель аккордеона. – Давайте ко мне! У меня хлопушек десять штук.
– У нас тоже все карманы набиты ими! – на бегу ко мне кричал Нос. – Давайте все вместе пальнём. На раз, два, три!
Мы залезли по ступенькам на площадку и стали стрелять. Из хлопушек вместе с конфетти вылетало маленькое желтое пламя и от этого становилось шумно и красиво. Конфетти взлетали метра на два вверх кучкой, а потом как в сказке волшебные пёстрые снежинки рассыпались по сторонам и нежно ложились на снег, на людей, на санки с малышами, а остальные ветерок ночной уносил куда-то за прожекторы, в темноту. Все катались на кусках картона, фанеры или на том, в чём пришли. На штанах и платьях. Несло всех с горки со скоростью автомобиля на хорошей, гладкой трассе. Народ, крутясь по оси на быстром льду, пулей улетая вниз, заваливался-таки на бок и в таком виде – кто головой вперед, кто ногами, на спинах и животах – уносился в темноту за ворота. Особенно смешно катались пьяные. Лежа на спине, они стреляли на ходу из хлопушек, ухитрялись доставать из карманов новые, снова дергали за веревочку, а потом суетливые и размашистые движения скидывали их с дорожки ледяной и они улетали в сугробы сбоку от горки, зарываясь в снег почти целиком.
Было очень весело. Все обнимались, поздравлялись, угощали друг друга выпивкой и закуской, бегали хороводом вокруг ёлки. И трудно было отличить взрослых от детей. Все делали одно и то же. Потом прибежали опоздавшие с соседней улицы. Кто-то приволок несколько мотков красного и зеленого серпантина и уже минут через десять большинство гулявших и веселящихся пытались выпутаться из объятий серпантиновых змей, громко хохоча и выкрикивая новогодние поздравления и пожелания.
По домам стали расходиться часам к трём. Очень уставшие и очень радостные. Пошли допивать и доедать всё припасённое к любимому празднику. Чтобы потом поспать с шести до двенадцати и идти обратно на школьный двор с вениками, лопатами и мешками. Убирать всё, что оставили после себя весёлой праздничной ночью: кожуру от мандаринов, огрызки яблок, пустые бутылки, конфетти, плотным разноцветным слоем укрывшие белый снег, потерянные варежки, шапки и шарфы. Все, кто гулял на школьном дворе пришли чистить место.
И это тоже делали весело, празднично, обнимаясь снова, поздравляясь и опохмеляясь шампанским. Так встречали каждый новый год. И это нравилось всем. И только потому, что люди сами искренне нравились друг другу и наступившему Новому, от которого все ждали только добра и сбывающихся желаний.
Складывать в мешки огрызки, кожуру мандариновую и пустые бутылки не ходила только моя бабушка Стюра. Мы дождались грузовик, который объезжал с утра все места, где народ бушевал ночью, закидали в кузов мешки и замели снегом конфетти. Весной ручьи унесут их в овраг рядом с дорожкой, сбегавшей по склону к Тоболу. Оглядели большим хором площадку, на которой резвились, остались довольны чистотой возвращённой, врезали по стаканчику шампанского, а дети слопали по здоровенной конфете «Гулливер» из огромного кулька, который кто-то, возможно сам Дед Мороз, подкинул с утра под ёлку. Ну, и по домам нехотя разошлись. Даже не нехотя, а неохотно. И только потому, что все без исключения обязаны были предельно активно прожить первый день года. Под активностью ничего другого кроме питья водки, уничтожения салатов оливье, винегрета и селедки под шубой в виду не имелось. Традицию допивать и доедать не дольше, чем за три дня всё, что сами сдуру наварили и нарезали на неделю, не имел морального прав никто. Поэтому все ходячие жители города два первых новогодних дня метались с кастрюльками и бутылками по соседям, родственникам и знакомым, потом их же радостно принимали у себя дома и пели песни, пили, ели, и танцевали до тошноты. После чего третьего января на работу все приходили мятые, мрачные и болеющие головой. Да и расстройством кишечника тоже. И эти последствия считались идеальным итогом чествования одного из самых заветных праздников.
Мы своей бригадой сели за стол, который бабушка накрыла снова так, будто всё только должно было начаться. Но мы поклевали всякую вкуснятину без особого усердия. Пить, кроме меня, не стали. А я доконал до опустошения трехлитровую банку томатного. Тут, конечно, все тихо спели какую-то взрослую, незнакомую грустную песню и стали молча думать каждый о своем, впадая в полузабытьё.
А часа в три дня пришла тётя Оля с подвального этажа, принесла бутылку водки и пирог с рыбой. Она всех подряд поцеловала в щёчки, пожелала всем много всякого хорошего и поинтересовалась у наших после законной процедуры целования:
– А слыхали, небось, уже, что у нас деньги отменили? Мишка мой по радио слышал. С первого января.
– Дурь полная! – изумился Шурик, брат отцовский. – Я час назад ходил в магазин за халвой и лимонадом. Купил за деньги. И сдачу дали деньгами, а не воздушным поцелуем. Вот сдача.
Он вынул из кармана шестнадцать рублей и семьдесят копеек.
– Ну, Мишка мой не идиот же, хоть и безногий, – обиделась тётя Оля. – Он трезвый с утра, как дитё малое. Двести граммов всего поутру принял. Для него это – ровно и не пил ничего. Левитан сказал так, что, мол, деньги это пережиток царизма и капитализма. А мы уже на пороге коммунистического настоящего. И первый признак того – нет больше денег, как и обещали. Все же знаете – при коммунизме денег не будет. Бери всё, сколько надо тебе задаром. Но больше, чем нужно – не хапай. Вот оно и пришло, светлое будущее. И подгадали-то правильно. С первого дня Нового года наступает закономерный коммунизм.
Отец включил радио погромче и задумчиво сказал:
– Как-то это всё не стыкуется ни с чем. Особенно с экономикой. В ней пока ещё дыры латать да латать. Сельское хозяйство весь прогресс назад тянет. Целину вон подняли за четыре года, а урожаев нет. Зерно за деньги завозим из Канады. Коровы, свиньи и бараны мрут тоннами от болезней и морозов. Да и кормов мы мало делаем. Не хватает. Какой тут к черту коммунизм! Нет. Что-то тут не то. Пойду позвоню в редакцию дежурному выпускающему.
И он без шапки, в пальто и ботинках пошел в двадцатипятиградусную зиму
к магазину сбежавшего от советской власти во Францию купца Садчикова, возле которого имелась будка с телефоном-автоматом.
– Ну, мы пойдем пока домой, – бодро сказала тетя Панна. – Подготовим всё и ждём вас к шести часам.
Они оделись, укутали шестилетнего Генку в толстое пальто ниже колен, валенки, ушанку с опущенными ушами, обвязали вокруг поднятого воротника шарфом, оставив на виду только глаза, и помахав нам прощально, исчезли.
– Прямо вот разогнались они всем всё бесплатно раздавать. – мрачно сказала бабушка. – Чего они тогда налоги подоходные с трудящихся высчитывают? Эти деньги куда идут? Государству. Значит оно, государство, у нас денежки забирает за надобностью. Нужны, стало быть, ему денежки наши. А тут оно их какого-то лешего берет и отменяет. Вот неказистость где лежит. Враньё всё это.
Тётя Оля обиделась, фыркнула, закатила глаза. Мол, отсталые вы все. Радио не слушаете. И стала быстро удаляться к двери, оставив в комнате длинную осмысленную фразу.
– Поднос из-под пирога, Стюра, завтра занесешь. Толик с Галкой придут к вечеру. Новый испеку. Рыбы Мишка мой со своими дружками-калеками из лунок на Тоболе надергал килограммов пять. Тебе дам мороженую. Если после всех гостей останется чего. Занесу.
В дверях они в прямом смысле слова столкнулись с отцом. Причем тёте Оле не повезло больше. Она быстро уходила, а батя стремительно влетал. Крупнее тёти Оли он был раза в три. Поэтому тётя взвизгнула от тяжелого толчка, оторвалась от пола и её свободный неуправляемый полет должен был закончиться на столе, в тарелках с винегретом и холодцом. Но отец-то у меня был перворазрядником по лыжам. Бегал очень быстро. И, хотя сейчас на ногах лыж он не имел, но возле стола оказался раньше и тётя Оля зависла над холодцом в его крепких руках. Вместо того, чтобы испугаться, она весело засмеялась, после чего развеселились все. Отец поставил её на пол и все мы стали обнимать их обоих и говорить всякие шутки. А когда отшутились и тётя Оля, осторожно, как разведчик, покинула комнату, отец сказал, глядя на маму.
– Аня, ты помнишь, что почти год назад, весной, правительство издало какое-то постановление Совета Министров СССР «Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами»?
Мама аж испугалась такой строгой, как приговор суда, формулировки и короткой перебежкой переместилась подальше от отца, на кровать. Села и замахала на него руками.
– Нет, конечно! Ты, Боря, с кем-то меня путаешь. Я знаю только, что главнее всех сейчас Хрущёв Никита …Э-э-э…
– Сергеевич, – отец сел рядом. – Я звонил сейчас выпускающему редактору нашему. Он сказал, что в свёрстанном номере уже стоит постановление Совета Министров СССР «Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами» То же самое, что и в мае прошлого года. Только тогда они ещё собирались реформу делать, но не уточняли – когда. А тут – бац! С 1 января! И за один день сделали нам и девальвацию и деноминацию! Надрали-таки народ под звонким и доброжелательным названием.
Мы не знали слов, которые знал отец. В редакции он занимался экономикой сельского хозяйства, добросовестно выучил финансовую структуру советской экономики. И новость изложил он нам языком попроще: для серых масс годным и ясным.
– В общем, рубль – это с сегодняшнего дня десять копеек. Сто рублей – это десять рублей.
– И чего я куплю на десять копеек? Как вас кормить буду? – бабушка Стюра подняла фартук к губам. То есть, заволновалась и расстроилась.
– Да не в этом дело. Всё вы купите. Всех накормите, – отец сел на табуретку, оперся локтем о подоконник и глядел на небо. – Но только до тех пор, пока всё в магазинах будет и подорожает пока не втрое-четверо, а раза в два.
– А куда оно всё денется? В войне победили, к коммунизму идем, живём все лучше с каждым днём. Вон на холодильники «Саратов» очереди у людей на производствах из пяти человек состоят. То есть набрали уже все холодильников. А лет пять назад по двести человек в списках было. Вон, на Танькиной кондитерской фабрике…
– Это у меня теперь зарплата будет какая? – настороженно спросила мама.
– Сто тридцать рублей, – засмеялся отец. – У меня двести пятьдесят. Я ж заведующий отделом. В десять раз меньше. Но и стоить всё поначалу тоже будет в десять раз меньше. Ну, скажем, года два-три от силы.
– А пенсия моя, родимая? Мои шестьсот рублей дармовые тоже в десять раз уменьшатся? – баба Стюра аж за голову схватилась.
– Мама, всё уменьшается в десять раз. И то, что мы получаем, и цены на товары. – Так ведь, Боря? Только почему два-три года всего? А дальше что?
Отец пригладил шевелюру. Волны темно-каштанового волоса взбрыкнули вихрами и плавно улеглись на места.
– Есть у меня предчувствие, что реформу эту сделали совсем не для удобства народа. Это мы в редакции толпой умников наших обсудим завтра. Но мне кажется, государству надо из чего-то выкрутиться. Есть тут какая-то хитрость, ядрёна вошь!
– Боря! – воскликнула моя аристократическая мама учительским голосом. – Ребенок слушает. Слова приличные выбирай.
– Мам, я про ядрёну вошь слушаю и в городе и во Владимировке. Вошь как вошь. Только крепкая, ядреная как квас у бабушки. Сами про квас так говорите.