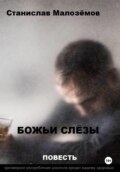Станислав Борисович Малозёмов
Всю жизнь я верил только в электричество
В Кустанае для начала раздербанили старый парк, любовь народную. Он был тихий, тенистый, с уютными старинными скамейками, добротными литыми урнами с узорами, с грунтовыми дорожками и озерком в центре. В нём плавали лебеди. Рядом сто лет стояла танцплощадка, на которой охмуряли девиц ещё прадеды наши. Её убрали первой. Все дорожки заасфальтировали, вырубили половину деревьев и рядом с озером разместили асфальтовую площадь со ступеньками, которые выводили народ прямо к Обкому партии. Что хорошо – осталась традиция. Раньше в парке всегда играл духовой оркестр на маленькой полянке, где народ ухитрялся ещё и кружиться парами в вальсах. В семьдесят четвертом и в 2019 оркестр всё так же и играл. Теперь уже на большой асфальтированной площади рядом с лебединым озером.
И лебедей оставили, заключив их в массивную бетонную ванну со смешным фонтаном и мраморной окантовкой по периметру. Красивый кованый забор вокруг парка выдернули и стала территория похожей именно на территорию. Она просматривалась насквозь с любой точки. С детьми маленькими там было гулять хорошо, дети были как на ладони. А вот уединяться и признаваться в любви на новых «под Европу» сколоченных, но неудобных скамейках, расставленных на самых видных местах, не хотелось уже. Появились в неожиданных уголках улиц всякие мелкие и крупные скульптуры в стиле «модерн», вокруг повсюду сносили старые здания и уродовали город архитектурным минимализмом. Это, видимо, обозначало стремление успеть за передовыми советскими мегаполисами и проклятым Западом.
А мне вспоминались заповедные места в нашем парке, где были потаённые местечки для разных людей и занятий. Не буду вспоминать всё. Много очень деталей. Но вот то, что в парке в 1958 году безногий мой дядя Миша играл с такими же калеками в настольный теннис, пропустить не могу. Кто сделал для них специально низкие теннисные столы, точно не знаю. Кто обрезал ножки у дорогого бильярдного стола ровно под мужчин с короткими культями вместо ног – неизвестно. Но это были не просто хорошие люди. Это были люди с чувствительными к чужой беде душами. Вряд ли они исполняли приказ органов коммунистической власти. Скорее, сами жили они во власти добра и уважения к людям, несправедливо обиженным судьбой. Кстати, в пятьдесят девятом мы часто всем двором нашим ходили в клуб смотреть кино. Кого-нибудь из мелюзги гоняли заранее за билетами, а потом почти семейной толпой шли приобщаться к важнейшему из всех искусств, во что верил вождь, Ленин Владимир Илиьч.
Михалыча заносили в фойе на его тележке и там он ездил, и здоровался с такими же, как он придатками инвалидных тележек, пил с ними лимонад и ел пирожные. Но самое главное было в зале с экраном. Его сделали с уклоном вниз, чтобы дальним было видно через головы ближних. Поэтому инвалиды на своих тележках просто скатились бы к экрану и, с трёх метров глядя фильм, быстро бы окосели. Так вот, для них через каждый ряд по обеим сторонам прохода к креслу внизу был вбит штырь с цепочкой. На конце цепочки имелся крючок, который инвалид цеплял за тележку и никуда не скатывался. Проход не загораживал и никому не мешал. Вот кто это сообразил сделать без указаний и команд от начальства? Уверен, что люди эти лучше и выше калек безногих себя не считали, а дома жили со своими семьями в любви и добре.
А я шел и вспоминал наш первый с Михалычем поход вместе в ту пивную на окраине базара в далёком уже 1959 году. На этом месте пиво пили только инвалиды. Для них выровняли плавный по подъёму въезд в ворота, сделали два высоких стола для тех, кто на костылях. И пять круглых, под два метра диаметром, столов низких, под которые заезжала половина тележки, а пиво пить было удобно, и сушеного кустанайского карася или щуку разделывать вполне хватало места. И я уверен, что базарное руководство не приложило сюда командного своего голоса. Всю сделали сами пивники. Для которых, кстати, недолив или разбавление пива водичкой не допускалось категорически. У них кроме хорошего пива и рыбы просто была нормальная совесть и чувство сострадания. В пятьдесят девятом я, держа тележку за ремень, бегом притащил его на место минут за десять, после чего Михалыч сказал:
– Я, Славка, сюда отдыхать душой еду, а не рисоваться, что у меня такой шустрый собственный конь есть.
Он, я помню, никому не рассказывал, где воевал, как ноги потерял.
– А почему никто про войну здесь не говорит вообще? И про увечья молчат? Два часа я тут сижу и ни слова о войне не услышал.
Меня это удивило. Я думал, что и собираются тут калеки, чтобы пивком помянуть тяжелые для памяти дни.
– Война прошла давно, пацан, – сказал тогда дядя Миша мрачно. – А какие увечья? Где ты там их видел? Нормальные мужики. Здоровые, сильные, дружные, умные. А увечье – это когда человек дурак и когда у него нет души и, стало быть, совести. Вот они – калеки. А мы живем. Всё у нас есть. Кроме мелочей, которых никто не чувствует и не замечает.
Михалыч уже ждал меня возле ворот. На нем была белая косоворотка, с левой стороны на груди медаль висела, брюки он надел тёмно-синие, твидовые в мелкий рубец и с тонкой серой полосой вдоль. Штанины тётя Оля не отрезала, а завернула их под обрубки. Снизу живота и по полу тележки пропустила синюю ленту и завязала мелким незаметным бантиком. На голове Михалыч имел тонкую белую фетровую шляпу с такой же синей лентой, какая была на штанах. Сам сшил. И, самое главное, тележку он взял парадно-выходную. С надувными резиновыми шинами, отполированную и покрытую плотным слоем коричневого лака. Ремни для ног – из дорогой кожи, из хромовой. Такой хром только на офицерских сапогах. А вот ремень, который мне надо было тянуть с Михалычем в тележке, был простой, сыромятный, старый. Я протянул ему бутылки. Он их взял, поцокал языком, обозначая высокий класс подарка, и крикнул во двор:
– Эй, мать! Поди сюды!
Выглянула тётя Оля. Она тоже собиралась уходить. В церковь, наверное. Тёмное платье было на ней и черный шифоновый платок. Полностью скрывший седой волос.
– Чего забыл, Мишаня? Щуку сушеную сзади тебя я в газетку завернула. Прямо под бортиком лежит.
– Бутылки вот эти домой занеси. На верстак поставь там. На поднос. Потом выпью. Мы, Славка, в пивной кроме пива не пьём ничего. И кроме рыбы не едим другого. Это ж пивная! Не кабак. Мы съезжаемся поговорить о делах своих и семьях, попеть песни хором, рыбкой похвастаться и поделиться. Каждый своей. Пивников похвалить за свежее пиво. Ну, основное, конечно, просто показаться друг другу. Увидеть, что живые все. А больше трёх кружек там никто не пьёт. Нажраться до соплей и дома можно, когда приспичит. А там у нас свидание. Кто ж на свидании надирается? Перебор всю любовь с уважением загробит.
А мы друг друга любим за дело и уважаем за всё доброе, что в человеках не сгинуло, не поломало жизнью. Поехали.
Я взял ремень и не спеша повез тележку с дядей Мишей на базар. Мы появились там, когда по двору уже катались тележек пятнадцать. Мужики жали руки друг другу, обнимались, хлопали друзей своих по спинам, весело перебрасывались шутливыми матерками, которые подчеркивали близость душевных отношений, острили и хохотали. Никто ещё пиво не пил. Ждали остальных. Они съезжались с разных сторон, кто быстро, кто не спеша. Двор довольно скоро заполнился широкими, но слегка согнутыми возрастом плечами, лысыми и седыми головами, красивыми тележками и выходной одеждой.
Я, пока длился ритуал долгожданной встречи, пошел за угол бывшего мясного павильона. Там пятнадцать лет назад дерущиеся петухи вытоптали большой круг. Он тогда был усыпан перьями, пухом и полит каплями крови. Вокруг петушиных драк собиралась толпа, смешанная из хозяев «гладиаторов» и любителей поглазеть на эту дикость. Сейчас петушиным битвам вышел запрет и с базара их выгнали. Теперь организаторы птичьих боёв носили своих драчунов в сквер, выращенный на месте снесенного старинного кладбища совсем недалеко от базара. Там я ни разу не был. Ничего кроме жалости к птицам и отвращения к их «тренерам» я не испытывал.
А в это время во двор пивной вкатился на белой перламутровой тележке, отталкиваясь от земли лыжными палками, дед в тельняшке и с офицерской фуражкой на кудрявой белой голове. За спиной у него на ремне висел тоже перламутровый с кофейным оттенком аккордеон «вельтмайстер».
– О-оо-о! – обрадовались без исключения все. – Генаха! Дорогой! Струмент – то не пропил! Значит потанцуем сегодня!
– Вы у меня сегодня, мля, не просто потанцуете, а порхать будете! – Генаха сгрузил аккордеон на стол и поехал обниматься со всеми. – Я, мля, неделю маялся, но фокстрот «Цветущий май» одолел-таки, как обещал! Выучил так, что хоть по радио с ним выступай!
Пивники, два здоровенных парня лет тридцати, бегом разносили по столам кружки с пивом. Как они умудрялись нести в каждой руке по три кружки – для меня осталось загадкой. Причем делали они свою работу так, что на бегу не только не натыкались на тележки, но даже пена, и та не выплёскивалась.
– Сколько с нас, Лёха? – крикнул огромный лысый мужик с большими белыми усами. – Пятьдесят два человека по три кружки.
Он подкатился к окну выдачи и подставил ухо. Потом подъехал к пустому месту на столе и оповестил катающихся друзей:
– Э, орлы! Вот сюда – кто сколько скинет, но чтоб было не меньше тридцати рублей. Это со скидкой.
Деньги сбросили, усатый рассчитался и все окружили столы, развернули, покрошили на газетки и тряпицы свои рыбные запасы и сгрудили их на середину каждого стола.
– Ну, со свиданьицем! – выдал тост их постоянный, наверное, тамада в белом парусиновом костюме и каким-то орденом на левом кармане. – Мир домам нашим, покой и достаток!
Далеко за забором базарным, наверное, слышен был приглушенный, но тяжелый удар одновременно сдвинутых бокалов. После чего все сделали по три глотка и расслабились.
– Свежак пиво-то! – крикнул кто-то.
– Нефильтрованное!
– Душистое пивко!
-В Кустанае нет лучше пивка, чем наше!
Пивники стояли сверху над калеками и с удовольствием на лицах впитывали в себя прелесть комплиментов.
– Пейте, мужички! – сказал один из них. – Пусть не во вред пойдет оно, а на пользу! Отдыхайте, дорогие!
– А это сынок моего приятеля-соседа, – Михалыч подтянул меня за штанину к столу. – С малолетства пацана перед собой держу. Вишь, вырос как! Хороший парнишка. Крепкий и жить не боится. Славкой зовут.
Все замычали одобрительно. А из них один только вопрос задал:
– Служил, Славка?
– Конечно служил,– смутился я. – Два года как дембельнулся.
– Молодец, – тихо сказал другой: – Отслужить мы обязаны. Родина – не корова. Сама не отбодается. Садись рядом, хлебни пивка.
– Он спортсмен, – вступился дядя Миша. – Это дело под запретом у них. А то чемпионом не станет.
– Стану! – сказал я нагло и все громко и весело засмеялись. Смеялись и пили. Потом пили молча. Я отошел в сторону шагов на десять, прислонился к забору и смотрел. Мужики о чем-то неслышно толковали, рыбный и пивной ароматы делали обстановку уютной и чинной. Аккордеонист с трудом нацепил ремни своего красавца «вельтмайстера» на плечи, но он все равно задевал его обрубки мехами. Но Генаха прогнулся спиной назад, закрепил инструмент на груди и стал играть красивый фокстрот «Цветущий май». Мужики выкатились из-под столов, хватали друг друга за руки и кружились на тележках по двору, задевая соседей, стучась об столы, переворачивались на бок и тут же поднимались на колёса сильными руками партнера.
Танцевали долго, потом снова пили, болтали и грызли раскрошенную рыбку.
Я смотрел на Михалыча, счастливого и милого, как невеста на выданье. Он что-то шептал тихонько. Так, что не слышал никто. И в глазах его отражались кружки с пивом и хорошие, старые друзья по счастью.
– Нашу споём?! – не то спросил, не то приказал Генаха.
– Спрашиваешь! – возмутились все и на тележках образовали несколько кругов, обнявшись за плечи. Генаха выпил, утерся рукавом и откашлялся.
– Ты, Славка, иди,– Михалыч попросил меня нагнуться и сказал шепотом.– Ребята когда эту песню Утёсова поют, то плачут всегда. Перед своими им ничего, а тебя стесняться будут. Ольге моей скажи, что я поздно приеду. Нам вон с тем Андрюшкой по пути. Он за нами, за углом живет. Год назад из Ленинграда приехал. Не может там. Ну, иди.
Я незаметно вышел за ворота, прошел немного и сел на цементную основу, рядом с утопленными в бетон прутьями забора.
Аккордеон сначала сыграл вступление и потом все стали как умели петь знаменитую песню, которую исполнял Утёсов – «У меня есть тайна».
Я долго слушал и попутно думал об этих людях. Нет. Не так. Я просто думал о людях. Обо всех, кому повезло жить. Даже если они были никчемными, пустыми и бесполезными на земле. Даже им кто-то Великий, какая-то сила, правящая всем на свете, подарила эту случайную прекрасную возможность: побыть какое-то время здесь и успеть удивиться жизни. Невозможно было жить и не удивляться, не наслаждаться этим подарком. Судьбы тех людей, кого я видел сейчас, одним махом искалечили их. И этим простили им все грехи. Вольные и невольные. Бывшие и будущие. Смыли их грехи их же кровью. И их же кровью умыли и очистили души и совесть. Наверное, так.
– У меня есть сердце,
– А у сердца песня.
– А у песни тайна.
– Хочешь – отгадай…
Плакал аккордеон. Слышались смущенные, но ничем не удерживаемые всхлипывания старых изувеченных мужчин, которые уже не боялись ни смерти, ни жизни.
Мои мысли как будто замерзли, заледенели и прекратили существование. Наверное, от того, что глаза мои вдруг заболели, подбородок стал подрагивать и я неожиданно для себя заплакал.
И сразу же быстро побежал вниз от базара, от пивной, от Михалыча, от звуков аккордеона и от людей, то ли проклятых своей судьбой, то ли, наоборот, сделавшей их самыми счастливыми.
Глава пятнадцатая
Самолет с трудом удерживал равновесие и шел на посадку. Ветер, подвывая и посвистывая, несся с запада, гоняя как растрёпанные куски ваты низкие облака. Они путались друг с другом, ныряли на огромной скорости к земле и, натыкаясь на невидимые никому препятствия, отталкивались от них. Потом так же быстро подпрыгивали к небу метров на двести, пулей улетая на восток. Самолет кренился то на левый бок, то на правый, он опускал хвост, потом нос. Он усмирял болтанку, скручивая взбесившийся воздух ноющим от борьбы с ветром пропеллером. Картина эта, обычная для кустанайской степной равнины, была всё-таки ужасна. Причем только потому, что «АН-2», и без того потрёпанный ветром, имел ещё одну неприятность. Она была куда хуже и серьёзнее мелких воздушных ям, углового сноса и уставшего хвостового руля горизонтального поворота.
Этой неприятностью были мы. Четыре двенадцатилетних придурка, которые очень хотели вырасти поскорее и стать летчиками. А потому почти каждый день по несколько часов торчали на аэродроме. Нас там знали все. И летчики, и техники, заправщики аэропланов керосином, кассиры и буфетчица. Диспетчеры, и то нас знали и временами звали к себе, в стеклянный купол над крышей аэропорта. Мы ухитрились нытьём и всякими клятвами убедить начальника аэропорта в том, что собрались поступать в лётное училище. А летать потом на кустанайских самолётах по важным делам и нужным маршрутам над родной казахстанской землёй.
В этот апрельский день после школы прибежали мы на грунтовую взлётную полосу и, согнувшись под ветром, глазели на два огромных полосатых черно-белых мешка без дна. Они указывали направление ветра, распухая от скорости воздуха либо еле-еле, либо как сегодня – торчали вроде твердых толстых шлагбаумов строго параллельно земле. Смотреть и восхищаться ими в профиль удобнее всего было только с полосы. Зрелище было завораживающее. Мешки вели себя как живые. Они вихлялись, опускались концами вниз, потом подпрыгивали и надувались почти как воздушные шары. Ветер так резвился в тот день, так громко пролетал рядом с ушами, что голоса мотора «кукурузника», который с короткого и крутого виража внезапно пошел на посадку, мы не услышали. Громче него оказался крик техника Сергея со стоянки. Он бежал к нам против ветра с большим уклоном к земле, он прямо-таки лежал на летящем воздухе грудью, но всё равно приближался и орал громче ветра и мотора:
– Бегом с полосы, идиоты! На траву бегом! Убьет! Ах вы, козлы малолетние!
В это время мы уже остолбенели и глядели на самолет как на гипнотизёра, усыплявшего сознание. Двинуться с места мешало величие огромной машины с четырьмя крыльями, которая в воздухе, но уже почти на земле, смотрелась грандиозно. Это был уже не маленький «кукурузник», а огромный лайнер. Он не просто подавлял величием. Он заколдовал нас, превратил в окаменевшие статуи, у которых были открыты рты и протянуты вперед, к самолету, руки.
– Ах вы ж, мать вашу так и распратак!!! Нагнулись и побежали! Ниже, ещё ниже нагнулись! – техник Сергей как-то смог растопыренными руками прихватить нас всех и уронил на полосу. Сам тоже упал на колени. – На четвереньках, на руках и ногах – побежали! Не успеем, мля!
Только-только упали мы носами в траву, как сзади на землю громко опустилось несколько тонн дюралюминия, стекла, резины и амортизаторов из нержавейки. Пыль от колес метнулась против ветра и нас достала. Поднялись мы желтые со спины и зеленые спереди от сочной апрельской травы.
– Дураки, мля! – подвел итог событию техник Сергей. – Скажу начальнику, чтобы гнал вас к едреней матери. Хорони вас потом с оркестром за счет аэрофлота. Разорите, мля, аэрофлот. Хороший духовой оркестр рублей триста берет. А скажешь им, каких идиотов хороним, так все пятьсот и запросят. И всё. Аэропорт закрываем. На что керосин покупать?
И он вразвалку, качаемый ветром, пошел обратно, отряхивая с колен пыль и пытаясь стереть зелень пырея.
«АН -2» подрулил к стоянке, техники кинули под колёса красные подставки к шинам, чтобы они удерживали машину от случайного самоходного движения. Подъехал заправщик, появились ещё три техника и начали обходить аэроплан со всех сторон. Один из них пошел в салон. Все они делали свои дела, хотя, казалось, что просто прогуливаются, изредка дотрагиваясь до чего-нибудь.
– Дядь Коль! – я подошел к командиру. – Вот Вы какой крен выправили! Градусов двадцать, да? И сели как на перину. Здорово. Ветрище-то вон какой! Деревья, небось, ломает. Сверху не видели?
– Это хорошо, что мы вас, дураков, на полосе вообще заметили. – Командир улыбался, поднимая и опуская левый элерон. Проверял. – Ты, Славка, главный в вашей гоп-компании. Вот ты за нарушение регламента и будешь отвечать. Мы с Петром, когда вас увидели почти под винтом, то Петя сказал, что ты это специально придумал – торчать на полосе, чтобы посадить нас с Петром и штурманом-радистом в тюрягу лет на пятнадцать. А? Хотел?
– За что, командир? – удивился Жук. – Мы сами чуть не погибли там все.
– Это суд не учтет, – дядя Коля засмеялся в голос и пошел двигать элерон на правом крыле. – Вы диверсанты. Чтобы вывести из строя рабочую единицу гражданской авиации и навредить государству вы пошли на смерть. Диверсанты часто в войну так делали. И получилось бы, что мы и вас убили, и машину кокнули. А она миллионы стоит. Государству, стало быть, экономический урон. Нас, значит, в тюрьму, а вас в братскую могилу.
– Чего это в братскую? – тихо возмутился Жердь.
– У нас родители есть. Похоронили бы всех отдельно. С памятниками,– влез в обсуждение Нос.
– Ага!– второй пилот дядя Петя аж зашелся в хохоте. – А на памятниках надписи: «Он вел подрывную деятельность против советской гражданской авиации. Угробил тридцать самолетов на сумму пятьсот миллионов рублей».
А мы бы на нарах померли от туберкулеза.
Смеялись долго все. И летчики, и техники, ну и нас прихватило. Тоже скромно похихикали.
– А Вы в войну на чём летали? – я тронул командира за рукав.
– С сорок второго по сорок четвертый на «ПО-2». Поликарпова машина. Похожа на вот эту, на нашу. Я разведчиком летал и ночным бомбардировщиком. Тихая машина. Тише нашей. За пятьсот метров не слышно. Летали низко. Почти возле земли. А ночью чуть повыше. И бомбы руками кидали двое. Они в заднем гнезде сидели. Передние фронтовые укрепления разрушали в основном. Я мальчишкой был тогда. Двадцать три года… Подстрелили нас в декабре сорок четвертого на обратной дороге. Ничего, не упали, доковыляли на бреющем на свою территорию.
– А я не летал. Пятнадцать лет только набежало мне в войну. – Петр вздохнул.
– Ладно лясы точить. Пошли обедать.– Командир постучал по фюзеляжу и твердым военным шагом пошел к аэропортовской столовой.
– А можно мы в самолете посидим? – жалобно крикнул я ему вдогонку.
– Оторвете чего-нибудь, то ремонт за счет твоих, Славка, родителей, – весело ответил дядя Коля, не оборачиваясь.
– У нас у всех родители хорошо зарабатывают, – похвастался Нос. -Отремонтируем.
Опять-таки, не оборачиваясь, командир погрозил нам кулаком. Что означало окончательное разрешение посидеть в кабине красавца «кукурузника».
Мы как в музей – на цыпочках и почти не дыша втиснулись вчетвером в кабину. Это было сказочное пространство. Кнопки, стрелки, круглые и квадратные оконца, за стёклами которых были изображены загадочные знаки, фигуры и пересечённые линии. От потолка до самых педалей всё было утыкано переключателями, колёсиками, тумблерами. На сиденьях лежали большие наушники, к которым спереди на заводе приделали маленькие микрофоны. Жук и я убрали наушники на спинки сидений и аккуратно уселись в кресла. И замерли. Это был высший момент наслаждения. Мы держались за штурвалы и, не сговариваясь, стали рычать. Изображали, как могли, работу мотора. Сидели так минут пятнадцать. Потом вместо нас уселись Жердь и Нос. И тоже зарычали. Ну, а мы с Жуком пошли в салон и стали разглядывать землю в иллюминаторы, представляя, что трава – это далекий дремучий лес из могучих деревьев, над которым мы высоко летели по очень значительным делам.
Техники сделали свою работу и ушли. Заправщик тоже уехал и мы остались одни. Раза по три ещё поменялись местами в кабине и в салоне. Хорошо было. Уютно и приятно. От самого факта хотя бы такого, воображаемого, причастия к лётному делу.
Через два часа вернулись летчики, постучали по колёсам, покрутили рули высоты и поворота, проверили какие-то красные крышки, ввинченные в крылья и из самолёта нас выгнали.
– Нам лететь надо в Тарановку, – сказал Пётр. – Сейчас машина подойдёт. Загрузят запчасти для тракторов. И повезём. Стоят трактора-то.
Мы попрощались со всеми и пошли домой. Чтобы послезавтра снова вернуться.
Сядем как всегда за полосой на траву. Разложим на газете хлеб, лук, соль, яйца вкрутую и бутылку с водой. А картошку из мешочка вытряхнем, разожжем костер из мелких веток и прошлогодней сухой травы. А потом будем её печь в куче горячей золы. И смотреть как взлетают и садятся «АН-2», «ЛИ-2», «ЯК-10» и огромные современные «ИЛ-14». У нас даже вертолет один был. «МИ-1». Санитарный. Когда он взлетал или садился, мы подползали поближе с разинутыми ртами. Самолеты были нашей любовью, а вертолет – чудом, к которому вместо любви чувствовался самый священный трепет всех лучших наших чувств.
Я не помню когда меня настигла потрясающая эта мысль – быть только авиатором. Читал я, конечно, про всех отважных летчиков, которым просто необходимо было подражать и завидовать. Это и Маресьев, Талалихин, Нестеров, первым крутнувший «мертвую петлю», это и Водопьянов, Уточкин, один из самых первых российских лётчиков. Ну и, ясное дело, асы войны – Кожедуб и Покрышкин. А ещё великий испытатель Коккинаки. И других имен знал много, но эти просто заколдовали меня своими подвигами. Я прочел много книжек про авиацию, которых в наших библиотеках имелось в достатке.
Выучил все типы и виды самолетов, от военных до гражданских. Об иностранной авиации в этих книжках почти ничего не писали и мне думалось тогда, что куда там им, англичанам всяким да французам, до советских конструкторов и их великих самолётов. Смущало немного, что первыми в воздух поднялись американцы братья Райт. Да нет же! Немного не точно. Строили самолеты и до них, даже взлететь пробовали, но те аэропланы не летали. А братья Райт первыми сделали полет управляемым и долгим. Отсюда и попёрла вперёд и вверх авиация. А меня она начала звать к себе ещё когда мне только восемь лет пробило.
Я покупал в «Детском мире» конструкторы «Юный пилот» , которые состояли из разнообразных фанерных деталей, чертежа и специального клея. Это были штурмовики «ИЛ-2» и знаменитый «зверь» «ИЛ-10», гражданские «ИЛ-14» и «ЯК-12». Я их собирал, мучаясь над чертежами подолгу, но у меня всё равно получалось. Самолёты висели на веревочках, прилепленных к потолку пластилином. Никто в доме страсть мою не трогал, не отвергал и не разубеждал. Потом я налепил штук сорок разных самолётов из пластилина. Меня радовало то, что половина из них была моей личной конструкции. Аэропланы, рожденные моим воображением, смотрелись настолько оригинально, что отец, обычно молча разглядывающий модели известных самолётов, за ужином спросил, показав пальцем на мои изобретения:
– Сам придумал?
– Ну, да! – небрежно, но гордо промычал я, дожевывая котлету.
– Эти не полетят. – отец поднялся и пошел в сени наливать в стакан чай.
– Чего это они вдруг не полетят?– заступилась мама. – Славик всё сделал по законам аэродинамики. Да, сын?
– По самым законным законам!– я тоже взял стакан и побежал за чаем. -Я же не просто лепил. Сперва всё рассчитывал, потом уже делал.
– А, ну если сперва рассчитывал, то они у тебя и нырять в море смогут. – Отец тремя глотками выхлебал чай, хмыкнул и спустился во двор.
Я не обиделся. Чего зря нервничать? Впереди большие дела. Учеба в летной школе, потом в Академии. А дальше – небо, высота, полёт, счастье!
Незаметно подкрался июнь. Я заканчивал шестой класс и до конца школьных «радостей» оставалось каких-то пять лет. Я тогда просто не предвидел, что в 1966 году одиннадцатый класс отменят. И после десятого аттестат зрелости мне тожественно сунут в руки и взрослую жизнь к нему в подарок.
Но в страшном, самом кошмарном сне не могло присниться мне, что любовь и страсть к авиации, единственная мечта – стать летчиком сотрутся уже в десятом классе как какая-нибудь заковыристая формула, написанная мелом на школьной доске. Одним махом влажной тряпки. Но всё это будет потом. И пройдет расставание с мечтой о небе безболезненно и легко. Как будто мечты той и не было.
А пока она жила! Она давала мне радость читать всё, что можно было найти об авиации, о летчиках и о будущем воздухоплавания. Она дарила мне и моим дружкам, тоже, в мечтах, летчикам свидания с аэродромом, которые случались если не ежедневно после уроков, то уж через день точно. Аэродром расположился сразу за железнодорожным вокзалом. Пройдешь пять рядов рельс, и ты уже возле аэропорта, куда пассажиры добирались по мосту через железную дорогу. Мы по мосту не ходили. Потому, что пассажирами себя не видели даже в далёком будущем. Только летчиками. А лётчикам на работу можно ходить, как захочется. Хоть через рельсы, хоть через кладбище слева от взлетной полосы.
Мы вчетвером шли на свое насиженное место со свертками, скрывавшими от посторонних луковицы, хлеб, бутылки с водой соль и картошку. Иногда мы складывали всё это в кучу на траве и делали обход вдоль стоянки, разглядывая в сотый раз знаменитые «кукурузники», которых было в Кустанае семнадцать штук, большие, опущенные на маленькое заднее колесо серебристые «ЛИ-2» конструктора Лисунова, который переделал его по лицензии из знаменитого американского «Дугласа ДС-3». Их в порту было шесть всего. Потом мы проходили мимо огромных высоких красавцев «ИЛ-14».Три самолета всего досталось Кустаную. И летали они куда-то далеко, Даже в Москву и Алма-Ату. После обхода мы ложились на траву и следили за всем, что происходило в порту, за взлетом и посадкой машин, ходили здороваться со всеми летчиками, техниками, диспетчерами и даже с буфетчицей. Она, кстати, часто наливала нам бесплатно по стакану лимонада и всегда спрашивала, хорошо ли мы учимся в школе.
А я уже и тренировки легкоатлетические стал пропускать, драки совсем забросил район на район и на лучшие кинофильмы, которые крутили в нашем клубе не успевал. Мы допоздна торчали возле самолётов. Авиация смогла выдавить собой из наших жизней почти всё остальное, казавшееся попутным, второстепенным и незначительным для будущих наших судеб.
Начались каникулы, но я даже во Владимировку поехал только через пару недель. Взял у тренера двухмесячный план индивидуальной работы, сдал все книжки библиотечные, набрал новых на всё лето и продолжал мотаться с друзьями на аэродром. А тут как раз началось строительство новой взлётно-посадочной и рулёжной полосы из бетона для новых, очень больших самолетов-турбовинтового «ИЛ-18 Б» и реактивного «ТУ- 104». Бетонные полосы делали подлиннее, чем километр. И мы бродили среди всех этих многочисленных бетономешалок, людей с огромными лопатами, машин, привозивших мешки цемента, песок и гравий. Было очень интересно. Никто нас не гнал, не ругал, никому мы не мешали и не отрывали от ответственной работы. И мы ходили внутри влажного, слегка дерущего горло воздуха, довольные тем, что никто из наших кустанайских пацанов, да и большинство взрослых никогда не видели такой масштабной бетонной работы. Этот материал в 1961 году был всё же редкостью в нашем зелёном и уютном, но не особенно цивилизованном городе.
Надышавшись цементной пылью и сырым душным бетоном, сели мы на свою маленькую полянку, съели лук с хлебом, запили водой и пошли к стоянке, где столпилось человек пятнадцать в синих форменных костюмах и высоких того же цвета фуражках с блестящими на солнце кокардами. Они ходили вокруг бывшего «Дугласа», размахивали руками и разговаривали наперебой, поэтому издали было не понятно ничего из их явно серьёзного обсуждения. Зашли мы сбоку, сели под фюзеляж и только тогда до нас дошло, что спорят начальники и лётчики о том, как надо провести испытание самолета, на котором поменяли сразу много деталей. Я посидел, прицелился, навел глаз точно на командира корабля Григория Ивановича, поймал дырку в его перепалке с начальством и как привидение выпорхнул из-под живота аэроплана прямо к нему под нос.
– Драсти! – протянул я руку командиру.
– Драсти! – передразнил меня дядя Гриша. – Отвали, Славка, на полштанины. Вот разгребём сейчас с руководством кучу дерьма. Тогда они победят нас и, счастливые, по кабинетам рассосутся. А мы полетим испытывать – порвутся тросики на рулях или нет. Мы их просили тросики сечением 2,3 достать, а они припёрли 1,7. Говорят – это новая сталь, особенная. Немецкая трофейная технология. Втрое прочнее старых наших. Мы им говорим: полетели вместе. Вмести и гробанемся, если что. Никто не в обиде. Кроме жен с детьми. А они говорят, что у них в кабинетах поважнее дела, чем дурью маяться сорок минут кругами над городом. Что, мол, за сорок минут они там кучу наших же проблем порешают в нашу пользу. Тьфу.