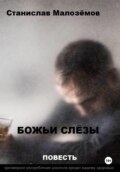Станислав Борисович Малозёмов
Всю жизнь я верил только в электричество
– Григорий! – басом сказал начальник с тремя золотистыми треугольными нашивками на рукавах. – Давай, лети, Гриша. Мозги мне –..-..-!
– Слушаюсь! Чего я тебе, Витя, ещё могу сказать! Ты начальник – я дурак. Или покойник. Но учти: машина стоит двадцать три миллиончика. Сам отдашь Хрущёву если вдруг не дай Бог.
– Мля!– сказал с отвращением начальник и пошел в кабинет – А ещё летчик- истребитель. Два ордена у него. Тебе вон куда надо. Бетон месить.
Последние слова он брезгливо произнес, исчезая за углом. Разошлись и остальные. Кроме экипажа. Мужики разом закурили и пошли по новой крутить рули.
– Смазали вроде хорошо.– похлопал ладонью второй пилот по элерону. Петли, шарниры. Тросики смазаны. В принципе – потянут, не гробанемся.
– Пацаны!– вдруг ожил штурман и уперся в нас весёлым взглядом.– А давайте с нами прокатнёмся все вместе. Нам с вами не страшно будет. В вас много жизни будущей залито. Так и прёт из вас близкое и далёкое будущее. С вами мы точно не грохнемся. Будете у нас талисманом. Семь кругов над городом.
Мы остолбенели и ответить ничего не смогли. Я, Жук, Нос и Жердь никогда в жизни не летали на самолете.
***
Самое высокое место, с которого мы видели под собой землю – это опора электролинии ЛЭП-500, стоящая в степи по дороге к военному городку. Мы в городок ходили, ездили на велосипедах и на лыжах зимой довольно часто. Однажды по пути повернули к этой опоре. Был теплый май. Посидели под ней, разглядывая гирлянды изоляторов и провисающие до следующей опоры провода.
– Слабо залезть наверх?– спросил Жердь ехидно, ни к кому не обращаясь. Просто так сказал. Свежему воздуху.
Ну, мы, конечно, оскорбились и все по очереди сказали ему, что он полный придурок и провокатор. Чего тут лезть-то? Шурик, батин брат младший, электрик в то время, вот он мне говорил мимоходом, что высота опоры всего сорок девять метров. Это разве высота? Вон по ней электрики лазят как гиббоны, да ещё как-то по проводам ухитряются бегать. Когда ток отключен, естественно.
– И вообще, – не один раз за жизнь напоминал мне Шурик – Электричество – это главное и единственное, во что можно и нужно без сомнений верить. В нём вся сила и вселенская энергия.
– А полезли! – я первым подпрыгнул, подтянулся на нижней перемычке и сел на неё верхом. А дальше надо было просто руку протянуть и перебраться на узкую лестницу. Конечно, если это взрослый электрик. Пацану пришлось до лестницы прыгать. Я уже шел по ней до крохотной первой площадки и только тогда внизу сразу трое моих друзей запыхтели, засопели и, нечленораздельно выражаясь, вроде как погнались за мной. Минут через двадцать почти альпинистского восхождения мы вчетвером с храбрыми лицами стояли на решетке последней площадки и боязливо глядели в пустоту под ногами, намертво вцепившись в трубу ограждения. Земля лежала страшно далеко. В карьерах, где добывали железную руду, мы тоже смотрели в глубокий, под сто метров провал. Но стояли-то наверху, на твёрдой почве и вниз смотрели с уважением к глубине, но без страха. А на ЛЭП-500 почвы под ногами не было и мы впервые неожиданно испугались высоты и прониклись к ней уважением. Сверху всё смотрелось грандиозно. Всего было много. Больше, чем на земле. Воздуха, света, солнца, ветра, пространства. И только отсюда, вглядываясь в гнутый горизонт, дураку было ясно, что Земля круглая. Чему в древности верили не все. Одного даже сожгли за такую неожиданную правду.
Раньше я лазил на разной высоты деревья. И даже прыгал в листья с высоких веток. Волю тренировал. Это сейчас я так думаю.
Но с деревьев ни черта видно не было. Только такие же деревья. С гнёздами и без них.
Спускались мы с вышки электрической раза в три дольше, чем взлетали наверх. А в жизни обычной скатиться можно очень быстро, а вверх – наоборот лезть тяжко. Это понимаешь далеко после детства. К сожалению.
***
Командир дядя Гриша закурил, снял фуражку и потрепал кудри свои седые.
– Оно, конечно, с пацанами надежнее лететь. Мы будем знать, что на борту пассажиры и фордыбачить в небе не будем. Есть за кого отвечать. Это стимул лететь ровно и машину не насиловать. Проверим, конечно, прочность новых тросиков и петель, но без придури и зверства. Давайте, орлы, в салон.
Странное состояние испытал я, все последние три года сгоравший от желания быстрее вырасти и взмыть в небо пилотом хоть чего. Лишь бы оно летало высоко, далеко и быстро. Сейчас, когда передо мной свисала из двери самолёта аккуратная дюралевая лестница, внутри организма стало щекотно, трепетно и тревожно. Будто я на войне, которая как бы не прошла ещё, а меня хотят вместо бомбы сбросить с огромной высоты на врага, чтобы мной пробить потолок самого главного штаба врага и всех главных злодеев там погубить ценой моей молодой жизни.
– Это самое… – я завязал и так хорошо завязанный шнурок на правом ботинке. – Раз полет испытательный, то, наверное, всем парашюты выдавать положено. А?
– Чарли правильно говорит, – подтвердил Жук, лицо которого уже напоминало гипсовый слепок с внешности покойника. – Я читал, что без парашютов испытатели не летают.
– Ну, испытатели-то мы, – развеселился второй пилот. – У нас на каждого по три парашюта. На всякий случай. И по зонтику каждому члену экипажа выдано. Это если парашюты не раскроются. А вам без нужды вся эта бесполезная рухлядь. Парашюты. Зонтики. Вы ведь пассажиры. Вам не положено. Умрёте простыми героями и поставят вам бюсты на ваших улицах. И в школе перед входом в сортир. Там бывают все по десять раз в день и вас будут видеть и гордиться.
– Кончай трёп, – командир глянул на часы, потом на полосатый ветроуловитель.– Пошли по местам.
Жердь, Нос и я усилием мощной воли и окаменевших тел взошли на лестничку и ввалились в салон с сиденьями вдоль бортов. Жук почему-то именно в этот момент захотел сбегать по-маленькому и убежал под фюзеляж на другую сторону. Минут через пять штурман закричал ему, что он завтра позвонит в военкомат и попросит, чтобы Жука взяли в армию штабным писарем, потому, что он не боится только бумаги и чернильницы. Тут же прибежал Жук и со стеклянными глазами сел напротив меня, глядя в иллюминатор так, как заключенный смотрит сквозь решетку на отнятую у него свободу.
Моторы сначала тихо засвистели, потом взвыли, пропеллеры стали раскручиваться всё быстрее и самолет задрожал от нетерпения разогнаться и ворваться в свою стихию, в любимое небо.
– Это же американский «Дуглас ДС-3», – взвыл Жук громче моторов. В глазах его пылал ужас. – Американцы чего вдруг избавились от него и Советскому Союзу спихнули?! Потому, что сами они боятся на нем летать. Один американец сказал, что это вообще «летающий гроб»!
– Тебе лично сказал? – Жердь схватил Жука за грудки и придавил его к стенке самолета. – Чего сознание теряешь? Глядите, пацаны, он сейчас в обморок свалится! Истребителем, бляха, стать мечтал! Не гнусавь тут панические лозунги! «Летающий гроб», бляха! Стал бы СССР дерьмо брать. Мы ж победители! А они союзники всего-то. Подмогнули, когда наши уже и сами справились. Так вот наши, наоборот, лучшее выбирали сами.
– А конструктор Лисунов, между прочим, вообще из неплохого «дугласа» конфетку «ЛИ-2» сделал. Один их самых надёжных самолетов в мире! Во! -Это уже подключился Нос. Он покричал вот это всё как заклинание голосом колдуна.
И всем сразу стало спокойно. Все мы вытянули шеи и слушали непривычный голос моторов. С земли слушаешь – он звучит иначе. Из салона этот голос куда приятнее. Наверное потому, что с земли совсем не слышно свистящего шороха огромных пропеллеров. А он вливается в уверенный грубый голос двигателей и вместе с жужжащей вибрацией фюзеляжа создаёт монотонное, но приятное пение, похожее на хор, тянущий бесконечную последнюю низкую ноту.
Машина все ещё катилась по полосе. В иллюминаторах на доли секунды задерживались аэропортовские подсобки, радар, столбики с красными, синими и зелеными фонариками, почему-то включенными днём. Мелькнул качающий вверх-вниз огромной головой высотомер. А после него побежали столбики, соединённые колючей проволокой. И желтой широкой лентой.
Вдруг неожиданно всё это стало уменьшаться и менять цвета. Как мы оторвались от земли – не заметил никто. Это произошло так же, как у меня за мгновение до сна. Мне тысячу раз казалось, что я вот так же плавно уплываю в тихий волшебный полет над всем миром, перед тем, как заснуть. А вот снов самих ни с полётами, ни без них, я не видел почти никогда.
Жердь ткнулся лицом в иллюминатор и с открытым ртом, не мигая, радостно смотрел на искривляющееся пространство. Это пилоты задрали нос машины и дали приличный крен вправо, в сторону города. Сразу же мир стал другим. Если не обращать внимания на стенки самолета и иллюминаторы, если суметь забыться, отстраниться от рёва моторов и потрескивания переборок корпуса, то будет тебе фантастическое зрелище. Если силой воображения убрать абсолютно всё из того – где, как, когда и с кем ты находишься, то появляется чувство самостоятельного полёта сквозь жидкие облака над сиреневым нашим городом. Искажение растущей толщиной воздуха форм и цвета городских предметов – домов, машин, людей и деревьев, напоминало взгляд на какие-нибудь вещи через обычную линзу. Так, непременно так, видят землю птицы. Точно. Свет солнца, разный в разных слоях воздуха, меняет реальность до болезненного неверия в неё. Тени от маленьких облаков, вырастающие на поверхности земли раз в десять, рисуют странные картины, которые вызывают в мозге чувство совсем разных жизней на земле и в небе. То есть, если бы я родился даже простой сорокой, то жить в воздухе я мог, понимая, что всё на земле не просто маленькое. Оно всё сплющенное и исковерканное радужными бликами солнечными, и тенью грустных облаков, сквозь которые не проскакивают лучи. А если бы я, сорока, слетела с высот на асфальт, то понимала бы, что земля, видимая с высоты – это иллюзия. А реальность – она и цвета другого и форм других. Не тронутых волшебством бесконечности высоты.
Вот они – два разных мира, вынужденные соприкасаться и казаться миром одним. Это исключительный, созданный для избранных мир небесный. И мир обыкновенный. Который для всех нас, рожденных только ползать. Поэтому я буду летать! Как дядя Гриша и тысячи таких как он. Я буду летчиком и стану жить в двух мирах: в мире обыденности и в волшебном небесном.
Самолет уже выровнялся и летел по прямой. Через каждые две-три минуты летчики то резко снижались, то напрягали двигатели, задирали нос аэроплана и поднимали его метров на триста выше. Проверяли закрылки. Потом Петр или дядя Гриша недолго пошвыряли огромную тушу машины то влево, то вправо и, наконец, успокоились.
Мы развернулись над Тоболом и пошли над городом к аэродрому. Всё, что было видно в иллюминаторы, нам хотелось потрогать сверху руками как игрушки, погладить крохотные деревья, подвигать туда- сюда синенькие и желтенькие автобусы, подхватить и забрать на небо хоть на несколько минут маленьких человечков. Чтобы и они смогли взглянуть на обыденную, видимую с земли лишь кусками и фрагментами, банальную свою жизнь – с другого, недоступного пешеходам ракурса. Фантастического и невероятно пронзительного. Позволяющего почувствовать себя выше любой суеты и приземлённых, ограниченных теснотой пространства земного желаний. Этот шанс – почувствовать внутри себя рождение воли вольной, свободы желанной, может дать полет над землёй и над собой. Только полёт!
– Эй, парашютисты! – в салон вышел командир дядя Гриша. – Сейчас мне по рации передали из диспетчерской, что начальник аэропорта в связи с успешным проведением испытательного полета разрешает всем желающим прыгать на аэродром без парашюта! Сегодня можно! Ну, кто первый?
Все засмеялись. А мы с Жердью громче всех. Пока веселились и шлёпали дядю Гришу по широченной подставленной ладони за удачную шутку, самолет тряхнуло слегка и он покатился по относительно ровной полосе. Это мы приземлились и в прямом смысле и в переносном. Второе значение нашего короткого сорокаминутного полёта заключалось в том, что желание стать летчиками у всех нас, двенадцатилетних пацанов, стало главной земной задачей.
Мы выпрыгнули после рулежки и остановки на изумрудную траву, пожали руки всем летчикам и штурману, несколько раз сказали им громкое «спасибо!», забрали возле полосы свои шмотки и несъеденные луковицы с солью, да пошли по домам. Молча. По мужски. А чего болтать зря? День, считай, прошел. Обычный мужской день. Облетали самолет после ремонта. Испытали новые тросики на закрылках. Петли проверили. Нормальная работа обычных лётчиков. Завтра ещё один день пройдёт. Потом ещё сотня. Потом ещё сотен двадцать.
И разнесет нас жизнь по местам, судьбой уже назначенным. Но ей же, хитрой, пока не названным.
А пока мы шли домой и думали о небе.
И верили, что оно тоже запомнило нас и никогда не забудет.
И будет ждать.
Глава шестнадцатая
Не помню почему, но в пятнадцать лет я из дома ушел. От папы с мамой. И от бабушки любимой. Что там во мне в то время булькало, кипело и жгло душу – какой конкретно гормон, неведомо было тогда. Сейчас знаю точно, но толку-то? Я бы и с сегодняшним знанием взорвавшегося в воспаленном юном мозге инстинкта – ушел бы всё равно. И это при замечательной жизни в милой моей семье, небогатой, умной и доброй. Никто, кроме гормона с инстинктом, меня не гнал.
Решил я жить самостоятельно и лично отвечать за себя. С чего бы? Ну, по крайней мере, не в результате долгих и осмысленных раздумий. Просто, гормонам внутри меня показалось, что я созрел до взрослости. А против их указаний, тестостерона в частности, любой, не успевающий за гормональным штормом молодой мозг, бессилен.
Собирался я покинуть колыбель родимую не год, не месяц, а три дня всего. Вот припёрло, что взрослому мужчине неприлично жить на шее у папы с мамой, я не поспал три ночи в думах серьёзных, да всех сразу одним ударом и снёс с копыт. То есть, потряс. Мама, как положено маме, заплакала, бабушка Стюра села на подоконник и фартуком губы прикрыла. Она так делала только в одном случае: когда была очень расстроена. Отец единственный, кто понял меня правильно сразу.
– Ну, что…– сказал он задумчиво и стал ходить по комнате, приглаживая буйную свою волнистую шевелюру. – Из дома бегут по двум причинам. Или от плохих людей и плохой жизни, или у жизни судьбу свою выпытать и принять. Был бы ты, Славка, дурак, я бы тебя пожалел и не отпустил. Но ты не дурак. И дома жить тебе было хорошо. Значит, уходишь судьбу искать. Поэтому я не против. Иди.
– Боря! – всхлипнула мама, а бабушка стала разглядывать палисадник за окном. – Ему пятнадцать лет всего. Паспорта даже нет.
– Голова есть. Руки, ноги. Второй взрослый разряд по лёгкой. Его без труда не выполнишь. Трудиться может. Значит не пропадет. И ты, Аня, ныть прекрати. Не на войну его забирают. Мы все во Владимировке в его возрасте сами на хлеб зарабатывали. Из дома не уходили, это да. Но тогда и не принято было. А сейчас вон сколько девчушек с парнями на целину к нам приехало. Из Москвы даже! Время исканий своей доли и поиски себя в пространстве.– Отец сел на кровать, погладил шершавый подбородок и заключил: – Связь с нами не теряй. Голову не теряй. Старых друзей тоже. Ну и работу найди. Чтобы от нормальных людей не отличаться.
Потом он встал и ушел, как всегда после основательных разговоров, на улицу. А я обнялся с мамой и бабушкой, поцеловал их, взял свою сумку спортивную с одеждой, портфель с учебниками и тремя книжками, которые хотел прочесть. И медленно вышел, ещё медленнее спустился с крыльца, запоминая каждую ступеньку, которых оказалось тоже пятнадцать. Столько, сколько мне лет. Я решил, что это к удаче. И побежал бегом к Носу, дружку своему, у которого после смерти деда была пустая комната. Отец его, дядя Федя, легко разрешил отдать её мне. Он добрый был, отец Носа. Жаль только, что пил много. Потому, наверное, и помер скоро. Через полтора года. Я ещё жил у них тогда. Вместе с их родственниками и схоронили. Нос после этого школу бросил и пошел на курсы фотографов. Полгода учился. А потом устроился в наш быткомбинат и фотографировал народ на паспорта и удостоверения всякие. Восемьдесят рублей получал. Как взрослый.
***
Вот зачем я начал писать про свои пятнадцать лет? Это ж не детство уже.
Ну, тогда, в 1964 году, это было точно уже не детство. Потому, наверное, и
пишу, что сегодня пятнадцатилетние – ещё дети. Может, это и хорошо. Да. Хорошо, конечно. Детская жизнь лучше взрослой.
А к своему щенячьему возрасту я, если вы не против, вернусь через страницу. Я ведь обещал, что иногда буду нарушать хронологию, потому что пишу не автобиографию, а портрет того замечательного времени. Шестидесятые полностью, да и начало семидесятых годов вполне безупречно ложатся в хранилище добрых, уютных лет. Ну, а вообще, честно говоря, мне нужен сейчас такой скачок вперед на несколько годочков, чтобы было понятно, что радостное детское и радостное юношеское – вещи если уж не противоположные, то всё одно – очень разные.
***
Я тоже должен был начать что-то зарабатывать. Мы с другом Носом сели в первый же вечер думать. И выяснилось к ужасу нашему общему, что деньги мне платить не за что. Я ни черта не умею делать. Вообще. То есть, имел хорошие результаты в юношеском легкоатлетическом восьмиборье, но в те времена за первые и призовые места не платили. Мы с удовольствием шли к мастерству и потом тратили его бесплатно на соревнованиях. Попадаешь в призёры – получаешь диплом!
Закончил я тогда и музыкалку. На баяне хорошо играл и похуже на фортепиано. В профессиональные музыканты, в оркестр какой-нибудь, меня не взяли бы по малолетству. Да и музыкантов в Кустанае было – хоть другим городам дари.
В изостудии ещё я учился несколько лет. Диплом получил об окончании. Разные люди говорили, что картины у меня получались – ничего себе. Нормальные. И что? Выставки бесплатные тогда были. Радуйся, что позволили тебе выставиться, похвастаться. По одной продавать – копейки. Я ж не Репин, не Левитан. Самодеятельность голимая. Да и кому они нужны вообще, картинки мои? Магазины забиты копиями шедевров классиков.
Курсы юных киномехаников закончил. Мог сам кино крутить. Но где? В городе три кинотеатра и девять клубов. Мало того, что там уже годами работали одни и те же киномеханики. Так во всех кинозалах стояли 35 миллиметровые проекторы КПТ-3, а я учился работать на передвижных 16 миллиметровых ПП-16-4, ПУ-16-2, К 1964 году их уже и найти-то было проблемой. Да и передвижная необходимость к этому времени сгинула. В каждой захудалой деревеньке – клуб и кино.
Дед мой Панька, мастер-пимокат, научил меня делать валенки. Значит, надо открывать мастерскую в Кустанае. На какие шиши? И как продавать? На базаре? Этого я себе вообще не представлял.
Дядя Вася научил меня профессионально водить почти любую машину. От легковой до УралЗиС-355. А права где взять, когда даже паспорта ещё нет? Не дорос пока.
Дрался хорошо. Наверное, даже очень хорошо, как считали и друзья, и противники битые мной лично. Но с этим дарованием можно было идти прямо в милицию и сразу сдаваться добровольно. Причем, опять же, бесплатно.
А! Ещё я играл в самодеятельном народном театре четыре последних года. При Доме учителя. Режиссером был актер областного драматического Валерий Иванович Мотренко. Известный киноактёр. «Зелёный фургон» все смотрели? Так это был один из нескольких десятков фильмов, где он играл. Да, чуть не забыл! Василий Васильевич Меркурьев тоже одно время в нашем театре блистал. В самом конце пятидесятых. Вот каким только ветром их в нашу дыру задуло – и тайна, и секрет нераскрытый. Но я-то был в самодеятельном театре. Там тоже ничего не платили. Играли для удовольствия и для радости лицедейской. А проникнуть на профессиональную сцену с любительским умением – пустая мечта идиота.
В общем, сидели мы с Витькой Носом до полуночи. Нашли ещё несколько моих разных умений, но кроме удовольствия они не давали они ничего. Жить с моими умениями можно было или бесплатно и недолго, или просить деньги у отца. Ну, воровать ещё можно было начать. Чего я совсем не умел и не хотел даже пробовать.
Оставалось три самых доступных варианта. Первый – разгружать вагоны. Товарняк. С углем или щебнем. Второй – копать на кладбище могилы. Там всегда работяг не хватало. Спивались, быстро слабели и их выгоняли. Третий – проситься разнорабочим на стройку. Но там надо было пахать весь день, а школу мне хотелось всё же окончить. Десять классов. Был вроде бы ещё один деловой выход. Я как раз в день рождения свой пятнадцатый опубликовал в районной газете, где раньше работал отец, первый свой юмористический рассказ. Заплатили мне за него, сколько он и стоил. Семь послереформенных рублей. Даже если я каждую ночь буду творить по рассказику, то главный редактор вряд ли захочет превращать солидную партийную газету в юмористическую. То есть публиковать чаще двух раз в месяц меня не будут. А на четырнадцать рублей я бы прожить смог, если есть в студенческой столовой на сорок семь копеек один раз в день. На газету «Комсомольская правда», которую я любил, надо было уже занимать.
Короче, с первого же самостоятельного вечера вольная жизнь мгновенно лишилась романтического привкуса и родила первую мою серьёзную житейскую проблему. У которой пока не было решения.
На следующий день вечером я пошел на тренировку и там тренеру про новую жизнь свою весело рассказал. Тренер предположил, что я ненормальный. Нормальные живут дома пока не женятся. Потом кому-то позвонил и через два дня я уже работал в спортзале одного городского техникума после школы во вторую смену. Выдавал на уроки физкультуры спортинвентарь. За сорок рублей в месяц. Это половина ставки. Исправно трудился полтора года. Радости от жизни поубавилось, поскольку денег не хватало, а день был занят полностью учебой, работой, с которой я бежал бегом на стадион или в спортзал. На все остальные забавы и интересы, какие были ещё в недавнем детстве, не осталось ни времени, ни сил, ни денег.
А тут и выпускной вечер подоспел. Отгуляли мы его лихо. Попрощались с учителями, а сами себе поклялись каждый год встречаться и вспоминать незабвенные школьные годы. После чего встречались, я слышал, один раз. Когда пробежало незаметно сорок лет. Я жил в Алма-Ате, вёл собственную программу на телевидении, которую смотрела вся Республика. Большинство наших видело меня на экране пару раз в неделю, не вспомнить трудно было. Сам на глаза лез. Но пьянка одноклассников прошла без меня. Вообще никого из покинувших Кустанай патриоты-одноклассники не позвали. Ну, да ладно, отвлекся я.
Мне к окончанию десятилетки семнадцати не исполнилось. В первый класс я раньше семи лет попал. То есть до получения паспорта оставался ещё год с хвостом. После школы половина дня была свободна. И мне приспичило найти вторую работу, которая с утра до обеда. Искал месяца два. Бесполезно.
А тут как-то шел в библиотеку, а рядом с ней на доске объявлений увидел красочный плакатик. Свердловский университет объявлял набор на разные факультеты. Среди них я нашел факультет журналистики. Туда и возжелал поступить. До окончания приёма документов оставалась неделя. За два дня я собрался и уехал в Свердловск. Никто об этом вообще не знал. Даже Нос. И на работе я просто рассчитался, получил деньги за полмесяца, которых хватало на билет туда и обратно. Пятнадцать дней вступительных экзаменов я ел раз в день французскую булочку, запивал её холодным молочным коктейлем в кафе рядом с университетом. И правильно делал, поскольку по истории получил трояк и по конкурсу не прошел. Деньги на обратную дорогу сохранились.
Вернулся я в Кустанай, месяц пожил у Носа, потренировался и попал в сборную области на республиканские соревнования в Алма-Ате. Выступил хорошо, взял «бронзу», прилетел домой и ещё в аэропорту решил, что вернусь к родителям. Приехал на родимую Ташкентскую улицу, которую переименовали в честь пятого апреля. Что такого великого стряслось в тот день, не знал у нас никто. Но больше потрясло меня то, что в нашей квартире жили другие люди. Я спустился к Михалычу и он объяснил, как доехать до новостройки в конце города, в район «Клуба Строителей», где моей маме от школы дали трехкомнатную квартиру. Поехал я в новый свой дом и жил там недолго даже после ранней своей женитьбы. Край этот «клубстроительский» был рядом со степью. Весь он состоял из хрущёвок двухэтажных, бараков, где жили работяги-строители, из общаг, куда распихали многих, «откинувшихся» с зоны «четверки». Она сразу за последними домами и торчала своими вышками и кольцевой колючкой над трёхметровым забором. Многие «вольные» пристроились на квартирах. Люди сдавали их внаём, а сами уезжали в более спокойные районы и там снимали квартиры, да комнаты. Я со своим буйным темпераментом и шустростью быстро перезнакомился с местными. Это была в основном шпана, бывшие оттянувшие свои срока урки, «вольные», вышедшие до звонка по УДО , блатные и приблатненные, жиганы, домушники, ширмачи, шалавы и прочая шушера. Стало меня носить по тутошним хазам и малинам. Года два носило. И как мне удалось не влипнуть в какую-нибудь уголовную передрягу и не «запариться» на близких нарах, не «почалиться» на «киче» даже по мелкому сроку, до сих пор удивляюсь. В «шалманах» и на «малинах», куда меня часто заносило, пили, курили стандартный «марафет». Марихуану. На жаргоне звали её «план». Попробовал один раз всего. Не понравилось. Больше до сегодняшнего дня не курил. И никогда, кстати, не кололся, и наколок – татуировок на мне – ни одной. Сейчас горжусь. А тогда блатные косились на меня. Но заставить по понятиям не имели права. Портить себе судьбу – решение добровольное.
Собственно, к «марафету» и «шалманам» подвел я весь этот рассказ о начинающейся взрослой жизни только для того, чтобы ярче оттенить своё вечное желание – оставаться жить всегда в детстве. Да, понимаю я – это невозможно. Это болезненное, психически нездоровое наваждение. Но оно становилось с каждым годом взросления всё назойливее. Поэтому я с таким удовольствием вспоминаю детство и больше ни строчки не напишу о юности и зрелости. Потому, что типичная взрослость – это бывшее, практически у всех сломленное и оскверненное взрослой нетерпимостью к счастью и равнодушием к бедам посторонних, растоптанное своими идиотскими поступками, глупыми ошибками и пустыми амбициями святое и счастливое время – детство. Мне удалось с помощью армии, учебы в двух ВУЗах и спорта сбежать от «веселой житухи», много успеть сделать плохого и хорошего, да и занять назначенное мне судьбой место в этом мире юных, взрослых и старых. Спасибо судьбе. И потому я рассказом своим возвращаю вас в моё детство и эпоху пятидесятых и начала щестидесятых, чтобы старые вспомнили, а молодые поверили в добрую, честную простоту и чистоту не социализма, а всего лишь той удивительной эпохи.
***
Мне было одиннадцать лет в 1960 году. Я стал жутко любопытным и , как сказал отец мой, Борис Павлович, превратился в осьминога. Всеми щупальцами хватал всё, что подворачивалось. Ну, правильно, конечно, говорил. Кроме стадиона и библиотеки дорогим для меня местом сам определился Дворец пионеров. Я когда впервые пришел туда – натурально сначала испугался и одновременно впал в транс как на сеансе гипноза. В Кустанай один раз приезжал концертный гипнотизер. В клубе нашем над народом измывался. То у него все как бы засыпали, но замедленно ходили и всякие кренделя смешные выкомаривали. Делали попытки взлететь, рубили вроде как топором деревья, пели оперными голосами. А то по-китайски заставлял говорить тёток наших косноязычных. Мужику одному сказал, что он акула и плывет на охоту. Мужик на пузе ёрзал по сцене и ртом хватал со всех сторон рыб.
Вот я был примерно в таком состоянии. С широко открытыми ртом и глазами стоял перед большим, на полстены в фойе, стендом и пытался посчитать и запомнить – какие в Доме пионеров работали кружки, секции и студии. Вообще меня давно влекло желание поступить в изостудию. Рисовал я неплохо без обучения, но картинки мои всё равно несли жалкий след кондовой самодеятельности. А хотелось уметь писать масляными красками. Как настоящие художники. А там преподавал очень хороший художник и учитель Александр Иванович Никифоров. Старшеклассники наши, которые у него учились лет пять, свои выставки делали и в школе, и в городском Дворце культуры. Так то были настоящие картины. Вот и я мечтал так же научиться.
Ну и шел бы прямо к Никифорову. Нет, стою, глазею на список и с ужасом понимаю, что хочу ещё записаться в кружок радиолюбителей, киномехаников, в секцию вокалистов, в оркестр народных инструментов. Я уже в третьем классе музыкальной школы учился и в ансамбле баянистов мне было бы играть не стыдно. Ну, поскольку пацаном я был без тормозов, то пошел и туда, куда влекло, записался. И что самое забавное – ухитрялся почти нигде не пропускать занятия. А однажды к нам в вокальную студию пришел настоящий артист драматического театра Валерий Иванович Мотренко. Я ходил на детские спектакли с классом и в разных пьесах его видел. Ну, он, конечно, и во взрослых спектаклях играл. Даже главные роли.
Он о чем-то пошептался с нашим преподавателем, потом мы стали репетировать, а он на нас смотреть и слушать. Я как раз с удовольствием терзал романс Гурилёва и Макарова «Однозвучно гремит колокольчик». Его, блин, сам Козловский пел. И я вот тоже. Голос у меня тогда был не хриплый, как последние пятьдесят лет, а гладкий, звонкий и чистый. Лицом я изображал поющего ямщика. Гримасничал и стегал воображаемым кнутом тройку лошадей. И вот дошел уже до последнего куплета, а перед ним с выражением выдал самые страдальческие строки:
« И припомнил я ночи другие,
И родные поля и леса,
И на очи, давно уж сухие,
Набежала, как искра, слеза.
Набежала, как искра, слеза. »
После чего Мотренко похлопал в ладоши и аккордеонист умолк, сжал меха. А артист махнул мне рукой. Подойди, мол.
В детстве перед значительными, уважаемыми людьми у меня был синдром преклонения. И сейчас есть. Не стёрся. Не то, чтобы тянуло упасть в ножки достойному человеку, а вот придавливала меня к земле отчётливая робость. Говорить с неравным мне на равных не выходило никак.
– Фамилия есть? Имя родители присвоили?
– Станислав. Малозёмов, – тихо сообщил я.
– Это твой папа в редакции работает? Фамилию помню.
Я кивнул.
– В театре народном хочешь актёром послужить Мельпомене?