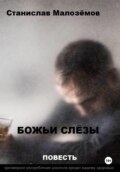Станислав Борисович Малозёмов
Всю жизнь я верил только в электричество
Про то время привязалось желание рассказать, когда единственными и самыми знаменитыми призывами над домами были полотна « Слава КПСС», «Летайте самолётами аэрофлота» и « Храните деньги в сберегательной кассе». Не знаю. Но мне кажется вот, что хоть для немногих эти не скроенные в ладный сюжет кусочки, обрывки, всплески воспоминаний будут полезны. Потому, что и настоящее, и будущее – это неразумные малые дети далёкого и недавнего прошлого. И что всё всегда повторяется. И что всё всегда так и будет стоять на трёх китах: добре, зле и надежде. На той надежде, что когда-то добро всё равно победит.
В общем, после отцовского монолога забыл я напрочь о том, что ни черта мне не снится. Ни плохого, ни хорошего. И что именно это меня ещё недавно волновало. Отец свернул газету, хлебнул молока из кринки, доставленной Шуриком из Владимировки вместе с чугунками, которые как матрёшки вставлялись друг в друга, и без слов спустился со второго этажа. На работу пошел. Воскресенье, выходной. Но отец писать статьи свои ходил в редакцию. Там в воскресенье было тихо и ничто не мешало думать.
Да, я не закончил. Кринок Шурик тоже привез штук семь разных, да ещё с десяток деревянных расписных глубоких тарелок и столько же объёмистых ложек из берёзы. Кринки делал двоюродный Панькин брат дядя Гриша Гулько, хороший гончар. Любую посуду и вазы всякие мог откатать на своём кругу с ножным приводом от ремня. Глину брал он сам лично из котлована возле страшного леса Каракадук. Ложки и тарелки выдалбливал, вырезал и шлифовал сам Панька. А Валя, предпоследняя из Панькиных детей, их расписывала особенными красками. Она их брала у подружки из Воробьёвки. Чугунки лил дядя Костя. Для всего нашего родственного содружества.
Никогда и нигде я больше не встретил такого как клеем склеенного собрания близких и дальних родственников, которые настолько крепко и верно держались друг за друга. С уважением, почитанием старших, взаимопомощью и готовностью горло перегрызть любому за своих. Клан Малозёмовых, Горбачевых и Гулько был многочисленным, умным, хитрым и сильным. Уважение местных имел настолько увесистое, что в деревне и нас, сопляков из этого клана, по инерции тоже старались лишний раз не шугать и не обижать. На всякий случай.
Про кринки да чугунки с деревянными мисками я не просто мимоходом сказал. Они-то как раз и есть – наглядные пособия и вещественные доказательства уклада нашего братского. Все делали для всех своих всё. Тогда мы, маленькие, на эту нерушимую связь и внимания-то не обращали. Просто не думали о том, что можно жить иначе. Врозь, хоть и родня. Это сейчас я знаю точно, что общий уклад житейский, если он держится на одинаковом понимании правды, совести, уважении достоинств своих близких и прощении недостатков, на взаимовыручке в трудностях и бедах, на чести и верности слову – это монолит. Это та самая сила непобедимая, которая делает жизнь не обузой и испытанием, а радостью.
Трудной, болезненной местами и не всегда удачной, но всё-таки радостью.
Потому, что радость содержится в единстве мыслей и сил. Тогда она рождает общую уверенность и готовность общими усилиями проходить сквозь всякие преграды. Жизнь, как ей не радуйся, препятствия эти расставляет как капканы: в местах укромных и с виду безобидных.
А сейчас нет среди нас, своих, этого единства. Все старики умерли, но оставили его нам в готовом виде. Да только поменялось как-то уж очень шустро всё. И время, и мысли, и понятия. Что-то легко смогло порвать наши вроде бы крепкие на вид связи. И мы разъехались. И потеряли мы своих. Стали самоувереннее, но слабей. Не знаю, может, и сегодня кто-то живет по- старому, в прочной родственной сцепке и настоящей, неприметной посторонним взглядам, любви к своим. Может мне не повезло, но я больше таких как наш род не встречал.
Отец ушел, бабушка пошла на базар торговать семечками из Владимировки и своей квашеной капустой. На весь день пошла. Мама пошла к своей подружке Маргарите из дружной женской компании молодых полячек, которых судьба с родителями согнала с родных краёв только потому, что мужчин их, военных белополяков, расстреляли «по коммунистической справедливости». А семьи, сбежавшие на Украину и в Россию, отловили и загнали подальше с глаз – за Урал.
Во дворе сидел возле своего открытого сарая только Танькин отец из другой полуподвальной квартиры. Он зашивал большой цыганской иглой и суровыми нитками дырки в мешках. Мешков было штук двадцать. Семья у Крапивцевых была большая и они сажали за городом двадцать соток картошки. Землю под посадку давал завод, где слесарил дядя Володя. Картошка поспевала в наших краях аж в октябре и моя бабушка Стюра свои мешки зашила заплатками ещё две недели назад. Огород нам выделяла мамина школа. И вот уже все в следующий выходной готовились ехать копать. Без картошки и капусты никто в Кустанае жизни не представлял. В пятидесятые годы, да и чуть позже. это были главные продукты и заменить их было нечем. Хлеб, картошка, лук, капуста, чеснок и молоко с простоквашей были на первом месте в любой семье. Потом уже свое второе место занимало мясо, которого в магазинах полно было, а на базаре ещё больше. Но зарплаты тогда были ещё небольшие. Деньги стране нужны были для превращения из полуразрушенной в прекрасную. Поэтому в общем-то недорогое мясо популярность картошки с простоквашей перешибить не могло. Ели мы ещё крупы всякие, но без особого усердия. А лапшу раскатывали сами из владимировской муки, резали её всей семьёй на ленточки и сушили. Получалась лапша повкуснее фабричной. И в магазин поэтому часто ходили только за хлебом, сахаром, солью и чаем. Спичек и свечек, консервов рыбных и конфет набирали помногу наперёд. Так жили почти все. А по праздникам всегда сами лепили пельмени. Почти все в городе. И летом, например, ближе к праздничному вечеру, ветерок носил над городом сложный аромат пельменей, которые в городе все ели исключительно с уксусом, луком и горчицей. И если ветер был слабый, то этот острый вкус теста и уксуса зависал над Кустанаем до полного выветривания к утру, а до него воздух носил над городом этот едкий, но вкусный запах, которым можно было просто нанюхаться до полной сытости. Причем, что главное-то: пельмени не имели классовой принадлежности. Их одинаково усердно метала творческая и прочая интеллигенция, а также работяги, Ну, конечно и ещё и совслужащие, любившие Родину из просторных кабинетов с полированными столами и бюстами Ленина с Марксом в светлых коридорах помещений партийной, профсоюзной и государственной власти.
Я немного постоял возле дяди Володи. Он размашисто откидывал руку с огромной иглой за спину, выравнивая нитку, а потом делал по три петли на дырке в мешке и стягивал рваные края ровненько и накрепко.
– Чё, Славка? – поинтересовался он, попутно слюнявя ртом нить по всей длине, чтобы она поплотнее была. – Пойти некуда? Это да! Без грошей в кармане только цветочки можно нюхать. А и цветков-то уж осталось, бархатцы одни. Ну, бессмертники ещё. Так эти и не пахнут. Но что отлично – осень в этом годе тёплая и сухая. Картошки хорошо возьмём. Зимой не скучно будет. А если с луком да с салом её на сковородке! Ы-ех! Поди вон лучше с пацанами футбол погоняй. Чего зря стоять?
– Я к дядь Мише иду, к Михалычу. – Мне надо было к десяти. Как договорились. А сколько времени уже?
Дядя Володя потянул толстую цепочку из переднего кармана на рабочих штанах и выудил серебристые часы с крышкой. Он ногтем крышку откинул и заиграла музыка. Такой нежный и тоненький колокольчик прозвенел незнакомую короткую мелодию.
– Трофейные, – он глянул на циферблат. – Начало немецкой песни играют часики. С немца снял после рукопашной. Заколол штыком его. Вот идут они сколько лет уже, а как новенькие. Немчура умеет делать вещи, тут им не откажешь. Десять ровно уже.
Я крикнул что-то вроде «ух, ты!» и побежал к Михалычу в полуподвал. Перед входной дверью он сколотил деревянный тамбур, покрыл его шифером и всё сверху до низу покрасил красным суриком. Тамбур имел дверь, которая изнутри закрывалась на крючок, а сам «скворечник» закрывал ступеньки, ведущие в сени. Это были очень большие сени. Метров семь в длину. И в ширину столько же. Михалыч ради простора сеней комнатную стену переложил вглубь.
– На кой хрен нам двоим с Ольгой столько места в комнате?– небрежно говорил всегда дядя Миша. – Кровать входит. Стол большой стоит. И вон ещё под себя сделал низенький Лавки – три штуки. А все портреты и иконы Ольгины, так они на стенках закрепленные. Хватает нам места, чтобы пообедать-поужинать. Тут и пианино ещё влезет. Не играет только никто. А так бы поставил.
Я спустился в сени, светлые и красивые. Михалыч провел сюда от счётчика провода для семи лампочек, больших как груши в Чураковском саду на Тоболе. По стенам распластались разной высоты полки, забитые инструментами, заготовками по дереву, наждачной бумагой. На самой дальней стене полки Михалыч сделал пошире и раскладывал там кожаные и фетровые куски для сапог, бурок и шляп. Там же стояли банки с пахнущими сладостью клеями. А по левую сторону и от двери до дальней стены всё пространство занимали разные верстаки. Из второго наполовину выглядывал диск электрической пилорамы с блестящими зубами. На верстаках крепились струбцины, тиски, шаблоны для распилки досок под разными углами. А стена вся была утыкана гвоздями, на которых висели пилы, рубанки, фуганки, шерхебели и щипцы. На единственной огромной полке лежали и стояли разные стамески, киянки – деревянные молотки, свёрла, долото, напильники, шлифовальные круги, пакеты с сухим порошком клея для дерева и много всякого ещё, чего и не пересчитаешь.
Михалыч сидел на табуретке возле верстака. Тележка его с ремнями стояла рядом, а на табуретку он прямо-таки взлетал с тележки, одной рукой подтягиваясь на верстаке, а другой поднимал тело, уперев в пол черенок от лопаты. От того, что ног он не имел, вся сила несуществующих ног ушла в его руки. Он на спор с такими же для меня дедами, дружками его, переламывал кулаком пятисантиметровый брус. Мужики держали брус за концы, а Михалыч выпивал перед показом сто граммов, потом размахивался, говорил «хоп-на-на» и с первого удара делил брус на две одинаковых половины. То есть, силу в руках имел неимоверную. Ну, к примеру, подставлял мне раскрытую ладонь, я на неё садился и Михалыч прямо-таки без усилий поднимал меня над головой и держал с минуту. Весил я в десять лет уже килограммов сорок или около того. Могучий был дед в свои годы.
По левую руку от дяди Мишы стоял серебряный поднос, на котором разместились блюдце с солёными огурцами, тарелочка с колясками колбасы и ещё одно блюдце с черным хлебом. Между ними находился гранёный стакан и бутылка портвейна «Солнцедар», в которой почти ничего уже не было.
– А, Славка! – Михалыч измерял ватерпасом ровность склеенной табуреточной крышки. – Не забыл. Молоток, стало быть. Тётя Оля пошла в церкву поутряне к службе. Потом пока свечи поставит Господу да святым, да за упокой нашим мёртвым, да помолится за всех на разные образа, так полдня и проскочит. А у меня, вишь ты, портвешок ушел почти весь внутрь. Скучно без него и работа ползком без него ползёт. Давай, орёл, сгоняй в Садчиковский магазин да притарань пару пузырей. Один двенадцатый портик, а другой – вот этот самый, видишь? «Солнцедар», мать его ити!
Подлый портвешок, конечно. Но другого не возят. А на два двенадцатых деньжат уже малехо не хватит. Ольгу ждать – всё одно, что явления Христа народу или коммунизма. Хотя ж придет когда-нибудь. А нам с тобой работать надо сейчас, а не ждать коммунизма. Да?
Он изогнулся дугой на табуретке, расставил культи, оторванные выше колен, в стороны для упора и нырнул пятернёй в карман. Достал мятые червонцы и рубли.
– Тут как раз двадцать три рубля. Двенадцатый и стоит двенадцать. Остальное – на «Солнцедар». А я тебе пока заготовки подберу. Шерхебель покладу и рубанок. Потом стамески уже пойдут. Давай, дуй!
Я за пять минут добежал до магазина, отстоял очередь человек из пяти, взял вино и с той же скоростью рванул обратно.
Михалыч допил остаток, бутылку аккуратно опустил под верстак. Там все пустые стояли. Штук двадцать накапливалось и он ехал на тележке в пункт приёма за два квартала, а там их сдавал по рублю за бутылку. Набегало как раз на одну полную и ещё оставалось малость добавить на вторую. Тётя Оля пить ему разрешала. Она была умной и доброй и понимала, что полупьяное забытьё Михалыча избавляет его от внутренних страданий. К отсутствию ног он привык как к дому и к ней самой. Чувствовал себя физически полноценным. А изнутри его что-то ело, стонало что-то внутри и ныло как больной зуб. Водку он не пил. Но без портвейна становился мрачным, неразговорчивым и злым. Матерился по поводу и без него, да крыл последним словами вождя и отца народов Сталина, помершего уже, но дядей Мишей не прощенного.
Откупорил он бутылку, выпил сто пятьдесят сразу, откашлялся и сказал весело:
– Ну, пацан, столярничаем?
– Ура! – закричал я. – С чего начинаем?
– А вот бери брусок этот. Троечку. Вот тебе образец – готовая ножка табуретки. Ну, вот такую же и сделай мне. Начинай сперва грубую срезку шерхебелем. Потом померяем и перейдем на рубанок.
Я упер заготовку в треугольный разрез планки на верстаке, сзади неё воткнул в отверстие впритык цилиндрический шпунт, похожий на толстый карандаш, и начал щерхебелем снимать крупную стружку. Потом повернул заготовку снова снял верх, опять два раза повернул и строганул вполне удачно. Дядя Миша успел ещё сто граммов приголубить и жевал колбасу, разглядывая деталь.
– Вот тут и здесь ещё сними малехо. Миллиметра три. И пойдет уже под рубанок. – Он погладил себя по лысине, звонко шлёпнул её ладошкой и довольным голосом меня похвалил.
– Руки, Славка, растут у тебя правильно. Не из задницы. Теперь возьми малку и продави на заготовке риску сверху вниз. Малка настроена уже как раз под ножки. Будешь до риски аккуратно снимать стружку уже инструментом потоньше – рубанком.
И началось! Только часов через пять я понял, что у меня получились и ножки, и боковины под крышку, да и сами доски для сиденья выстрогались ровно по ватерпасу. Правильно, значит. Я устал как конь, вспахавший пару километровых клеток поля под хлеб. На мне не было пустого места без стружки, на ладонях болели красные водянистые мозоли и пересохло во рту.
– Лады, перекурим пока это дело! – Михалыч поднял черенок, воткнул его в пол, другую руку поставил на верстак и легко перенес обрубленное свое тело на тележку. – Я пока в нужник прокатнусь. А ты поди в комнату. Там слева возле печки ведро с водой и ковш. Только отряхнись сперва, а то Ольга даст нам по шеям – не зарадуешься.
И он, легко поднимая себя с тележкой над ступеньками, через минуту уже ехал к большому общему для всех жильцов нужнику. Я очистил себя от стружек, выпил воды два ковша и стал ждать Михалыча, попутно разглядывая фотографии на стенках. Все они были в тонких деревянных рамочках и висели плотно на стенках, одна к другой. Я дошел до большой фотокарточки в серебристой рамке и остолбенел. На ней кто-то очень хорошо снял дядю Мишу. В военной форме. С винтовкой. И он стоял на своих ногах. В сапогах, в брюках галифе. А у него были ноги! Настоящие. Свои. Он стоял рядом с грузовиком «ГАЗ-АА», его звали тогда «полуторкой», и голова его была выше кузова. То есть Михалыч был высоким стройным и плечистым мужиком. Ошарашенный, поскольку за всю жизнь свою рядом с калекой так и не подумал ни разу, что у дяди Миши когда-то были настояшие ноги и выглядел он просто красавцем. Я вышел в сени и сел на верстак. Видно, лицо моё имело слишком странное выражение, потому как вернувшийся Михалыч только мельком глянул на меня и сразу спросил:
– Карточки что ли смотрел? Меня с ногами видел?
-Так это…– начал я. – Неожиданно я. Случайно.
Михалыч с удовольствием засмеялся. Он хохотал и пил портвейн. Занюхивал его черным хлебным ломтем и снова смеялся.
– А ты думал, что меня мамка сразу уродом родила? – Он стал серьёзным и молча жевал кусок хлеба, которым только что занюхивал портвейн. – Это меня дядя Ёся, товарищ Сталин, отец родной народу и солдатам, так ополовинил. Разрубил на две части. Полчеловека от меня выкинул, полчеловека оставил. Хватит, мол, тебе, Мишка, и половины. А то жирно больно будет, если тебя целиком жить пустить дальше. Половина-то целая! Радуйся, боец! За любимую Родину сбросил ноги-то, не просто потерял по пьяни.
– Михалыч, а он, что, сам тебе ноги оторвал? Лично? Ты самого Сталина видел?
– В гробу бы я его, суку, видел! Да не доехать мне было в пятьдесят третьем до Москвы. Грошей не настрогал ещё. Да женился же, хату обустроил. Не было лишних деньжат. Так и не плюнул ему в лицо. Хоть бы и в гробу. – Михалыч хлебнул прямо из горла и утерся рукавом. – Нет, не видал я его. И не сам он меня ополовинил. Но виноват он. Он! Он виноват, собака! Пёс косорукий! Давай-ка я по-людски выпью да расскажу тебе про войну свою. Про чужую не смею рассказывать. А про свою так даже хочется. Тебе кто про войну рассказывал когда-нибудь?
– Дед Панька когда выпьет. Иногда плевался на войну эту. Ему там глаз выбило, ты ж видел. Дядя Гриша Гулько тоже под бражкой про неё говорил. Ему одну ногу оторвало. Всё. Остальное по газетам знаю, по книжкам…
– Ну, слушай тогда. Может, и не поймешь чего – не беда. Главное улови. И запомни. Не тем плохая была война, что враг силу имел. А тем, что наши верховоды во главе с Иосифом Виссарионовичем нас, необученных солдат советских, да ополченцев народных, держали не за воинов, а за приманку. За толпу, которую только выпусти большим гуртом – так она и голыми руками танки поломает. Они, фашисты драные, наполовину безоружную и плохо стреляющую толпу, бегущую в атаку, покосят из пушек, миномётов, шмайсеров и фаустпатронов, да так и растратят почти все боеприпасы. Пока новые подвезут – наши регулярные и хорошо вооруженные профессиональные бойцы сзади резко бросаются в атаку. Перепрыгивают через трупы сотен и тысяч первых, обреченных на смерть стопроцентную, первых, которые огромной толпой с криками «За Родину, за Сталина!» бежали просто умирать. И вот эти подготовленные и хорошо вооруженные наши части потом подавляли ещё не готовые к следующей, реально мощной атаке огневые точки немцев. Нас, которых подставляли специально под расстрел, так и звали гражданские, кто не попал в солдаты – мясо пушечное. Или «живые покойники» Во как! Короче – слушай. А потом табуретку доделаем.
Я устроился поудобнее на верстаке, подпер ладонями подбородок и настроился слушать.
*********
Итак – рассказ Михалыча о своей войне. Не о такой, какой я её понял и запомнил из его рассказа в 1959. Я опишу всё так, как Михалыч пересказал то же самое ещё раз по моей просьбе в 1974 году. Так получится правдивее. В пятьдесят девятом запомнил я, конечно, его откровения далеко не точно. Но мне была интересна вся его парадоксальная жизнь.Целиком. В семьдесят четвертом, весной, в день его рождения я подарил ему набор отличных свёрел, поставил две бутылки хорошего марочного вина и попросил вспомнить о жизни своей, далёкой и не очень, ещё раз. Он согласился с удовольствием. А я очень мечтал послушать его снова. Этот дед очень много сделал для меня в детстве. Научил всякому полезному и правильному. Он был одним из тех немногих, шестерых за всё моё детство и юность, которые не специально и даже не думая об этом, научили меня тому, как должен прожить жизнь мужчина, чтобы ни в зрелости, ни в старости не было стыдно. Мне была очень любопытна и дорога его судьба. Как, впрочем, и вся прошлая жизнь вообще.
*********
Глава четырнадцатая
*********
Дядя Миша Цуканов:
Я в Вологде жил тогда. Молодой паренёк, шустрый, руками умел не только щи хлебать. Вологда – это север. Город весёлый, но народ сам по себе твердый там. Северный. Я вологодский с пелёнок. В 14 лет из школы перегнали меня сами учителя за отличные успехи на уроках труда учиться в ПТУ на резчика по дереву. За три года насобачился такие орнаменты вырезать стамесками, надфелями да лобзиками всякими, что меня забрали в городской комбинат коммунальных услуг. Объездил всю область. Наличники выпиливал, фронтоны под крышами. Даже вспомнить приятно, как меня с образцами моих работ посылали на ВДНХ в Москву. Дипломом наградили там за высокое художественное мастерство. Ну, да ладно. В общем, работы много было, делал я своё положенное красиво, прочно, а значит и платили хорошо в комбинате. А ещё, сам подумай, раз такой мастак рядом живет, то и левых заказов от знакомых и незнакомых навалом имел. Кому надо было – меня находили через дружков и родственников. Денег было завались. Мы и дом с отцом новый поставили, мотоцикл купили с коляской. Маму раз десять на курорт возили. В Петрозаводск и аж в Ессентуки. Жили дружно, брату с сестрой помогал деньгами, отцу за взятку приличную помог устроиться замом директора промтоварной базы. Батя за год такой шишкой стал! Машину за ним по утрам присылали, легковушку. Шикарную по тем временам «эмку», ГАЗ-М1. Короче, не тужили. Мне как-то незаметно тридцатник стукнул. Родни у нас много было и все меня агитировали для солидности и правильности жизни жениться.
А я мужичком стал совсем непростым. Книжки читал, в городской команде ЦДА, армейской, в футбол играл защитником. На гитаре бацал – я те дам! И сейчас могу. Видал мою гитару на стене? Сам сделал. Струны только покупные. Так я с этой гитарой и зашухарил безвылазно по компашкам разным. Туда позовут – беру струмент, да иду развлекать, сюда кликнут – тоже не отказывал. Песни пел распрекрасные, от блатных до лирических, какие Лемешев пел, Вертинский. Знаешь таких? Ну, сейчас их не особо вспоминают, а такие дрозды как вы, нынешние, так вообще и не слыхали про тех любимцев народа. Да… Погулял я тогда так же бешено как и поработал. Девки вешались как игрушки на ёлку. А чего? Спортсмен, гитарист, мастер уважаемый, а сам-то метр восемьдесят ростом, мускулы как мячи. Одевался у портных в индпошиве. Не знаешь такого? Индивидуальный пошив. То есть, прямо с тебя мерки все срисовывают и шьют по последней моде то, что сам из их фотокарточек выберешь.
Ну, девок было всяких – не считал даже. Красавицы , молоденькие, розовенькие… Э-эх, мля! Зашалавился – как в болото затянула меня житуха вольная. Что хотел, то и имел. Отказов ни в чём не получал. И как-то она понеслась, жизнь, козликом. С прискоком, да с радостным блеяньем. И в марте сорок первого шарахнуло мне уже тридцать три. Жены нет, одни девки загульные кругом тебя вертятся. С родителями, да родственниками натянулись отношения. То ж я им помогал завсегда. А тут пивко, винцо, шампанское, дружки-придурки вечно пьяные, ну и девки – сучки. Домой ночевать только забегал, да и то не каждый день. Справили мне семейный день рождения, да перессорились на нём все. И со мной, и из-за меня друг с дружкой.
Тут батя мне и сказал на утро:
– Ты, – говорит,– Миха, поди-ка поживи малехо у кого из дружков-подружек. Мать видеть тебя не может спокойно. Плачет мать-то. Душу не трави нам. И сам, может, встряхнешь мозги-то. Есть ведь мозги, мать твою!
И ушел. Я собрал чемоданчик фанерный с бельём, да бритвой и одеколоном тройным, написал записку, что искать меня, если вдруг надо – у Антохи Резванова. Они знали, где мой первый дружок живет.
Погуляли мы с Антохой лихо после работы до утра почти. Я чую, что выпивать стал безмерно уже. Льётся в меня одинаково что вермут поддельный, что плодовоягодное – полная отрава, да пива по пять кружек зараз вливалось. На работе руки стали мелко подрагивать, узоры несколько раз запарывал, мимо рисованных линий промахивал. Мастер с комбината, он же и завцехом был, подошел как-то раз и тихо предложил мне поменять работу. Иди, мол, кровельщиком. Зарплата пониже, конечно, но и работы тонкой там не бывает. Не попортишь ничего. Обиделся я. Матом послал его подальше, а потом плюнул, пошел в отдел кадров, написал заявление, что увольняюсь по собственному и зарплаты с выходным пособием не надо мне. Посидели мы недельку дома у Антохи, попили вдоволь, конечно. А потом чувствуем оба: осточертело всё. Аж воротит от одного вида стакана с бормотухой. И поехали мы к его куму Димитрию на речку Вологду в поселок Чашниково. Порыбачить и душу наладить на нормальную жизнь. Жили ведь как люди когда-то.
Рыбачили от души. Погода была – хоть целуй её. Навялили рыбы, ухи объелись и местным ребятам по-над речкой косить помогали. А сами в шалаше жили. Толстые ветки от тальника под купол укрепили, тонкими обвили каркас и травой сверху заложили плотно. Дождь сильный всего раз, правда, прошел, но сквозь траву не протиснулся. Отдыхали душой, в общем. Без питья и девах. Одни. И хорошо было. Светлеть стало перед глазами. Жизнь вылезла стоящая сквозь память о загулах и пустой трате существования.
Двадцать второго июня с утра мы стояли по колено в речке возле берега и кидали донки. А сбоку от берега торчали наши удилища с поплавками мёртвыми. Не было клёва. А часов в двенадцать прискакал на коне сам Димитрий. Бледный. Растерянный. Сполз с седла, сел на берегу и тихо сказал тревожным и дрожащим голосом:
– Мужики. Война с немцами. С четырёх утра идет уже. Напали они, конечно. Но правительство сказало по радио, что наше дело правое и мы победим. Погоним немчуру таким макаром, что у них штаны трещать будут и подмётки на ходу отскакивать. Но надо ехать вам домой и сразу в военкомат. Красную Армию собирают всю по особой статье мобилизации. Вылезайте, сматывайте удочки.
Вечером мы были уже в Вологде. Зашли домой к Антохе, я забрал чемодан, отнес его к родителям и побежал в военкомат. Там на входе сидел старлей и смотрел у всех документы. Мой паспорт его ничем особо не расстроил, но он всё равно сделал кислую рожу и сказал:
– Старикам сбор в резервный полк. Иди в двадцать шестой кабинет.
– Где стариков видишь, офицер? – удивился я.– Сюда глянь.
– В паспорт глянул уже. Мне хватает. Иди, говорю, не маячь тут. Двадцать шесть – номер кабинета.
– Да ладно, – огрызнулся я. Обиделся за «старика»
В двадцать шестом было человек сорок. Взрослые мужики все до одного. Когда набрался кабинет битком, на стол поднялся маленький толстый майор с грязными петлицами и объявил, что общий сбор завтра в семь ноль-ноль на вокзале. В теплушках всем раздадут обмундирование пехотинцев и выдадут военные карточки. А билеты военные – по прибытии на место дислокации. Всем сдать паспорта и идти домой до утра. Кто опоздает утром к семи – автоматически переводится в штрафбат.
Дома батя успокоил меня:
– Это, Миха, делов у вас будет на неделю-полторы. Сравни нашу Красную Армию и немецкую. Её, Германию, и на карте почти не видно. И начальник главнокомандуюший у них – ефрейтор. Да придурок полусумасшедший причём. Гитлером вроде зовут. Сравни его с нашим Иосифом. Тьфу! Блоха паршивая! Давай, спать иди.
– Батя, в шесть разбуди на всякий… – я пошел к себе и лег, не раздеваясь.
Утром нас всех затолкали в теплушки, дали по два комплекта нижнего белья, форму: пилотку, гимнастерку, галифе, портянки и сапоги. Мне все подошло. Кроме сапог. Жали со всех сторон. Но я решил, что разносятся и пошел, хромая, в другой конец вагона за сухим пайком на три дня.
– Это куда три дня ехать-то?– спросил какой то мужик из наших. – Прямо в Германию что ли?
Все вокруг развеселились.
– Отставить!– заорал лейтенант, который пайки выдавал. – Куда ехать вам – командованию видней. Кто паёк взял – на место а-арш! И тихо чтоб. Не на свадьбу едете.
– Про то как ехали рассказывать не буду. Ничего интересного, – Михалыч выпил «Солнцедара» еще пол стакана и сказал: – Сбегаешь по новой? Кончится скоро.
– Да ты чё, Михалыч! – я улыбнулся.– Ясное дело – сгоняю. Минута туда, пять минут там, да минута обратно. Вот жизнь-то у тебя была! Прямо как в книжках пишут. Всё испытал, всё попробовал. Прямо зависть берет по-хорошему. Мы вот куда скучнее живём.
– Не дай тебе бог даже намека на такую житуху, как у меня была. – Дядя Миша перекрестился. – Сбегай лучше. Деньги выгреби у меня в левом кармане.
Через десять минут он откупорил новый пузырь двенадцатого портвейна, нарезал ещё колбасы с хлебом и выпил немного. А закусил хорошо. В это время я уже снова сидел на верстаке с открытым ртом. Рассказ приближался к самому главному и страшному.
– Ну, короче, встали мы где-то ночью, – Михалыч похлопал себя по лысине и прищурился. Вспоминал что-то: – Не, не вспомню, где точно. Свистеть начали командиры в специальные свистки и кричать: – Возле своих вагонов построились все! Быстрее, мать вашу! Шустрее шевелиться будете – немца веселее погоним!
А кто-то с ярким фонарём внизу, видно, поглавнее других командир, всех перекрикнул хрипло и уверенно:
– Из достоверных источников известно, что Верховный приказал очистить нашу русскую землю от врага за неделю. Загнать его остатки назад в Германию и там прикончить до последнего! Да здравствует товарищ Сталин!
– Ура-а-а! – воскликнул весь наш длинный эшелон. Аж земля задрожала и листья с деревьев осыпались.
И пошли мы от железной дороги походным шагом на тусклые огоньки вдали. Километрах, может, в пяти от нас. Шли молча. Я разулся, портянки в сапоги вставил, а сапоги вложил под мышки, потому, что в руках нёс развернутую, не скрученную в скатку шинель и паёк на три дня.
– А как это так тихо кругом? – робко выкрикнул кто-то из середины волочившейся толпы будущих воинов-победителей. – Война с какой стороны? Пушки, гранаты, пулемёты с винтовками чего не шумят? Может, пока мы ехали, немчуру уже и уделали!? Хоронят теперь потихоньку.
– Разговорчики в строю! Пять суток сортиры драить будешь! – рявкнул офицерский бас. Здоровенный, видать, мужик был.
Так дошли до огоньков. Это была большая деревня, судя по лаю разнокалиберных собак, которые голосили и перед нами, и далеко с двух сторон, да впереди нас тявкали где-то вдали. Командиры велели всем разойтись и оправиться, а потом вернуться и подстилать шинели для ночёвки.
– С утра у нас – расквартировка по хатам всего состава. Здесь будет стоять наш стрелковый батальон резерва. Семьсот семьдесят восемь бойцов. Шесть рот. Одна хозяйственная, одна рота связи, остальные – боевые пехотные стрелки. Завтра после расквартировки всем выдадут винтовки Мосина и СВТ-38. Самозарядные винтовки Токарева. Безотказное оружие Протяженность дислокации по флангам – пять километров. По глубине – два. Всем ясно?