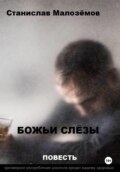Станислав Борисович Малозёмов
Всю жизнь я верил только в электричество
– Какие с них поливальщики? – возмутились дуэтом братья отца моего младшие. Шурик и Володя. – Они водку понюхают и хоть гробы заранее заказывай. Мы польём. А ты его, Василь, держать будешь, шобы он не сорвался да не убег.
– Ладно, кубыть! – согласился раненый и мы маленькой толпой пошли во двор. Володя прихватил со стола три бутылки и три стакана
– Во дворе всё есть. Там ещё водки на две недели хватит. Пусть народ тут похмеляется, – дядя Вася забрал у Володи бутылки и всучил их одному из пробудившихся в подносе с тушеной рыбой. – На, братик, поправься малехо!
И мы вошли во двор. Дядя Костя снял медленно что-то, похожее на бывшие штаны, ещё медленней стянул продырявленные и разодранные со всех сторон портки, бросил на землю то, что недавно называлось рубахой, со спины через голову скинул исподнюю рубашку, похожую на крупноячеистую рыболовную сеть, вылез из трусов и изготовился.
– Трусы можешь надеть,– посоветовал умный Шурик. – Всяко может быть.
Дядя Костя намёка не уловил, но в трусы влез и подтянул их до пупа. Вот тут мы его и разглядели окончательно. Он весь кровоточил изо всех глубоких и мелких разрезов, которые острые сучья делают не хуже ножа.
– Голову покажи. – Володя взял его за шею и нагнул.– У-у-у! Голову бы лучше совсем отрезать. И так уже ничего не осталось целого.
Пока дядя Костя размышлял над серьёзностью ужасного этого предложения, все трое откупорили по бутылке и начали поливать водкой пострадавшего. Он с первых секунд ничего и не понял, зато потом взвился как конь на дыбы и заорал страшно. Как утопающий, который понимал, что на берегу нет никого и спасти его некому. Дядя Вася держал его изо всех сил, но этого было явно недостаточно.
– Шурка, малой пусть поливает, а я держать буду!
И Володя прихватил мученика снизу за ноги.
После следующих трёх бутылок вопли дяди Кости перешли в хрипы, стоны и звериный рык. Глаза его вылезли из глазниц, рот пытался выхватить из водочных паров хоть каплю чистого воздуха, а руки он выворачивал так замысловато, что сумел освободиться от хватки дяди Васи, Потом он подпрыгнул так резво, что мокрые щиколотки Володя тоже не удержал. Свободный дядя Костя, раздираемый на мелкие детали болью, которую принесла водка в раны, сделал два бешеных круга во дворе, матерясь так многослойно и десятиэтажно, что даже закаленный жизнью дядя Вася сделал утвердительное заключение: – Да! В методике лечения мы не ошиблись. Если не помрет от болевого шока в течение двадцати минут, то завтра его можно по новой запускать в колючки. Как новый будет. Ни царапинки, мля, не останется.
Дядя Костя вылетел как снаряд из ворот и, сметая по пути всё и всех, унесся по дороге, которая вела вокруг деревни.
– А чего это он чесанул, как будто в тазике со скипидаром посидел?– Удивился двухметровый дядя Саша.
– Скоро вернется. Вон оттуда, – Шурик показал пальцем на другую сторону поселка. – И мы вместе с ним ещё погуляем. До рассвета ещё почти четыре часа.
– Всех настырно прошу занять закрепленные за ними места у столов. Вторая часть свадьбы продолжается, несмотря на отсутствие выбывших по болезни, тех, кого жены угнали и скурвившихся слабаков, – Дядя Гриша махнул фуражкой, топнул копытом культи оземь и свистнул гармонистам: – А ну, кудрявые, гопака нам на все лады! Да шоб с деревьев листья обсыпались!
Все быстро расселись, кухонные тётки чередой прибежали с подносами. Принесли жареные грибы, домашнюю колбасу, солёную рыбу, осыпанную луком, огурцы маринованные и много всего такого же, да ещё и мясо с кровинкой, истекавшее соком и манящее запахом. Заиграли три гармошки, а ровно под начало звуков из-за спин гармонистов вылетели четверо плясунов и стали скакать с таким усердием, будто свадьба ещё вообще не начиналась, а они её открывали весельем пляски. Все стали снова пить, есть и разговаривать друг с другом про то, как удалась свадьба.
Тут открылась калитка ворот Серёгиного дома и вышла из неё невеста бывшая, а теперича жена Наталья Николаевна.
-Драсти всем честным народам! – засмеялась она заливисто и красиво. -Спасибо вам, милаи наши, что дождались. Скрали мене окаянные людишки, да муж мой, Сергуня, отбил меня, поугробил сотню воров моих, да на руках десять вёрст пёр.! Во какой мужик у меня!
– Сухое спасибо рот дерет! – обрадовался найденной невесте большой дядя Саша.– Седайте на свой трон, раз так хорошо кончилось всё. Да горько выпьем!
– Ой, горько!– нестройно, но напористо закричал уцелевший народ.
– Погодьте!– Сзади к Наталье подошла тётя Валя, сняла с неё фату, расплела косу толстую искусственную, вынув из неё ленту белую. Затем сплела из нее две тонких косички, в которые вставила ленточки желтые. Потом косы свернула на макушке в кольцо, закрепила его шпилькой. После чего надела на Наташкину новую прическу странного вида шапочку фиолетового с коричневым оттенком цвета. Шапочка издали напоминала смешной невысокий колпак.
– Теперича ты жена подлинная. Не невеста ты больше. Муж, а ну, цалуй жонку свою как положено. Под хорошее «горько»!
– Горько! – завопили все, чокаясь стаканами.
И под звон этот Серёга смачно чмокнул жену в порозовевшую от счастья щеку.
– Эй, гуляй милая! Гуляй, публика! Гуляй, пляши, народ честной! – закричал гармонист и все трое растянули меха. Так широко и певуче начиналась свадебная застольная.
Снова стало интересно. Мы, не нужные никому уже, снова пошли на свои места в палисадник, чтобы ничего не пропустить из нашего общего замечательного деревенского праздника.
Веселье стало ярче сразу после появления дяди Кости в трусах. Он сделал круг по огибающей Владимировку дороге и ветер встречный охладил зверство водки, впитавшейся в «боевые» его раны. Продезинфицированный дядя Костя с ходу сел за стол, крикнул Шурику и дяде Васе что-то вроде «Ну, мужики, благодарствую вам! Вылечили зараз» и приступил к ужину с отменным аппетитом, который он нагулял бегом по объездной дороге. Все, кто сидел рядом с ним, аккуратно отодвинулись подальше, поскольку дополнительные пары водки, струящиеся окрест дяди Кости, ещё могли действовать на сидящих слишком близко, как живой продукт в количестве двести граммов на одного человека. Водочный запах доставал и на нас за штакетником. Он был тошнотворный и имел привкус прокисшего теста. Но мы заткнули носы, а воздух чистый вдыхали прямо от самой земли. Туда пары водочные не опускались. Жена дяди Кости сгоняла за угол домой и быстренько вернулась с синей рубашкой и полосатыми серыми штанами.
– А ботинки? А носки? – совсем пришел в себя раненый. – Они во дворе у жениха. Найди, да принеси.
И через пять минут это был совсем другой человек. Поскольку он пропустил всё, то жутко поразился наличию за столом невесты.
– Ты хто? – спросил он, приподнявшись и приложив ладонь ребром ко лбу.-Тебя ж не нашли. Они, гады, украли, а мы, гады, не сыскали.
– А запасная у меня была. В сарайке держал до поры. Мало ли чё… А тут запчасть и сгодилась вовремя. А та, какую украли – нехай с бандюганом и живет!– захохотал Серёга и сразу же отхватил увесистую затрещину. Рука у Натальи была тяжелая. Как у мамы Зинаиды. Она усмиряла, рассказывали, шумного в подпитии мужа без дополнительного оборудования – нежной рукой доильщицы. Пальцы у неё были как из железа. Она брала его пальцами за шею и сгибала до постели. Держала, пока Николай не засыпал.
Дядя Костя этого уже не видел. Он пил водку, ел рыбу, потом мясо с солёными грибами, периодически повторяя себе под нос одно и то же:-Что ж горько так, а? Горько, говорю!
Но народ был занят, поскольку первый наплыв пьяного угара откатился назад благодаря времени и отрезвляющим приключениям. Народ не замечал ни Наташкиного подзатыльника, который помог Серёге прекратить ржать и начать есть всё подряд. Тем более, никто не прислушивался к тому, что бубнит жующий и глотающий дядя Костя. Играли гармонисты, визжали пляшущие тётки и не до смерти напившиеся мужички, горели разноцветные лампочки, ветерок красиво шевелил ленты на кончиках веток, метались туда-сюда кухонные работницы с подносами и пустой посудой. Дело шло к трём часам ночи, как сказала на бегу одна из разносчиц еды.
– Три часа ещё, а половину гостей как повышибало. Корейцы тихо смылись и немцы. Наши вон полегли в траву. Хорошо хоть, что не сбежали со свадьбы. Грех это.
Дядя Гриша стоял в сторонке, близко к палисаднику. За стол не садился. Следил за порядком. Старшой ведь. Положено. Ему подносили разные подносы со всяким продуктом, кружки с бражкой. Кроме неё он пил только самогон. А его, по настоянию молодоженов, на сегодня запретили. На лице дяди Гриши зависла затяжная задумчивость. Он силился что-то вспомнить, но одуревшая от браги память уперлась и не срабатывала. Помощь старшому пришла с той стороны, откуда он и не ждал. Она и всколыхнула притуплённое веселой и богатой на подвижные события свадьбой дядино сознание.
– Мля!– сказал он громко.– Я тут стою, маракую, что у нас не так, а никто даже на ушко мне не шепнет, чего не хватает! Чуть не упустил главное-то, мля!
– Так всё главное ты как раз и пропустил, Григорий!– оторвавшись от надкушенного куска мяса съехидничал завклубом Теляшов, давно отоспавшийся в подносе с помидорами и потому резво нагонявший нужную кондицию в еде и питье.
– Тут, Гриня, свадьба прошла уже почти! Вон молодые ужо почивать идуть.
Проходит она, зараза, ночь-то. Нам оно важно? Нет! Мы и днём своё допьём.
– Не болтай, Вовка! – старшой уже не имел озабоченного вида. – Ишь, стихами заговорил. Ну, тебе можно, ты начальник культурного заведения.
Отбрил он завклубом и обратился к народу: – Гости дорогие, званые и самоходы! Сей минут молодожены в опочивальню уходят, а то, правда, вся ночь первая брачная так и пройдет в пригляде на рожи ваши, водкой перекошенные. Бабка Нюра и баба Фрося сведут в опочивальню вас. Советы дадут, как и чего. Помолятся там за вас, чтоб всё без заковык проскакнуло. А?
– А чего ты нас гонишь, дядька Григорий? Мы своё успеем ещё, не забудем, – Серега говорил это, совмещая с пережевыванием маринованного огурца.-
Мож ишшо чего стрясется тут смешное. Хорошую, смешную свадьбу вы нам поднесли. Благодарствуем.
Наталья кивнула после слов мужа, откусывая шоколадную конфету.
– Ну, тады слухайте, про чего я забыл, а ты, Натаха, напомнила, когда мужа треснула по темечку. – Дядя Гриша обратился к мирно жующему народу. -
Не было у нас чего? Правильно! Драки не было, мля! Свадьба без драки – считай, что и не было свадьбы. После ЗАГСа можно было сразу на перину и кубыть! Всё! Муж и жена!
-Фу-у! – скривилась Наталья
– Ну и где тогда твоя драка? – Серега съел огурец до конца и встал. – Не наблюдаю ни черта! Балабон ты, дядько Григорий.
– Счас! – старшой кинул клич поверх столов: – Мужики, драка во как нужна. Для порядку и для правильного состояния свадьбы. Засмеют нас всей деревней! Мол, у Опариных на веселухе даже морды не поквасили гости друг дружке! Тьфу, скажут, а не свадьба была.
– Ты, Гриня, ум не вытеснил бражкой? – спросил его дядя Вася.– Мы, штоль, передовики производства, махаться тут будем?
– И победители соцсоревнования! – вставил комбайнер Витька Свиблов.
Тогда дядя Гриша свистнул молодецким посвистом как Соловей-Разбойник и застучал копытом позади молодых к траве, где валялись бывшие мотоциклы, велосипеды и настоящие, бодрые наблюдатели за свадебными радостями соседские парни. Серёгины друзья-ровесники угорали за столами, поедая да попивая. А другие, не друзья вовсе и работающие не вместе с женихом, за стол не попали. Им на травку заносили и выпить да закусить, но, хорошо, не по одному разу. Так что парни были все примерно в одном тонусе полупьяных, но сытых.
Дядя Гриша минут двадцать вел с ними эмоциональные переговоры. Парни бычились, возражали, словесно боролись со Старшим как могли. Но дядя Гриша мог не добиться того, чего хотел, разве что только от жены своей Маруси. Остальные сдавались ему на какой-то минуте со словами: – Да ё-моё! Щас сделаю! А то ж ты мне весь мозг выгрызешь!
С парнями пошла та же картина. Они упирались. Говорили, что тут друзья все и драться не от чего. Причин нет. Да и вроде как пришли поглазеть на радость молодых, да на гостей добрых. «Горько» хотели покричать да поцелуям похлопать. А тут давай, дерись сами промеж себя, друзей, с какого-то лешего.
Но дядя Гриша, ясный сокол казачий, обломал и эту братву. Парни стихли и стали делиться на две команды. Делились долго. Никому не хотелось чистить мурсало собственным приятелям без повода. Не знаю, чего им там наобещал
Старшой. Может выпивки ещё. Может поговорить с директором, чтоб им зарплату подняли. Только внезапно началась драка. Сначала дело шло вяло. Возились в основном на месте, толкали друг дружку в плечи да в грудь. Но потом как-то раззадорились и начали махаться повеселей. За столами возникло оживление, понеслись женские истеричные крики «Караул, драка! Да разнимите же их, мужики! Сидите как совы на солнце. Не видите – поубивают они сами себя!»
Мужики неохотно оставляли насиженные и пригретые места свои и лениво внедрялись в кучу якобы дерущихся, и начинали якобы разнимать.
– Стоп!– голосом атамана вскричал дядя Гриша. – Нет полноты ощущений. Надо чегой-то обломать. Давай ты, Ванька, выламывай штакетину, ты, Колька, кол дери из земли вон тот. А Миха с Женькой пусть вас обезвредят и штакетиной да колом пройдутся по горбам. Во, как придумал!
– Не, не будем, – уперлись парни – Договорились руками, значит руками! Уговор дороже денег.
– Ну, тогда хотя бы столы повалите!– Дядя Гриша подошел к столам. Тётки кухонные тут же убрали с них всю бьющуюся посуду и вилки.
– Столы можно! – согласился Миха. Ванька тоже кивнул.– Столы поломать, это нам в удовольствие.
– Э! Ломать не надо, – попросил Серега. – Это соседские столы, не наши. Опрокиньте и пусть лежат.
В общем, драка, режиссером которой был дядя Старшой, удалась. Были крики, шум, стук, свист и женские вопли. Деревня, конечно, всё слышала и без сомнений присвоила, не глядя, празднику свадебному высшую категорию.
От чего всем присутствующим стало тепло на душе и захотелось ещё выпить и, возможно даже – закусить.
Собственно, всё уже начало повторяться. Хорошо, конечно, было. Нравилось всё нам, маленьким. И как дядьки, расторможенные водкой дико плясали, чрезмерно ели или тожественно, с особым высоким смыслом втолковывали друг другу то про уважение, то про неправильное понимание политики партии, а то – полушепотом и про охальные свои делишки – охмурение и баловство с совхозными девками, замужними и гуляющими пока без надзора. Часа в четыре утра, когда край черного неба самую малость посветлел на востоке, но солнце ещё только прихорашивалось перед длинным рабочим днём и выглядывать не торопилось, гости стали понемногу исчезать. Кто-то уходил вполне самостоятельно, прихватив в карман брюк запечатанную бутылку, кого-то жены практически на себе уносили домой на тяжкий сон до близкого пробуждающего похмелья. Разбежались и парни с травы, сытые, слегка пьяные, поимевшие удовольствие и от пережитой со всеми вместе свадьбы и от театральной «драки». Только несколько одиноких, неженатых мужичков, которым торопиться было не к кому, вели за столами бестолковые беседы и споры на искривлённым водкой языке, которого они и сами до конца не понимали. Кухонные тётки, зевая на ходу и зажевывая зевоту кто кислым, кто сладким, бегали как заводные от стола во двор с грязной посудой. Потом эту посуду мы отмывали до проснувшегося окончательно рассвета и разносили вместе с тётками на столы. Туда же отнесли ящик водки и стаканы. Это всё обновлялось для утренних ходоков, имеющих надобность опохмелиться и ещё немного погутарить насчёт счастливой новой семьи и прекрасно ушедшей свадьбе.
Отец мой с Шуриком, Володей и его женой ушли в умеренном подпитии часом раньше. Остались все мои знакомые дяди: Вася, Валера, Лёня, Костя и большой дядя Саша. Они не пили уже, да и еда в них, похоже, не вмещалась.
Так сидели, курили, болтали о чем-то. Не слышно было. Молодые отбыли на первую брачную ночь. Точнее, на брачное утро. Гармонисты допили всё, что стояло позади них возле соседского палисадника в ящике, хорошо поели и уснули сидя на траве, обняв гармошки, на которые они бережно сложили музыкальные свои руки и головы.
– Эй, живые кто, да поможьте мне, сукины вы дети!– донесся издали голос дяди Гриши Гулько. Голос нёс страдальческие, но сердитые интонации.
– А где орёт-то?– задумался большой дядя Саша. – Недалеко вроде.
Дядя Вася послушал минуты две и определил, что страдал свадебный Дружка у себя во дворе, то есть прямо за Серёгиным домом.
– Так он же рядом тут! – дядя мой почесал затылок и трехэтажно матюгнул дядю Гришу. – Находится рядом, мля, а громче позвать не желает. Начальник хренов. Пошли, что ли? Глянем, может культя отстегнулась у него, да по пьяне застегнуть не может. Было уже пару раз.
И мужики пошли во двор, где жили Гулько. Мы, естественно, бросили всё и побежали сзади.
Вход в сени их дома был с тремя ступеньками. От земли до порога. А от порога до пола в сенях шли тоже три ступеньки. Вход не додумались сделать пошире, потому, что по молодости все в семье были худые и решили, что меньше будет холода в сенях, если дверь сделать уже. Может, и правильно решили. Правда, дядя Гриша к старости сильно округлился. Но не переделывать же дом по этой несерьёзной причине
Дядя Гриша, видно взошел ногой на первую ступеньку, а протез с копытом донести уже физически не имел сил, потому как все их отдал яркой и умело сыгранной свадьбе. Он лежал наполовину находясь в сенях, а второй половиной свисал со ступенек, перебирал ногой и культёй, делал телом волнообразные движения, матерился, тянул себя руками, цепляясь за глиняный пол, внутрь помещения. Но силы первоклассной браги и мощь казацкая были всё же не равны. Проиграл дядя Гриша бражке вчистую.
– А чего домой понесло тебя, Гриня? – поинтересовался дядя Валера, наблюдая за бесплодными потугами свадебного старшины. – Там ещё и гости не все повыметались. Опять же – гармонистов надо стеречь, чтоб не уползли. Утром народ похмеляться пойдет. А музыка где? Нету музыки под опохмелку. Непорядок.
– …–.–.–…-..–..– , Валера!– откликнулся дядя Гриша.– Вам, мля, ндравится, что я тут как..–..–.-.-. ног болтаюсь!?
Стали вынимать его из трудного и компрометирующего ответственного человека положения. В тесную дверь, наступая на орущее тело, пролезли худощавые дядя Валера и Лёня. Огромный дядя Саша и мощный мой любимый дядя остались на улице. Процесс спасения человека, вызволения его из большой беды, длился около часа. Оказалось, что внести его на руках было невозможно. Задние здоровяки в дверь вдвоём не влезали. Пока заторможенные выпитым головы спасателей выработали единственно правильный план, дядя Гулько затих и уснул. Тогда его перевернули на бок и те, кто был в сенях, потянули его волоком, а уличные, приподняв задницу казака, впихнули его в дом. Дядя Вася притащил их угла две толстых коровьих шкуры. Одну постелил и на неё аккуратно сложили храпящее тело. Второй шкурой прикрыли сверху.
– А жинка его где? – спросил дядя Саша практически сам у себя. Поэтому сам и ответил. – А спит же, зараза. Тоже хлебнула немало. И вот так отлежал бы на неровностях мужик кости свои, да и помер бы вниз головой часа через три. А то и два.
И они пошли со двора. Я тихо , чтоб не скрипела, прикрыл дверь и мы тоже выскочили со двора.
Всё. Праздник на сегодня исчерпал и сам себя, и всех, кто был к нему привязан работой и отдыхом. Я съел большую шоколадную конфету и пошел домой. Залез к Паньке на печку и одурел сразу же. В пространстве печного лежака, занавешенного плотным ситцем, крутился, но не мог вырваться через ситец мощнейший перегар. Я приоткрыл занавеску, лег на шкуру, свесив голову в щель между стенкой и ситцем. Стало легче. Я ещё некоторое время вспоминал самые интересные сцены свадьбы и незаметно уснул. Утром, часов в десять, баба Фрося меня разбудила и я побежал убирать лишние столы вместе с пацанами, скамейки и помогал Шурику сматывать провода, выкручивать лампочки и уносить длинные шесты. В этом месте свадьбы больше не было. И следов не осталось. Тётки всё вычистили, вымели, пацаны выдернули колья и дорога снова стала дорогой, а не прекрасным уголком, в котором свершилось счастливое Серёгино и Наташкино таинство соединения в новую семью.
На вторую свадьбу у невесты во дворе я не пошел. Родители мои и баба Стюра уехали домой. Отец с мамой на мотоцикле, а бабушка с гостями из Кустаная и Затоболовки – в кузове грузовика. Мы с Шуркой, дружком моим, в лес сходили и валялись там в траве до вечера, набрав предварительно в майки вишню и костянику. Отдохнули.
Потом ещё четыре дня молодожены и их родители метались в день по трём-четырем дворам, куда их официально звали, чтобы оказать личные почести новорожденной семье. Это было настолько мучительно, что через неделю, когда я уже стал собираться ехать в город, потому как близилось 1 сентября и мы с Шуркой ходили попрощаться с молодыми и их родителями, на них без внутреннего содрогания и смотреть-то было невозможно. Это были похудевшие, измученные, тусклолицые люди с усталыми, но счастливыми глазами.
Я пробыл во Владимировке до отъезда ещё четыре дня. Мы с Шуркой от нечего делать болтались по поселку и за всё время не встретили ни одного взрослого мужика. Вообще, всё село выглядело довольно пустынно и только на немецкой его стороне стучали молотки, визжали пилы и тарахтели моторы. А на нашей послесвадебной территории видели только Сашку-пастуха, который понуро вечерком гнал коров по домам с пастбища. Коров на свадьбу не приглашали, а про то, что туда ходил их верный пастух, они не догадывались и на выгул уходили в свой час. Потому, что у Сашки была прекрасная сила воли, мощная жена и устойчивое желание получать зарплату в целости.
А когда до 1 сентября осталось пять дней, я уехал в город с Шуриком и дядей Васей на бензовозе.
Я плакал внутри себя. Я рыдал и душа моя не хотела смириться с тем, что теперь в родимую Владимировку я вернусь только после середины мая.
Утешало только одно. В Кустанае тоже шла жизнь и уже тогда, в малолетстве, я не чувствовал себя, в суете той, городской, нервной, бешеной и запутанной, лишним и жизнью моей не любимым.
Глава одиннадцатая
За пять дней до начала осени Кустанай 1958 года, в отличие от деревни моей любимой, уже полысел и пригорюнился перед будущей прохладой и долгими, низкими ветрами. Листья с тополей и клёнов валились как подстреленные. На фоне облысевших деревьев чётче обозначились грязные, крашеные охрой двухэтажные дома, натерпевшиеся от пыльных ветров и косых дождей, которые припечатали пыль к фасадам. Серым домам из штукатуренного кирпича везло больше. Пыль на них была просто не заметна. Зелёными оазисами радовали глаза только приземистые кусты акации и сирени. Но они были маленькие и не закрывали даже небольшие частные домики за низкими серыми дощатыми заборами. Весной их, видно, белили, а к сентябрю известка тоже нахватала пыли. Потому цвет всего нашего города напоминал поздние сумерки, будто всегда почти темно. Серым и черным становилось всё. Но я приехал утром и оно, тёплое и тихое, хоть и отгороженное от солнца почти фиолетовыми облаками, смягчало грусть, сочащуюся от домов и мрачного асфальта на больших улицах.
Никак не хотел Кустанай превращаться в город, похожий именно на город. Весь он был застроен собственными домами, домиками и землянками из самана от своих окраин и берега Тобола до единственной площади перед областным комитетом Коммунистической Партии СССР. Только здесь, в центре, да в районе вокзала он был и выше, и краше. Здания с лепниной под крышами и вокруг окон, цветочные клумбы, плотно утыканные бархатцами и бессмертниками, афиши про фильмы и театральные спектакли на огромных щитах, прибитых к вкопанным столбикам. Тележки на резиновых велосипедных колесах, разноцветные и размерами неодинаковые, тоже добавляли симпатичности улицам. С одних тележек продавали ливерные пирожки, с других газировку с тремя, на выбор, сиропами в стеклянных колбах, а ещё сок томатный, виноградный и яблочный. Газвода была похожа на настоящий лимонад, а сок по вкусу – один в один на тот фрукт, из которого его выдавили. Ну, ещё сахарную вату делали в алюминиевых чанах. И кроме всего этого продавали со столов, покрывающих тележки, разные бутерброды. Тут же стояли синие газетные киоски и той же краской покрытые будки телефонов-автоматов.
А чуть в сторону от центра и подальше от вокзала не было ничего и никого, кто бы чего-нибудь тебе продал. Про базар я не говорю специально. Тема отдельная. Базар – это самостоятельный город в городе Кустанае.
В общем, приехал я без настроения после вольготной и насыщенной деревенской жизни в обыкновенную суетливую повседневность, где надо было к восьми успевать в школу, после неё пристраивать себя к каким-то занятиям до самого вечера, а поздно, отгуляв на улице законные три часа, читать учебники и писать всякую всячину по предметам в тетрадки.
До торжественной линейки, знаменующей конец свободной жизни, оставалось три дня. Я после обеда взял портфель свой старый, доживший как-то до третьего класса, и через вечную дырку в заборе влез на школьный двор. Прошел, наклоняясь и нюхая любимые бархатцы на бесконечной клумбе, до огромной деревянной двери, свежевыкрашенной и покрытой лаком.
Вот только в этот момент почувствовал я как соскучился по всем нашим. Учителям, пацанам и девчонкам, по преподавателю уроков труда Алексею Николаевичу. Это был несгибаемый оптимист, который не терял надежды научить нас строгать доски и стамеской вырубать ровные пазы в будущих табуреточных ножках. По пустому коридору добежал до библиотеки и получил там все учебники для третьего класса. Достались мне книжки старые, разрисованные на внутренних листах обложки мордами всякими, машинами и револьверами. Опоздал. Новые учебники разобрали все, у кого не было родственников в деревнях. Ну, да и ладно. Новый учебник или трёпанный – учиться опять буду на одни пятерки. Это я знал заранее и наверняка. Сложил учебники в портфель и, перекошенный на правый бок, доплёлся до клумбы с бархатцами. Чем меня завораживал запах их листьев, острый и горьковатый, я так и не понял до сегодняшнего дня. Пытаюсь бесплодно разобраться сейчас. На даче у меня бархатцам отведено всегда много места потому, что без этого запаха я не могу жить. Как, например, без зарядки по утрам и ледяной воды в бассейне.
Дотащил я свой портфель с умными книжками до скамейки возле ворот нашего дома и сел. По улице гуляли, кланяясь, куры со всех дворов округи, между ними, как на пружинках, прыгали ещё не растолстевшие воробьи. Прохаживались, читая на ходу книжки и толкая перед собой коляску с дитём малым, мамы юные. По длинному скверу из кустов желтой акации с дорожкой посередине, похоронным шагом туда-сюда бродили пенсионеры. Отдыхали и набирались сил для остатка жизни. Всё двигалось ровно, размеренно, неторопливо. Даже машины по обеим сторонам сквера еле катились. Но в сравнении с темпом будня в старой Владимировке жизнь даже на нашей, удаленной от центра улице, бурлила и неслась как льдины на Тоболе в апреле.
Вот теперь мне и в школу захотелось, и в кружки всякие, и в музыкалку да на тренировки. Ну, ещё в изостудию прямо-таки поманило. К любимому Александру Никифоровичу. В этом году он обещал начать с нами курс масляной живописи на настоящем холсте.
Сидел я на скамейке и вспоминал себя в такой же точно форме трёхлетней давности, размером поменьше. Мне ещё не было семи, месяц всего оставался, но меня в виде исключения в первый класс приняли. И вот тут сидел я в новенькой свое форме мышиного цвета, сшитой из мягкой кашемировой ткани. На мне была почти военная фуражка с твёрдым черным козырьком. Тоже кашемировая, растянутая вверху в широкое кольцо пружинистым ободом. Над козырьком крепилась эмблема из твердой латуни, выдавленная в виде открытой книги. А опоясывал форму ремень, такой же, как солдатский. Только бляха была полегче, а над выпуклой пятиконечной звездой горел рельефный язык желтого пламени. Бляху я перед выходом намазал какой-то вонючей зелёной пастой. Называлась – паста Гои. Отец купил. А потом отполировал её фланелевой бабушкиной тряпочкой. Блестела бляха как во Владимировке медный Панькин самовар. Его он натирал этой же мерзкой пастой. А раньше, бабушка Фрося рассказывала, самовар до зеркального состояния доводила она разрезанным напополам помидором или смесью мела с уксусом.
Я тогда сидел на скамейке, потому, что раньше вышел. Ждал провожающих меня в первый раз в первый класс бабушку Стюру, маму и отца с братом Шуриком. Соседи по дому из других квартир, полуподвальних и «верхних», то есть, со второго этажа, уже меня благословили во дворе разными пожеланиями, которые заканчивались одинаково: « Ну, с Богом!»
Бога со школой я не мог связать никак, но всем сказал «спасибо» и всем, даже тёткам, пожал руки. Я очень хотел наконец пойти в школу. Читать и писать мама научила меня лет в пять, а отец как-то втолкал в мою голову таблицу умножения. Получилось так, что в первый класс я поступал пацаном, который уже читал книжки, писал, умножал, делил, вычитал и складывал. Даже маме втихаря помогал проверять тетради семиклассников и наугад рисовал в них пятёрки, двойки и тройки с четверками. Что-то даже писал им на полях. Что – не помню. Запомнилось только как отец, прослушав целиком мамину истерику, съездил мне три раза своим ремнем по голой заднице.
В общем, если рассуждать по взрослому, то в школе мне делать было совершенно нечего. Я уже всё умел. Но тянуло. Потому, что, во-первых, надо было носить эту прекрасную форму. И портфель сам по себе делал меня намного взрослее, когда я держал его в руке. А, во-вторых, в школе были парты, которые я раньше видел только через окно, когда мы с пацанятами малыми ставили под окна по три кирпича, взятых на время со школьной стройки огромного уличного туалета. Ставили их так, чтобы на руках немного подтянуться до стекла и увидеть класс. Коричневые парты и коричневая, исписанная мелом доска завораживали. Ничего похожего на парты никто из нас не видел и, тем более, на таком чуде не сидел. И вот поэтому тоже хотелось побыстрее стать для начала первоклассником. Первое сентября 1956 года я запомнил в деталях сам и никогда никого о моем первом школьном дне не расспрашивал.
Я два года назад сидел на скамейке только минуту. Сдуру сел, не подумал, что помну отглаженные мамой брюки и курточку, на которой тоже были едва заметные стрелки: поперек спины и вдоль рукавов. Потом на скамейке сидел один портфель, а я топтался рядом. Ждал. И наконец они вышли. Стояли передо мной, разглядывали и улыбались.