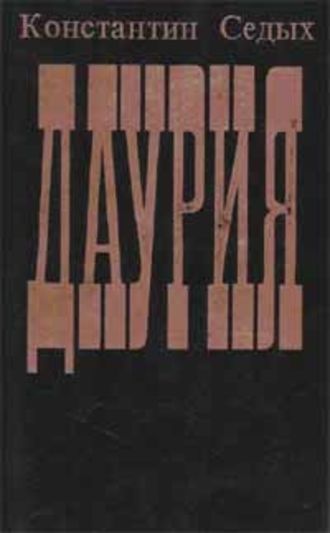
Константин Федорович Седых
Даурия
XXI
В ночь на четырнадцатое июля в поселке Грязновском перебил своих офицеров и перешел к партизанам Первый Забайкальский казачий полк. Семенов считал его лучшим из всех четырнадцати казачьих полков. Люди в нем были подобраны один к одному – все рослые и красивые здоровяки. Они были отлично вооружены и одеты и коней имели только двух мастей – гнедой и рыжей.
Для партизан переход полка оказался полной неожиданностью. Этот полк досаждал им больше всего. С самой весны гонялся он за ними по лесам и сопкам и нанес им большие потери под Орловской и в Убиенной пади на Аргуни. О том, что в полку существовала и действовала подпольная большевистская организация, знали определенно только Журавлев, Бородище в и Василий Андреевич, но даже и они не думали, что казаки решатся на переворот в тяжелой для партизан обстановке.
Партизаны к тому времени оказались снова загнанными в глухие дебри Богдатской тайги, где их блокировали крупные семеновские силы. У них почти не было патронов, часто жили они по нескольку дней без хлеба, а соли давно не видели в глаза. В семеновских газетах злорадно сообщалось, что красные в Богдати давно съели всех собак и кошек, что армия их тает с каждым днем. И действительно, под влиянием голода и военных неудач из Третьего и Четвертого полков дезертировало у партизан до тысячи человек. Дезертиры, преимущественно казаки низовых аргунских станиц, уходили за границу, знакомую многим из них с малых лет.
Дважды ездили к ним туда Бородищев и Василий Андреевич, чтобы вернуть их в полки. Дезертиры встречали их любезно и даже делились с ними купленными у китайцев патронами, но на все уговоры отвечали, что им еще не надоела жизнь, чтобы возвращаться сейчас в Богдать.
С переходом полка сразу все изменилось. Дезертиры так же дружно возвращались в свои сотни, как и убегали из них. И уже семнадцатого июля партизаны начали стремительный поход на юг.
Семеновцы всюду панически отступали. Их командиры боялись, что и эти оставшиеся части при первой возможности уйдут к партизанам.
Преследуя противника, партизаны заняли Нерчинский Завод и многие станицы четвертого военного отдела.
В те дни Роман Улыбин побывал со своей сотней в шестидесяти населенных пунктах, и, когда обосновался на длительный отдых в станице Калгинской, сотня его насчитывала триста семьдесят человек. Точно так же разрослись и многие другие партизанские сотни.
Из вновь вступивших бойцов были сформированы еще четыре кавалерийских полка, а из двух захваченных у противника горных орудий создана первая партизанская батарея.
Командиром батареи был назначен Федот Муратов, как бывший артиллерист и человек, собственноручно захвативший одно из орудий в лихой кавалерийской атаке. Это назначение совершенно преобразило его. Он перестал выпивать и вести легкомысленный образ жизни. Когда его называли Федоткой – не отзывался. В батарею он отобрал исключительно бывших фронтовиков и нарядил их всех в сапоги со шпорами, а на фуражке им приказал нашить красные суконные кружки с тремя буквами «ГПБ», что означало «Горная партизанская батарея». Один из его наводчиков оказался настоящим самородком. Любую цель накрывал он если не с первого, то со второго снаряда, и почти в каждом бою получал Федот благодарность Журавлева за отличную стрельбу.
Встречаясь с Романом и другими своими посёльщиками, Федот заметно важничал и все время говорил только о своей батарее да о заседаниях реввоенсовета, в которых он принимал теперь участие. А когда вступали в какую-нибудь станицу или село, занимал он со своими батарейцами самый лучший дом в центре, обосновывался в купеческой или атаманской горнице и никого не впускал к себе без доклада, так как помнил, что именно таким образом вел себя командир второй забайкальской батареи полковник Кислицкий. С разрешения Журавлева обзавелся Федот запасными артиллерийскими расчетами. Он был твердо убежден, что скоро появятся у партизан другие трофейные пушки, и заранее готовился к этому.
Но скоро ему не повезло. Под станицей Донинской ввязался он в артиллерийскую дуэль с тремя полевыми батареями Азиатской дивизии барона Унгерна. Одну батарею заставил замолчать, но потерял обе свои пушчонки, разбитые прямыми попаданиями. Остался Федот не у дел с одними зарядными ящиками. Партизаны посмеивались над ним и называли командующим зарядными ящиками. Первое время он пробовал отшучиваться, но потом не выдержал и напился пьяным. В наказание за это его спешили и заставили пройти пешком шестьдесят верст, а потом его взял в свою сотню взводным Роман Улыбин.
* * *
В эти дни в партизанских партийных организациях снова побывал представитель подпольного центра дядя Гриша, и от него Роман узнал, что сбылось многое из того, что предсказывал он еще в беседах с красногвардейцами Курунзулайской лесной коммуны: весной началось наступление Красной Армии на Восточном фронте, а Сибирь и Забайкалье запылали в огне партизанской войны.
По плану, разработанному партией, армии Восточного фронта были реорганизованы, пополнены боеспособными частями. И весной девятнадцатого года перед Колчаком за Уралом выросла грозная, несокрушимая сила. Ленин решительно потребовал от Реввоенсовета Восточного фронта, чтобы Урал был отвоеван у колчаковцев до начала зимы. А уже летом красноармейцы, знавшие об этом приказе Ленина, писали ему: «Дорогой товарищ и испытанный наш вождь! Ты приказал взять Урал к зиме. Мы выполнили твой боевой приказ: Урал наш!..»
Начался разгром Колчака. В июле и августе колчаковские армии вынуждены были после упорных боев оставить Уфу, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и откатиться за реку Тобол. Красная Армия устремилась в Западную Сибирь, создав непосредственную угрозу самой столице «верховного правителя» – Омску. Колчак бросил на Тобол последние свои резервы, но уже разваливался тыл его армии, разваливалась сама белая армия. В Омске шла ожесточенная грызня между политическими партиями, продолжалась нескончаемая министерская чехарда, а солдаты сибирских полков и чехи отказывались воевать против рабоче-крестьянской армии, которая несла смерть поработителям и освобождение трудовому народу.
Красная Армия находилась еще за тысячи верст от Забайкалья, но сокрушительные удары ее грозным эхом прокатились от Урала до самых берегов Тихого океана. И семеновцы, так же как и колчаковцы, почувствовали, что у них почва колеблется под ногами.
Атаман Семенов, напуганный уходом к партизанам лучшего своего полка, разразился грозным приказом по поводу этого, как выразился он, «печального события». В приказе он лишал казачьего звания и земельных наделов «изменников родины» и приказывал взять в их семьях заложников. Все свои сколько-нибудь надежные части перебросил он в Восточное Забайкалье, отказавшись от активных действий на амурском и верхнеудинском направлениях. Одновременно обратился он со слезной просьбой о помощи к японскому императору. Просьба его была уважена, и две японские дивизии под командованием генерала Ооя появилась на Восточно-Забайкальском фронте.
Двадцатого августа Роману пришлось неожиданно столкнуться с японцами на Средней Борзе. Накануне его вызвал к себе Журавлев. Роман в то время, босой и раздетый до пояса, играл в «молчанку» со своими бойцами. Он быстро оделся, прошелся щеткой по сапогам и, одергивая на ходу защитную рубашку, вскочил на подведенного ординарцем коня.
Ехал он на своем неразлучном Пульке и все строил догадки, зачем он мог понадобиться командующему.
Журавлева и Василия Андреевича он застал беседующими с командирами полков. В горнице было сине от табачного дыма. Загорелые, в пропыленной и выбеленной потом одежде, командиры сидели и стояли у круглого стола, на котором лежала наполовину развернутая карта. Журавлев тыкал в карту красным карандашом и что-то говорил Кузьме Удалову. Невысокий и грузный Удалов сидел, опираясь на серебряную офицерскую шашку, поставленную между ног, и глядел на Журавлева прижмуренными, скучающими глазами. Возле Удалова стоял Семен Забережный в кожаной куртке, с маузером на боку и биноклем на шее. Увидев Романа, он весело подмигнул ему и сказал Журавлеву:
– Улыбин явился, Павел Николаевич.
Журавлев поднялся из-за стола, пожал Роману руку и велел садиться. Помолчав, он заговорил, растягивая и тщательно подбирая слова:
– Вызвали мы тебя, Улыбин, для важного дела. Решили послать тебя в глубокую разведку на юг. Василий Андреевич и Семен порекомендовали тебя. Постарайся, дорогой товарищ, добраться до станицы Чупровской и выяснить, что там в степях делается. По непроверенным сведениям, собирают там семеновцы большой кулак. Твоя задача – узнать наперечет семеновские части. Только давай заранее условимся – никаких рискованных потасовок с беляками не затевать. Иначе толку от твоей разведки не будет. Согласен на такое условие?
Роман кивнул. Журавлев потер ладонью широкий крутой лоб, потом спросил:
– Трех дней хватит?
– Постараюсь, чтобы хватило.
– Ну, значит, договорились. А как действовать – учить тебя нечего. Людей бери с собой только таких, у которых кони добрые.
– Все понятно, товарищ командующий! – поднялся Роман. – Разрешите идти?
– Иди. Желаю успеха!
Взволнованный серьезным поручением, Роман по-особенному четко стукнул каблуками, повернулся налево кругом и вышел, отбивая шаг. Журавлев проводил его восхищенным взглядом и не удержался, произнес:
– Сразу видны казачьи ухватки! Этому дисциплина не в тягость, она у него в. крови. Многим бы не мешало брать пример с таких ребят.
Намек его поняли. Командир Четвертого полка Белокулаков сердито задымил трубкой, а Удалов принялся сосредоточенно разглядывать носки своих сверкающих глянцем сапог. Василий Андреевич подмигнул Семену и спросил Белокулакова:
– Что носом, Михей, закрутил? Разве угар почуял?
Белокулаков вспылил. Сиплым, срывающимся голосом сказал:
– Дисциплина, дисциплина… Все уши прожужжали. А я скажу, что щелкать каблуками и тянуться друг перед другом нам не пристало. Мы вразвалку ходим, а белогвардейцев с самой лучшей выправкой били и бить будем.
Журавлев улыбнулся, но тут же согнал улыбку с лица.
– Плохо ты, Михей, дисциплину понимаешь. Друг перед другом на цыпочках можно и не становиться, а вот приструнить разгильдяев и мародеров раз навсегда следует. За последний месяц в наши отряды влилось две тысячи новых бойцов. Среди них имеются всякие люди. Это надо нам твердо знать. Затесавшихся в наши ряды шкурников нужно выводить за ушко да на солнышко, а не покрывать их. Это, Михей, в первую очередь относится к тебе и к командиру Девятого полка. У вас были такие позорные случаи, как отказ поехать в разъезд из-за устроенной гулянки. Люди решили, что гулянка важнее, чем поездка в разведку. А третьего дня каких-то твоих молодчиков поймали, когда они у интенданта Второго полка овес украли.
– Я их за такие штучки взгрел, два станка пешком прогнал.
– Взгреть-то взгрел, но мне донести об этом происшествии не потрудился. А ведь таких мерзавцев мало прогнать пешком два станка, их судить надо. И нравится тебе или нет, но ты должен сообщить фамилии этих людей председателю ревтрибунала.
– Правильно, Павел Николаевич, – сказал Василий Андреевич. – Но у нас есть дела и почище. Вчера я случайно узнал, что товарищ Удалов, отходя от линии железной дороги, в попутных станицах и селах приказывал жителям не иметь у себя никакой местной власти. В противном случае он пообещал расстреливать выбранных населением поселковых атаманов и сельских старост. Это, товарищи, серьезное политическое недомыслие. Выходит, что Удалов решил насаждать анархию, а ведь он не рядовой партизан. Он командир нашего лучшего полка.
– Так ведь это я делал там, где население за белых горой стоит, – подал свой голос красный от смущения Удалов.
– Ну, насчет народа ты полегче. Нет сейчас в Забайкалье таких мест, где бы все население стояло за Семенова. Везде беднота и батрачество сочувствуют нам. Это одно обстоятельство. А другое заключается в том, что сейчас, как правило, в атаманах и председателях не богачи, а середняки, которые не чувствуют себя виноватыми ни перед нами, ни перед белыми. И этим людям, товарищ Удалов, туго приходится и без твоих дурацких приказов. Они все время между двух огней. С них требуем и мы и белые. Они были бы рады, они бы трижды перекрестились, если бы лишили их этой чести. А народ им говорит: «Потерпите, порадейте для общества». Вот они и радеют, хоть и проклинают свою собачью должность. И не нам их пугать расстрелом. Пусть они делают свое дело, ставят печати на бумажках да поставляют нам же с тобой и подводы, и муку, и сено. С этим мы должны мириться, раз не имеем прочно завоеванной территории. Но как только мы покончим с семеновщиной, мы всюду создадим сельские Советы, и заправлять в них тогда будут наши лучшие товарищи.
– Да, наломал ты, Кузьма, дров, – с укором сказал Журавлев Удалову. – Придется тебе за твой приказ влепить выговор. Разве ты не знаешь, какая теперь у нас тут сельская власть-то бывает? В одной, брат, деревне мы ухлопали одного атамана как семеновца, а другого семеновцы ухлопали как большевика. Народ видит, что так у них всех мужиков под корень выведут. Ну, и надумали упросить одну дряхлую и неграмотную старушку поатаманить в это трудное время над ними. Вот и атаманит эта старушка, печать под юбкой в мешочке носит, а народ радешенек, что до этого додумался. И таких случаев сколько угодно здесь, где мы уже полгода с семеновцами друг за другом гоняемся.
– Узнает эта старушка про твой приказ и тоже в отставку попросится, – сказал Удалову Семен и всех заставил рассмеяться.
– Ну, так понял свою ошибку, Удалов? – спросил Василий Андреевич.
– Понял, – угрюмо буркнул Удалов.
– А теперь поговорим о другом, – призвал командиров к порядку Журавлев и обратился к Зоркальцеву: – Ты, Александр Македонский, у нас тоже самовольничаешь. Заботишься только о своем полке, а до всей армии тебе дела нет.
– Откуда ты это взял?
– За примером далеко ходить нечего. Сколько ты под Донинской у белых патронов и винтовок захватил?
– Тридцать семь винтовок, а патронов две тысячи.
– Врешь ведь. По глазам вижу, что врешь. У тебя в полку на каждого бойца по сотне патронов имеется. Где ты их взял? Отбил в бою. Честь и хвала тебе за это. Но распорядился ты патронами не так, как следует. Сам до зубов вооружился, а другим ничего не дал. А ведь в Шестом полку у нас десять патронов на винтовку, да и в других не лучше.
– Зато они на боку лежать любят. Я для них патроны добывать не обязан. За патроны мои бойцы кровью расплачиваются.
– Опять рупь двадцать! Да пойми ты, скупец несчастный, что одним полком недолго навоюешь. Хорошо мы будем бить семеновцев, когда все полки не хуже твоего вооружить сумеем. И ты нам в этом деле должен помочь.
– А я что, не помогаю?
– Помогаешь, да уж шибко жидко. Скоро большие бои завяжутся. И если ты хочешь помочь нам, отдай половину боеприпасов. Тогда мы еще три полка боеспособными сделаем.
– Черт с вами, отдам. Только бузы в полку не оберешься.
– А ты объясни. Люди не безголовые у тебя, поймут, – сказал ему Василий Андреевич.
– Объяснишь им, как же! Такой гвалт подымут, что всем чертям тошно станет. А когда доставить патроны?
– Вот этот язык мне нравится, – рассмеялся Журавлев. – Завтра к вечеру сможешь?
– Постараюсь.
– Что же, так и запишем. А пока, товарищи, можете быть свободны. Только запомните, о чем речь у нас шла. Разведку ведите каждый на своем направлении изо дня в день. Иначе семеновцы в один прекрасный момент так на нас насядут, что будет хуже, чем под Орловской.
XXII
Роман с половиной своей сотни на отборных конях выступил из станицы.
Душный день клонился к вечеру. С юга навстречу разведчикам шла огромная темно-синяя туча. То и дело зловещую синеву ее сердцевины, как трещины сухую землю, раскалывали извилистые молнии. Басовито погромыхивал за синеющими хребтами гром. Горячий ветер тянул от тучи, шатая кусты и глухо шумя в вершинах гигантских лиственниц.
– А тучка, ребятишки, нехорошая. Так и знай – с градом, – сказал Симон Колесников. – Надо ее нам где-нибудь переждать, а то она нам шишек наставит.
– До града мы хребет перевалить успеем, – ответил Роман, – шибко рано ты забеспокоился.
Но туча быстро приближалась. Не успели разведчики доехать до хребта, как его затянуло косым полотнищем дождя и града. Недалеко от дороги виднелась мельница, и Роман приказал свернуть к ней. По высокой некошеной траве вперегонки понеслись партизаны туда, смеясь и гикая.
Едва добрались до мельницы и начали привязывать коней к мельничному замшелому и скользкому пряслу, как ослепительно резанула молния и ударил такой гром, что на него глухим и тяжелым рокотом ответили земные недра. Вверху зашумело, и вот первые градины, каждая с голубиное яйцо величиной, стали подпрыгивать в траве, гулко забарабанили по крыше, заплескались в речке. Одна из градин угодила Федоту в голову. Он дико взвыл и спрятался под брюхо своего коня. Потом выскочил оттуда и торкнулся в мельничную дверь. Дверь оказалась на запоре. Тогда он навалился на нее плечом, поднатужился и сорвал с петель. Забежав в мельницу, Федот остановился, отпыхиваясь. Вслед за ним набились туда и все остальные, возбужденно переговариваясь, зябко подрагивая. Далеким и мирным пахнуло на Романа от всей этой веселой сумятицы и возни, напомнило шумные июльские грозы на сенокосе, невозвратную юность. Скоро град сменился бурным и холодным ливнем. Роман выглянул из мельницы, закричал страшным голосом:
– Чьи кони отвязались? Ловите, пока не убежали!
Выходить под ливень никому не хотелось. Разведчики столкнулись возле двери, пытаясь узнать уходивших к дальним кустам коней. Наконец Федот признал своего коня. Он выругался, схватил валявшийся на помостках мешок, накинул его на голову и побежал ловить коня. Поймав его, вернулся назад мокрый до последней нитки и спросил Лукашку Ивачева и Симона Колесникова:
– А вы чего рассиживаетесь? Ведь это ваши кони отвязались.
Лукашка и Симон кинулись вон из мельницы. Федот принялся хохотать во всю глотку.
– Ты это чего? – спросил Никита Клыков.
– Да ведь они зря поперли. Идти-то тебе с Данилкой надо, а я пожалел вас.
Зычный хохот заглушил шум ливня. Никита и Данилка хотели было бежать следом за Лукашкой и Симоном, но Роман сказал:
– Не ходите. Раз уж те пошли, то хоть и поругаются, а коней приведут. По-Федоткиному не сделают.
– Надо хоть огонь развести, обсушить их, когда вернутся, – сказал Никита и принялся разводить в очаге огонь из лежавшего у порога сухого хвороста.
Лукашка и Симон прискакали назад верхами. Оба принялись ругать Федота, который с папиросой в зубах уже сушился у костра.
– Чего уж теперь ругаться, раз маху дали, – сказал он им. – Давайте лучше сушитесь, а то ночью лазаря запоете.
…В полночь разведчики приблизились к поселку Березовскому. В нем не было ни одного огонька, но отчаянно тявкали собаки.
– Неужели нас зачуяли? – спросил Симон Романа.
– Не должны бы. Это они на кого-то в улицах лают.
Спешились за огородами в приречных кустах. В поселок отправились пять человек во главе с Федотом. Пошли они по огородам, чтобы не нарваться в проулках на семеновские заставы. Назад вернулись через полтора часа и сообщили: стоит в поселке много кавалерии, а в центре, у церкви, расположены две батареи полевых орудий. У одной выставлена большая охрана.
– Должно быть, это дежурные расчеты, – высказал свое предположение Федот, – так что настороже, сволочи, держатся. А хорошо бы у них эти пушки оттяпать, – мечтательно закончил Федот.
– Ну ладно, – помня наказ Журавлева не ввязываться в драку, прервал его Роман, – больше нам здесь делать нечего. Номера полков на обратном пути узнаем, – уверенно заявил Роман. – К утру нам надо до Кутомары добраться.
Выше Березовского дорога проходит по правому берегу Борзи, прижатая к самой речке отвесными скалами. Но дальше долина становится шире, и там в одном месте, недалеко от дороги, разросся дремучий колок. В середине колка есть небольшая полянка. На рассвете разведчики добрались до колка и расположились на полянке. Один взвод сразу же улегся спать, а другой залег на закрайке колка и стал наблюдать за дорогой. Утро было туманное и сырое. Долго разведчики зябли, кутались в дождевики и шинели. Но едва туман рассеялся, как стало сильно припекать солнце, и разморенные люди дремали, изредка переговариваясь. Федот лежал рядом с Романом и вслух продолжал мечтать о том, чтобы снова обзавестись пушками.
Около полудня на дороге появилась сотня казаков. Шла она без дозоров. Впереди спокойно ехал молодой подъесаул в низко надвинутой фуражке, в синих галифе с желтыми лампасами. Следом за ним ехали два хорунжих. Они весело разговаривали и курили. До Романа донесся обрывок разговора о каком-то банкете в офицерском клубе. Из услышанного он заключил, что сотня идет откуда-то с линии железной дороги.
Вдруг Федот возбужденно зашептал ему:
– Пришьем, Ромка, офицериков. Мы их на таком расстоянии сразу срежем.
– Не дури, не дури. Не за тем нас сюда послали.
Минуту спустя Федот негромко вскрикнул.
– Ты это чего? – спросил Роман.
– Петьку Кустова и Митьку Каргина узнал.
– Врешь?
– Ничего не вру. Смотри в седьмом ряду спереди. Оба рядышком едут, сволочи… Ну, видишь? Петька-то, гад, уже урядник!
– Видать-то вижу, а признать не могу.
– Да они это, ей-богу, они. Едут, сучьи дети, и не подозревают того, что мы их можем очень свободно ухлопать. Сметанники проклятые, куроеды…
– Ладно, молчи. В другой раз повстречаем, так спуску не дадим.
– А ведь мы раньше с Митькой большими друзьями были. Вместе у Елисея пшеницу из амбара воровали, – возбужденно шептал Федот. – Однажды мы за ночь четыре мешка отборной пшенички на вино да на конфеты умыли.
Когда сотня скрылась из виду, он пошел будить остальных разведчиков, чтобы рассказать им про Митьку с Петькой. Только разбудил Лукашку и принялся ему рассказывать, как от Романа прибежал посыльный с приказом всем идти в цепь. На дороге появилась густая колонна пехоты.
– А ведь это, ребята, японцы, – приглушенным шепотом оповестил всех Симон, ложась в цепь рядом с Романом и Федотом.
– Японцы!.. – передразнил его Федот. – Что они тебе, с неба упадут, что ли?
– А я тебе говорю – они. Вон и знамя ихнее.
Впереди колонны, сквозь пыль, показалось белое знамя с красным кругом.
– Это у них солнце на знамени намалевано, – припав к винтовке, твердил свое Симон, и под левым глазом его подергивался какой-то мускул.
Японцы, все как один низенького роста, были в мундирах цвета хаки с желтыми пуговицами и с красными поперечными погонами, в серых брезентовых гетрах. Шли они плотно сомкнутыми рядами, взбивая густую пыль. В каждом ряду было шесть человек, и все они походили друг на друга, как оловянные солдатики.
– Давайте угостим этих гадов, – не вытерпел обычно спокойный Симон и передернул затвор винтовки.
– Нельзя этого делать. Ты дурака не валяй.
– Да ведь сердце рвет. Ты подумай только, где они идут. Расходились тут на нашу голову. Никогда я не думал, что эти макаки будут расхаживаться там, где я хлеб сеял, сено косил, где каждая травинка мне родная. А они, как дома, разгулялись. Продал им Семенов Забайкалье, продал. И когда мы теперь изведем эту погань?
Ярость, сжигавшая Симона, передалась и другим. Роман видел, как трясся всем своим телом Никита Клыков, как грыз сухую ветку Федот, как дрожала на спуске винтовки рука Лукашки.
– Не кипятитесь, ребята, – сказал им Роман, – придет время и стрелять будем, рубить под корень. А сейчас наше дело в прятки играть, счет этой чертовой силе вести.
Следом за первой колонной, которая насчитывала восемьсот солдат, с интервалом в две-три версты прошла вторая, а за нею – горная батарея и минометы на грузовиках. Потом долго шли обозы. За обозами опять ехали казаки с крашеными пиками и какая-то дружина человек в триста, вооруженная наполовину берданками. Всего за день прошло по дороге два батальона японцев, полк семеновской пехоты и до двух полков кавалерии. Уже на закате прошел последний большой обоз, охраняемый японцами, в средине которого восьмерка дюжих грудастых лошадей везла полевое орудие с двумя зарядными ящиками.
– Дураки будем, если не оттяпаем это орудие, – сказал партизанам Федот. – Можно сказать, что нам его Бог посылает.
– Отбить его немудрено. А вот как ты его к своим доставишь, если впереди столько япошек и беляков? – спросил Роман.
– Доставлю. Жилы надорву, кровью харкать стану, а доставлю, – умоляюще глядя на Романа, говорил Федот.
Роман ничего ему не ответил и стал писать обстоятельное донесение Журавлеву. С донесением отправил трех человек, а с остальными, поддавшись общему настроению, решил потрепать обоз и отбить орудие.
Удержаться от этого он не мог. Слишком обидным и оскорбительным было это нашествие чужих солдат на родную землю. Короткими ногами в брезентовых гетрах попирали они ее, и казалось, содрогается она от гнева и отвращения. Через день, через два займут они Мунгаловский и одним своим присутствием там осквернят самое заветное и святое, что только есть у Романа и его товарищей. Эта мысль потрясла и ошеломила его. Он взглянул с болью на леса и сопки, на пашни и сенокосы и почувствовал свою безмерную вину перед ними.
По глухому лесу правобережья повел он своих шестьдесят бойцов обратно к Березовскому. Обогнув поселок, его маленький отряд оказался восточнее березовской поскотины, в густых придорожных кустах.
Солнце уже закатывалось, когда задержавшийся в поселке обоз двинулся дальше. Медленно вытягивался он из улицы на каменистый тракт, и, наблюдая за ним, дрожали бойцы от нетерпения, пробуя – легко ли вынимаются из ножен клинки, есть ли сила в руках.
– Чур, не дрейфить, – объезжая ряды, говорил Роман, – от меня не отставать, крошить япошек в капусту.
– Нас не сопрет.
– Постараемся, – отвечали бойцы строгими голосами. Пропустив обоз мимо себя, Роман выхватил клинок и дал поводья Пульке. С криком «ура» вырвались за ним на тракт бойцы и понеслись на обоз.
Казаки в голове обоза оглянулись и как по команде ударили нагайками по коням. Bсe до одного пустились они наутек. Растерявшиеся японцы кинулись вслед за ними, на бегу скидывая с себя ранцы, бросая винтовки. Лишь человек десять стреляли от подвод по разведчикам, трясясь от ужаса. Но били они словно с завязанными глазами. И только одного Никиту Клыкова нанесло на слепую пулю. Стрелявшего в Никиту наотмашь зарубил Роман, а остальных порубили, затоптали конями бойцы и понеслись за убегающими.
Впереди всех скакал теперь Федот и дико горланил:
– Даешь пушку!
Покинутая расчетом и ездовыми пушка завалилась одним колесом в придорожную канаву. Упряжка ее сбилась в кучу, храпела, рвала постромки. Федот спрыгнул с седла, начал усмирять и распутывать этот лошадиный клубок. К нему на помощь бросились Симон и Алексей Соколов, а все другие пролетели дальше.
Самые проворные из убегающих японцев успели ухватиться за стремена казаков и бежали чудовищными прыжками, не выпуская их из рук. Перепуганные казаки полосовали их нагайками, чтобы заставить бросить стремена. Остальные японцы, отчаянно работая локтями и часто-часто перебирая ногами, без оглядки улепетывали следом за ними, и никто не догадался свернуть с дороги, недалеко от которой был спасительный лес.
Бойцы настигали их и с матерщиной рубили. Пощадили только одного японца. Уж больно резво умел бегать этот японец. Роман и Лукашка догнали его только на восьмой версте от поселка. К тому времени они успели приостыть и решили этого диковинного солдата-бегунца показать самому Журавлеву.
Захваченный обоз оказался с патронами и снарядами. Это была удача, о которой партизанское командование давно мечтало. Но нелегко было доставить эту добычу Роману туда, где в ней так нуждались. С патронами дело обстояло лучше: бойцы набили ими переметные сумы, набили туго все патронташи и карманы и навьючили до десятка лошадей. Но не то было с Федотовой пушкой, которой он ни за что не хотел поступиться. Везти ее можно было только по лесам и сопкам, где зачастую нельзя было не только проехать, но и пройти.
Но Федот твердил одно:
– Без пушки я – никуда. Пока живой – не брошу ее, – и отчаянно крыл матюгами всех, кто пробовал отговаривать его.
Тогда Роман выделил ему на помощь пятнадцать самых сильных бойцов, а сам уехал с остальными вперед, увозя с собой двадцать тысяч патронов и убитого наповал Никиту Клыкова, похоронить которого решили на мунгаловском кладбище.
К вечеру на вторые сутки Роман был уже в расположении партизан. По его просьбе Журавлев отправил навстречу Федоту всю Золотую сотню. Под охраной этой сотни и явился со своей пушкой обратно Федот только на седьмой день.
На него и на бойцов страшно взглянуть. Они оборвались, как черти, отощали, обросли щетиной. И хотя они посмеивались над Федотом, но рады были не меньше его, что благополучно доставили эту чертову пушку.
Назавтра во всех полках был зачитан приказ Журавлева, в котором он объявлял благодарность Федоту Елизарьевичу Муратову и назначал его командиром орудия. Так восстановил себя Федот в правах начальника партизанской артиллерии и по этому случаю снова нацепил на свои сапоги серебряные шпоры и стал отращивать для солидности усы, которые росли прямо не по дням, а по часам. И чем больше они становились, тем важней и серьезней делался их хозяин, нашедший наконец свое призвание.


