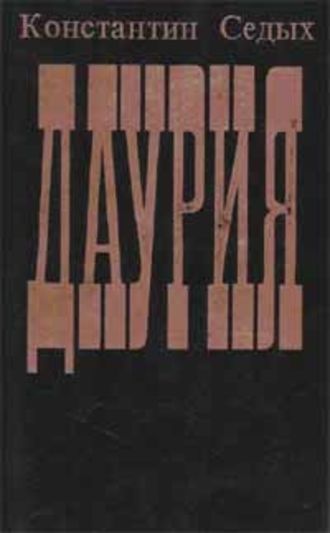
Константин Федорович Седых
Даурия
И только Василий Андреевич прилег, как на одной из дальних сопок показался молочный мячик дыма.
– Заметили, сволочи! – выругался Зоркальцев, припадая к камненной стенке.
Б-б-бух! – оглушительно грохнул через короткое время разрыв почти рядом, обрушив Василию Андреевичу на спину и на голову кучу песка. Прошло несколько мгновений, прежде чем он понял, что не ранен.
Вдыхая тошнотворный запах железной гари и газов, он приподнялся, виновато и растерянно улыбаясь. В трех-четырех шагах впереди себя увидел развороченную красноватую землю и еще дымящиеся осколки.
– Ну, наше счастье, что семеновский батареец дистанционную трубку неверно поставил, – сказал Зоркальцев, – снаряд-то шрапнельный. Ему нужно было в воздухе разорваться, а он клевок сделал, воткнулся в землю, да там и рванул. Теперь мы с тобой крещеные.
Договорившись с Зоркальцевым обо всем, Василий Андреевич попрощался с ним и поехал в поселок. Было уже двенадцать часов. Сильно припекало солнце. Взбудораженные галки огромными стаями кружились над Драгоценкой, тревожно кричали. На лугу беззаботно резвились молоденькие жеребята, всхрапывали и поводили ушами кобылицы, прислушиваясь к грохотавшим на сопках залпам. А молодая трава на буграх нежно и радостно зеленела, и расплавленным золотом сияла вода в Драгоценке. Дувший с востока ветер шатал прибрежные кусты, рябил воду на перекатах.
Василий Андреевич погнал коня и въехал в улицу, по которой метались какие-то всадники. Один вид этих всадников сразу убедил его, что случилось что-то плохое.
Оказалось, что, пока он был у Зоркальцева, обстановка стала еще более грозной. Наступавшая с юга белая конница стремительным ударом от Шаманки вырвалась на высоты между Орловской и Мунгаловским, отрезав друг от друга партизанские группировки. Но еще опаснее было то, что Третий полк, потеряв своего командира, убитого пулей прямо в лоб, в панике бросил свои позиции у Лебяжьего озера и примчался в поселок. Это его бойцы и метались по улицам. Случайно примкнувшие к партизанам люди из аргунских казаков совершенно открыто кричали в полку о том, что из окружения все равно не вырваться и сопротивляться бесполезно.
На площади, где сгрудилась большая часть полка, стоял непрерывный крик. В одном месте требовали идти на прорыв, в другом горланили о предательстве командиров, а в третьем прямо поговаривали о том, что единственный выход – сдача в плен. Вертевшийся среди партизан Федот, увидев подъезжавшего Василия Андреевича, метнулся к нему.
– Беда, паря Василий Андреевич. Нашлись тут такие гады, которые агитируют в плен сдаваться.
– Кто?! – задохнулся от ярости Василий Андреевич. – Ну-ка, показывай давай! – И он вынул из кобуры револьвер.
– Вон та борода больше всех распинается, – показал Федот на человека с чалой окладистой бородкой в старой казачьей фуражке и в заляпанном грязью желтом дождевике. Человек, размахивая руками, сипло надсажался:
– На черта загнулась нам эта партизания! Искрошат нас тутока в капусту… Эвон ить какая сила их прет. Не хочем сдыхать, дык сдаваться надо. Мы не комиссары, бояться нам…
– Что вы здесь слушаете предателя! – закричал на партизан Василий Андреевич. – Пулю ему в лоб! – И он выстрелил в искаженное ужасом лицо бородатого. В наступившей тишине обжег партизан его гневный вопрос: – Кто еще агитирует в плен сдаваться?
Все растерянно молчали. То, что сделал Василий Андреевич, было так неожиданно и так не вязалось с его отношением к людям, что многие были просто ошеломлены. И каждый, кто хоть сколько-нибудь чувствовал себя виноватым, боялся в эту минуту, чтобы кто-то не вспомнил о нем, не указал на него.
– Рано паниковать вздумали! Рано помирать собрались! – закричал Василий Андреевич. – Кто вам каркает, что пропали мы? Нет, не пропали и не пропадем. Куда захотим, туда и пробьемся. Второй и Четвертый полки повсюду отбили врага. Трусов и паникеров там нет. Только у вас они завелись.
– Командира у нас убило, вот и получилась неустойка, – попробовал кто-то оправдаться.
– Знаю… И ваш долг отомстить за него, а не бегать, как овцы.
– Дай нам доброго командира да патронов побольше, тогда и у нас дела пойдут.
– Патронов не обещаю, а командир у вас будет. Вот он ваш командир, – показал on на Семена Забережного, который только что подъехал к нему на взмыленном коне. – Разговаривать он много не любит, а воевать умеет. Он из тех, кто первым поднял знамя восстания. Ручаюсь за него своей головой. Принимай, товарищ Забережный, полк.
Семен от неожиданности чуть было не проглотил окурок, который держал в зубах, но понял, что отказываться нельзя. Он выплюнул окурок, поправил фуражку на голове и подал команду:
– Стройся! – Василий Андреевич не узнал его голоса. Это был строгий властный голос человека, который знал, зачем он поставлен в такую минуту командовать полком. «Этот на своем характере выедет», – подумал он про Семена, особенно довольный тем, что так быстро и правильно разобрался Семен в причинах своего внезапного назначения.
Прорвавшие фронт казаки генерала Мациевского быстро развернулись вправо и влево. Одним крылом подошли они вплотную к Орловской, другим – к Мунгаловскому. Спешенные цепи их появились на заросших густым мелколесьем сопках за мунгаловским кладбищем и открыли стрельбу по поселку в тот момент, когда Семен выводил из него свои сотни.
Увидев, что сопки уже заняты противником, Семен не растерялся. По его команде сотни рассыпались в разные стороны и быстро спешились. Коноводы галопом скрылись за домами и заборами крайней улицы, а сотни развернулись в цепь и, ободряемые Семеном, перебежками устремились вперед. Скоро они были уже в мелком кустарнике, близко подступавшем к гумнам и огородам мунгаловцев. Казаки потеряли их из виду и стреляли теперь наугад, не причиняя им никакого урона.
Пока партизаны видели друг друга в цепи, они шли смело и дружно. Но когда углубились в кустарники, которые делались все выше и гуще, цепь расстроилась. Видя только двух-трех соседей справа и слева от себя, бойцы утратили чувство локтя, а с ним и прежнюю решительность. Шагали с оглядкой, окликали один другого. А казаки, хватившие для храбрости спирта и оттого настроенные весьма решительно, двинулись им навстречу. Они стреляли на ходу и кричали «ура». Семен видел, что в любую минуту его бойцы могут повернуть назад.
Оглянувшись, он увидел на северо-востоке, в нагорных лесах заречья, тяжелые клубы черно-белого дыма. Пущенные кем-то палы бушевали там на оберегаемых из года в год местах, где обильно росли брусника и голубица, смородина и малина. Гонимые ветром палы сбегали по горным распадкам вниз, к Драгоценке, быстро катились по горным склонам вверх, к похожим на столбы утесам. Семен огляделся тогда кругом. Кустарники всюду были обвиты сухой прошлогодней травой. Они не выжигались много лет. Мунгаловцы надеялись превратить их со временем в настоящий лес. Стоило поджечь их в этот ветреный день, и полетел бы по ним, гудя и завывая, страшный пал. Жалко их было губить Семену, но это оставалось единственным средством задержать врага, спасти сотни вверенных ему людей, оправдать доверие Василия Андреевича.
И в этот момент пришло к нему неожиданное решение.
– Поджигайте траву! – передал он команду по цепи и достал из кармана спички. «Сейчас мы вас угостим!» – с яростью подумал он о казаках и поднес зажженную спичку к оплетенному цепкой вязилью кусту шиповника.
Кустарники вспыхнули сразу в десятках мест. Перебегая с пучками подожженной травы от куста к кусту, партизаны создали непрерывную линию огня длиной с полверсты. Не прошло и двух минут, как заметались под кустарниками языки пламени. Они то скручивались в багровые спирали, то развевались от ветра в жаркие желтые ленты. От одного их прикосновения вспыхивали макушки осин и березок задолго до того, как накатывалась на них идущая понизу сплошная волна огня. Огонь трещал, гудел, клубился и со скоростью курьерского поезда летел навстречу казакам.
– Вот это придумал так придумал! – выразил Семену свое одобрение командир первой сотни, прибежавший к нему с правого фланга. – Придется нам жареных белопогонников собирать.
Семен ничего ему не ответил. Он хмуро глядел на черное дымящееся пожарище, где жарко тлели гнилые пни, обнаженные корни и даже земля.
Сломя голову убегали в гору казаки от настигающего их огня. С них сразу сняло весь хмель. Чтобы легче было бежать, бросали они винтовки и битком набитые клеенчатые патронташи. Но далеко не всем удалось спастись. Когда партизаны, идя вслед за огнем, стали подходить к макушкам сопок, им начали попадаться трупы сгоревших и задохнувшихся в жару казаков. Здесь было самое густолесье, и горело оно с таким чудовищным жаром, что от него рвались даже патроны в стволах брошенных казаками винтовок. Одна такая винтовка, с разорванным стволом, попалась Семену. Он подобрал ее, чтобы показать Василию Андреевичу.
Партизаны выбежали на траурно-черные сопки, где тлел еще коровий помет и сизой поземкой летела гонимая ветром зола. Они увидели, что пущенный ими пал, сбежав в сухую неширокую падь, угасая, дымился у недавно распаханных пашен. Семеновцы оказались за падью на невысоких вершинах. Они открыли оттуда по партизанам пулеметный огонь. Партизаны залегли и стали отвечать им.
Семен подозвал к себе командира первой сотни и приказал ему писать Василию Андреевичу донесение, что сопки им заняты и он сумеет держаться на них, пока есть патроны.
Но в Орловской к той поре уже наступила развязка. С двух сторон ворвались в нее по долине семеновские юнкера на грузовиках с пулеметами и дивизион уссурийских казаков. Бешеным натиском уссурийцев шесть сотен Первого полка, дравшихся на сопках к юго-западу от станицы, были отрезаны от пехоты, которая занимала высоты на северо-востоке и востоке. Журавлев и раненный пулей в бедро Бородищев успели присоединиться к своей кавалерии.
Приведя в порядок расстроенные и поредевшие сотни Первого полка, Журавлев и Удалов повели их на прорыв в конном строю с развернутым знаменем впереди. Ценою больших потерь разорвали они вражеское кольцо на западе и ушли через хребты на деревню Дучар. Но из пехотных батальонов мало кому удалось спастись. Китайцы, окруженные со всех сторон, дрались отчаянно и, истратив последние патроны, все до одного погибли в рукопашной под шашками озверелых дружинников, под японскими штыками юнкеров.
Обо всем этом Василий Андреевич узнал поздно вечером от прибежавшего в Мунгаловский командира одной из пехотных рот. Теперь знал, что надеяться не на кого. Нужно было по собственному разумению и силами только трех полков выходить из окружения.
XIX
На обширном плато между Орловской и Мунгаловским тянутся с севера на юг четыре гряды невысоких сопок. Круто сбегающие к долине Орловки сухие и узкие пади отделяют их друг от друга. Средняя падь значительно шире и глубже других и носит название Глубокой. В устье Глубокой, в пяти верстах от станицы, находился некогда знаменитый прииск Шаманка.
Когда началось семеновское наступление, сотня Романа Улыбина стояла в сторожевом охранении у Шаманки. Бойцы занимали поросшие кустами высокие отвалы промытых песков, а коноводы надежно укрылись в глубоких, обширных разрезах. Единственный в сотне пулемет был поставлен под кустом боярышника на самом большом отвале.
На рассвете сотня обстреляла подошедший с юга кавалерийский разъезд противника. Разъезд рассыпался по кустам и умчался назад. У бойцов еще не улеглось возбуждение, как по прииску и по отвалам стали бить с Байкинского хребта семеновские пушки.
В сером свете утра скоро стало видно, как с хребта спускаются к прииску цепи наступающего противника. Роман в бинокль определил, что это были спешенные казаки. Бойцы начали стрелять по казакам и этим обнаружили свои позиции, так как многие были вооружены берданками, патроны которых были набиты дымным порохом. Семеновские батареи, подтянутые совсем близко, ударили по отвалам шрапнелью. В сотне убило и ранило пятнадцать человек, и в том числе весь пулеметный расчет.
Подобрав раненых, сотня галопом унеслась по разрезам в Глубокую падь, а оттуда перебралась на Змеиную сопку. Падь осталась у нее справа. Роман отправил раненых в Мунгаловский, а сотню расположил по каменистому гребню сопки. У бойцов к этому времени осталось всего по десятку патронов, и он приказал им без команды не стрелять.
Семеновцы заняли Шаманку, разобрались в обстановке и открыли сильный огонь по сопкам, занятым сотнями Первого полка, подоспевшими из Орловской. Партизаны либо скрылись на северных склонах, либо вовсе бросили свои позиции. На плохо обстрелянных людей семеновская шрапнель нагоняла дикий страх. Особенно пугала она молодых партизан. Но в сотне Романа были почти сплошь приисковые рабочие, в прошлом фронтовики. Они оказались менее чувствительным народом и продолжали оставаться на сопке, когда два казачьих полка в конном строю устремились из Шаманки в Глубокую падь.
Бойцы расстреляли по ним все патроны, но задержать конницу не смогли. Семеновцы ворвались в Глубокую и устремились к ее вершине. Скоро они достигли дороги из Орловской в Мунгаловский, изрубили там откуда-то подвернувшихся коноводов одной из партизанских сотен, быстро спешились и бегом устремились вправо и влево. Сопки здесь были пологими и небольшими, и семеновцы легко одолели их.
Очутившись в глубине партизанского расположения, ударили они с тыла по тем партизанам, которые еще держались на соседних вершинах, и заставили их отойти на восток и на запад.
Под вечер Роман привел свою сотню в Мунгаловский.
Улицы поселка были забиты обозами, готовыми по первой команде тронуться с места. Мобилизованные в обоз старики и подростки сидели на облучках, с опаской поглядывая на здоровенного фельдшера, сновавшего между подвод. Фельдшер поил из своего термоса раненых и успокаивал их как умел. Ему помогали две девушки-партизанки и Алена Забережная с брезентовыми сумками через плечо, на которых были нашиты кумачовые кресты.
– В партизаны записалась? – спросил Алену Роман.
– Записалась. Дома мне теперь не жить. Не добили, так добьют.
Никула Лопатин, завидев Романа, спрыгнул с облучка, рысцой потрусил к нему.
– Что же это, паря, такое деется? – плачущим голосом обратился он к Роману.
– А что такое? – недружелюбно спросил Роман.
– Да вот назначили ехать в обоз. Хоть бы ослободил ты меня от этой тяготы. Ить не чужой я вам, а сосед.
– Сосед, говоришь? А помнишь, как я по твоей милости чуть к белым в лапы не угодил?
– Что ты, что ты! Бог с тобой! – испугался Никула и отстал от него.
– Ладно, не ной. Ничего тебе не сделается, – огрызнулся Роман и, больше не оглядываясь на Никулу, провел сотню возле самых заборов, минуя обоз.
Василия Андреевича Роман нашел в школе, где он совещался с командирами полков, одним из которых, к немалому его удивлению, оказался Семен. Крутившийся тут же Федот сказал ему:
– Поздравь Семена Евдокимовича. Василий Андреевич его в полковники произвел. Третьим полком теперь Семен Евдокимович заворачивает.
– А Козлов где?
– Еще утром убили, под Лебяжьим, – вздохнув, и переменив тон, сказал Федот. – По горячности своей пропал человек. На моих глазах все произошло. Семеновцы бросили нам навстречу каких-то дружинников. Мы поперлись их рубить, а они от нас наутек. Козлов распалился, всех вперед выскочил. Дружинники скакали, скакали, да и рассыпались в стороны. А по нам в упор из пулеметов тогда и резанули. Козлова наповал срезало.
Василий Андреевич хоть и обрадовался появлению Романа, но все же строго осведомился, как он попал в поселок. Роман принялся рассказывать, и у него получилось так, что только одна его сотня дралась хорошо, а все другие части убегали от первого же снаряда.
– Как ты воевал, я не видел. Но зря думаешь, что только ты хорошо бился, – сердито оборвал его Василий Андреевич. – Вот Семен здесь такую баню белым устроил. Моментально с сопок вытурил, да и другие полки молодцами держатся. Так что давай не хвастайся.
Роман смущенно умолк и принялся теребить темляк своей шашки.
Разговор у Василия Андреевича с командирами шел о том, как и куда уходить из окружения. Зоркальцев предлагал бросить обозы и ночью прорваться на Уров от мунгаловских заимок. Командир Четвертого полка Белокулаков соглашался с нем. Семен молча посасывал трубку и слушал их с явным осуждением. Когда Василий Андреевич спросил, что он думает, Семен коротко отрезал:
– Бросать раненых я не согласен. Надо так сделать, чтобы раненых спасти.
– Раненых мы, конечно, не бросим.
– Тогда все пропадем! – запальчиво воскликнул Зоркальцев.
– Не пропадай раньше времени и других не пугай! – оборвал его Василий Андреевич. – Скажу я вот что. Прорываться будем завтра утром. Ночью этого не сумеем сделать, потому что растеряем все обозы. Куда будем прорываться, об этом пока сам не знаю. Сейчас во все стороны у нас отправлены большие разведывательные группы. Когда они вернутся, нам станет ясно, где у противника самое слабое место. Тогда все окончательно и решим, а пока командиры полков должны оставить на своих участках только небольшие заслоны. Все остальные силы нужно стянуть в поселок и держать их в кулаке. Этим кулаком будем пробивать себе дорогу. Давайте исполняйте приказанное и старайтесь ободрить бойцов. Панические разговоры прекращайте без всякой пощады.
Ночью, когда вернулись разведчики, у Василия Андреевича созрел окончательный выбор. Он решил прорываться на восток, к Нерчинскому Заводу.
Семеновцы, надеясь на большой гарнизон в Заводе и зная, что единственная дорога на Аргунь проходит всего в восьми верстах от него, оттянули все свои кавалерийские части с этого участка на север. На направлении прорыва стояли у них какие-то дружины в деревне Георгиевке и пехотный батальон в деревне Артемьевке. Пехотный батальон, конечно, серьезная сила, но дружины стойко драться не могут. Кроме того, нужная партизанам дорога проходит как раз через расположение дружин. Правда, всего в десяти верстах от дороги, дальше на север, стоит целый казачий полк, только все должно произойти так быстро, что семеновцы не успеют перебросить полк к месту прорыва.
«А вдруг успеют?» – подумал Василий Андреевич и представил, что произойдет тогда на узкой, петляющей среди гор и лесов дороге, на которой одних обозов будет около тысячи телег. Какой кусок семеновцы успеют откусить, такой наверняка и проглотят. Необходимо сделать так, чтобы этот полк белые не могли снять оттуда, где он сейчас стоит. А для этого надо держать их там в постоянном напряжении и в уверенности, что именно на том участке разыграются все события.
И Василий Андреевич решил отправить две сотни на север и ложной атакой отвлечь внимание противника от главных партизанских сил.
С этой целью уже в третьем часу утра вызвал он к себе Романа и командира сотни газимурских приискателей Ивана Махоркина. Оглядев их с ног до головы, спросил:
– Как у вас в сотнях народ настроен?
– Вполне на уровне, – ответил Махоркин за себя и за Романа, покручивая русый ус.
– Так, так, – усмехнулся Василий Андреевич. – Значит, на уровне? – И, помедлив, переспросил: – На уровне предстоящих задач, что ли, Иван Анисимович?
– Совершенно точно, – подтвердил Махоркин.
– Тогда слушайте, зачем я вас вызвал. Прорываться мы будем на север. Ваши сотни первыми пойдут в атаку на Ильдиканский хребет. На нем окопался целый семеновский полк. Либо вы собьете его, либо погибните. Но я верю, что вы сумеете пробить дорогу. Ваши сотни я знаю. Подобрались в них почти сплошь рабочие, а это народ боевой и сознательный. Пушками их вдруг не испугаешь. Пусть поучатся у них другие, как надо выходить из окружения. Это пригодится нам на будущее время. Все наши жертвы будут оправданы, если хребет будет взят.
«А правильно ли делаю, что не говорю им всей правды?» – спросил себя Василий Андреевич. Он почувствовал острую жалость к Роману, который стоял перед ним подтянутый и серьезный и глядел на него так лихо и преданно, что можно было не сомневаться, что Роман скорее умрет, чем позволит хоть в чем-нибудь упрекнуть себя.
«Нет, – после краткого колебания сказал себе Василий Андреевич. – Все решил я правильно. Если сказать им, что настоящая атака будет в другом месте, невольно станут они действовать с оглядкой назад. Вздумают беречь себя и своих людей, а из-за этого может сорваться все. Пусть лучше погибнут две сотни, но спасут тысячи… Ромка! Ромка! – вздохнул он, глядя в синие прищуренные глаза Романа. – Хороший ты парень, племяш мой! Горько мне будет потерять тебя, но иначе я поступить не могу. В моих руках оказалась судьба восстания, судьба Забайкалья. И если я посылаю тебя на смерть, то не собираюсь щадить и себя. В этом мое оправдание перед тобой, перед Махоркиным и перед собственной совестью».
– Ради такого дела не мешало бы нам патронов подкинуть, – перебил его размышления Махоркин. – У нас ведь раз, два – и считать нечего.
– Патроны будут. Отдадим последний наш запас. Штук по пятьдесят на брата придется. Ну, и гранат десятка три подкинем. Это все, что я наскреб.
– Тогда все в порядке. Встретимся на хребте или совсем не встретимся, – сказал Махоркин и взглянул на Романа, желая удостовериться, как отнесется он к его словам.
– Встретимся, не может другого быть, – спокойно отозвался Роман и резким движением руки сбил на затылок свою папаху.
Прощаясь с ним, Василий Андреевич спросил:
– Как думаешь действовать?
– Трудно сказать сейчас. На месте виднее будет… Во сколько начинать?
– Начинайте ровно в шесть. Давай сверим часы.
Они сверили часы. Потом Василий Андреевич положил ему руку на плечо и сказал:
– Ну, держись, племяш. Иначе я поступить не мог.
– Знаю, дядя, знаю, – ответил Роман и, торопливо пожав ему руку, пошел из школьного класса, с которым было так много связано у него воспоминаний из поры беззаботного детства.
От школы Романа как ветром занесло к дому Дашутки. Долго стучался он в сенную дверь Козулиных, прежде чем заспанный голос Дашуткиной матери спросил, кто стучится. Роман назвался и попросил позвать Дашутку. Она вышла к нему на крыльцо босая, с шалью, накинутой на плечи. От шали пахнуло на него запахом мяты. Он взял Дашутку за руки:
– Ну, как ты живешь? Не обижают тут вас?
– Нет, не жалуемся.
– А я проститься зашел. Уходим сейчас. Утром будет у нас большой бой. На прорыв идем.
Дашутка заплакала, прижалась к нему. Он поцеловал ее в губы и в щеки, а потом глухо, как бы через силу, сказал:
– Если не вернусь, не поминай лихом. А теперь прощай, ждут меня, я ведь на минутку забежал, – он круто повернулся и шагнул с крыльца.
– Постой! – крикнула Дашутка и, догнав его, сняла с себя нагрудный крестик: – Вот, возьми от меня. С этим крестиком дедушка наш две войны отвоевал и ни разу раненым не был.
– Ну, вот еще. Не верю я в эти крестики, Даша, – растроганный ее порывом, он ласково положил ей руки на вздрагивающие плечи, с чувством сказал: – Милая ты моя, милая… Спасибо тебе за все, за все, – и, поцеловав ее в лоб, не оглядываясь, пошел из ограды.
…Через полчаса они повели с Махоркиным свои сотни по торной широкой дороге к верховьям Драгоценки. Это была дорога, знакомая ему с детских лет. Сколько раз он ходил и ездил по ней, если бы сосчитать все версты, отмеренные им здесь, получилось бы их не сотни, а тысячи. Он ехал по дороге и не знал, придется ли ему еще хоть раз проехать по ней на покос или на пашню, полюбоваться с нее на поля и сопки. Но если и не придется, все равно недаром топтал он в своей жизни и эту и много других дорог. Недаром пил воду из горных ключей любимого края, недаром ел его добрый хлеб.
Ранний майский рассвет он встретил в лесу за мунгаловскими заимками. В этом лесу стрелял в него когда-то Юда Дюков.
В пади, где спешивались сотни, стояла еще густая синяя мгла, но уже четко обозначились на свете силуэты зубчатых вершин Ильдиканского хребта. Утренней свежестью тянуло оттуда.
Склон хребта, по которому должны были наступать сотни, отлого спускался к югу. Тянулся он версты на две. Росли на нем удивительно ровные березы, каждая примерно в обхват толщиной. Местами виднелся густой подлесок из багульника и шиповника. Багульник был весь в цветах, и всюду стоял в березнике его пряный запах. Сотни тихо сосредоточились и залегли в подлеске справа и слева от дороги. С хребта не доносилось никаких звуков, и Роман даже усомнился, есть ли там противник.
Они посоветовались с Махоркиным и решили отправить вперед лучших своих стрелков с тем, чтобы они подобрались как можно ближе к самому перевалу и засели там за пнями и камнями. Меткими одиночными выстрелами стрелки должны были отвечать семеновцам, когда они станут стрелять по наступающим сотням. Выбрали на это дело тридцать человек. Не замеченные секретами противника, они сумела обосноваться вплотную от него.
Ровно в шесть часов пошли по их следам развернутые в две цепи сотни. Пригибаясь, перебегали бойцы от березы к березе, от пенька к пеньку. Взошедшее солнце бросало справа пучки косых лучей. Голубые узкие полосы света насквозь прошивали березник, и был он весь светлым, празднично веселым. Березы стояли, как белые свечи; пылал багульник; бронзой и золотом отсвечивали палые листья. А вверху на все голоса заливались жаворонки, славя жизнь и весну. Это так странно не вязалось с тем, ради чего пришли сюда люди, что на мгновение все показалось Роману каким-то неправдоподобным сном.
Но гулко хлопнувший впереди выстрел сразу вернул его к действительности. Семеновцы заметили партизан. После одиночного выстрела грянул залп, другой и пошла оглушительная трескотня, злая и торопливая. Горное эхо отвечало на нее с такой силой, что казалось, стреляют с каждой вершины, из каждого ущелья на много верст кругом.
Видя, как сразу растерялись некоторые из бойцов, полный решимости и ожесточения, Роман принялся кричать:
– Вперед!.. Вперед! – И сам не слышал своего голоса.
Перебегая все время от взвода к взводу, он больше всех подвергал себя опасности, но не думал об этом. Он твердо решил, что, если не займет хребет, пустит себе пулю в лоб. Вернуться к дяде, не выполнив приказа, он не мог. Глядя на него, бойцы упорно продвигались к перевалу где ползком, где перебежками. Сидевшие впереди стрелки хорошо помогали: они охотились за каждым казаком и офицером, стоило тем только неосторожно высунуть голову. В свою очередь и семеновцы зорко выслеживали стрелков и в конце концов уничтожили большинство из них. Но за это время партизанские цепи успели приблизиться к позициям семеновцев и готовились к последнему решающему броску.
Было восемь часов утра, когда Роман оглянулся назад и увидел, что из Мунгаловского шли по дороге к хребту партизанские части и обозы. Он решил, что это подходят главные силы. Но это была только хитрость Василия Андреевича. Чтобы ввести в заблуждение противника, который несомненно, наблюдал за дорогой, он приказал часть партизанского обоза направить на север. И около двухсот подвод, груженных овсом и ржаной мукой, которыми он решил пожертвовать, двинулись к хребту, подымая густую пыль.
Введенный в заблуждение, Роман понял, что медлить больше нельзя, и поднял сотни в атаку. С криком «ура» устремились бойцы на перевал. Два семеновских пулемета, прежде чем были брошены своими расчетами, выпустили по целой ленте. Срезанный пулеметной очередью, упал Махоркин, не успев метнуть гранаты; упали Васька Добрынин, Григорий Первухин и много других бойцов. Но живые были уже на перевале и вдогонку били убегающих семеновцев.
– Вот и прорубили дорогу, товарищи! – крикнул бойцам Роман. – Жалко, что столько людей потеряли. Да каких людей-то! Ну, да оно недаром.
– А что-то частей наших, паря, не видно на дороге стало, – сказал ему в это время один из партизан.
– Подойдут. Никуда не денутся. Давайте подбирать раненых и убитых. Всех до одного отыщите. Подойдут наши – и раненых погрузим на подводы, а убитых похороним с воинской почестью.
Но время шло, а частей все не было. Обоз, который двигался к хребту, семеновцы обстреляли откуда-то с северо-востока, через сопки, из шестидюймовых орудий, и обозники в дикой панике рассыпались во все стороны, а сопровождавший их конный взвод умчался догонять полки, пошедшие на прорыв.
Роман поглядывал на часы и горячился, в запальчивости ругал про себя Василия Андреевича:
– Ворон ему ловить, а не воевать. Эх, дядя, дядя… Только речи и умеешь говорить.
И он решил отправить трех человек в Мунгаловский поторопить там Василия Андреевича. Те уехали, а через час прискакали обратно и доложили, что партизан в поселке уже нет. Они куда-то ушли из него, и в нем орудуют семеновцы.
– Жгут они там чьи-то дома. Наверняка и твой дом сожгли, – сказал Роману один из бойцов. – Мы от них едва ушли. Казачня за нами версты три гналась и стреляла. Выходит, брат, твой дядя обманул нас. Велел нам дорогу пробивать, а сам нацелился да по другому месту и ударил. Вон мы сколько народу положили, и все напрасно.
– Да, этого я не ожидал. Он ведь со мной разговаривал так, как будто бы только на наши сотни и надеялся. Нехорошо поступил, если все это так. Мог бы ведь сказать, что для отвода глаз семеновцам отправляет нас к хребту… Эх, друзья-товарищи, – глядя на убитых бойцов, с горечью сказал он, – зря, выходит, сложили вы головы.
– Эх ты, командир! – сказал ему на это раненный двумя пулями в живот Махоркин, которого вынесли к дороге и положили на чью-то шинель. – Мелко ты плаваешь, если думаешь, что твой дядька зря это сделал. Я больше твоего пострадал, я с жизнью расстаюсь, а винить Василия Андреевича и не подумаю. Он не нас с тобой обманул, он семеновских генералов вокруг пальца обвел. Вот как я это понимаю.
– Но почему же он не сказал, что атака наша ложная?
– Это ты у него спроси, когда встретитесь. Он тебе глаза на все раскроет, а я, брат, помираю. Веди сотни на Уров да отпиши потом моим детям, где и как погиб за Советскую власть родитель их Иван Анисимович Махоркин.
Скоро Махоркин тихо умер, натянув на глаза себе полу шинели. Роман опустился перед ним на колено, поцеловал его в лоб, потрясенный тем, как просто и гордо умер этот пожилой рабочий.
В это время началась контратака подошедших от поселка Грязновского свежих семеновских частей. И Роман побежал выполнять свои обязанности.


