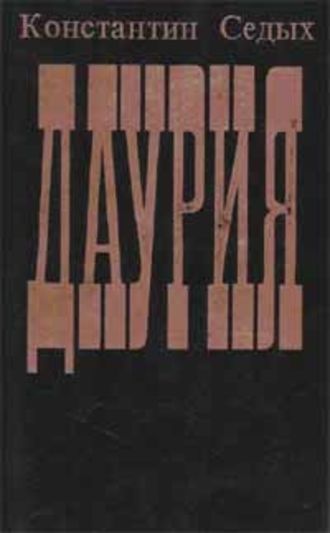
Константин Федорович Седых
Даурия
VI
Морозным и ясным вечером на побуревшем снегу у ворот этапа остановилась первая партия выпущенных на волю политических каторжан. Это были горнозерентуйцы. Ехали они все в вольной одежде, с красными флажками на каждой подводе. Когда разогревшийся на бегу Роман, тяжело отпыхиваясь, подходил к этапу, там уже было полно мунгаловцев. Казачки с Подгорной улицы, где жил народ победнее, наперебой угощали освобожденных яйцами, шаньгами и калачами. Молодежь тесно сгрудилась у подвод, но пожилые казаки подчеркнуто сторонились, настороженно приглядываясь к «политике». И только один Никула Лопатин успел уже радостно прослезиться и, не вытирая мокрых щек, вступил легко и непринужденно в разговор с каторжанами. На простоватом лице его было выражение неподдельного счастья. Ходил Никула между подводами довольный, как именинник.
Скоро на гнедом белоногом коне прискакал к этапу Елисей Каргин. Он был в крытом сукном полушубке, с револьвером и шашкой, со всеми регалиями. Четверо вооруженных понятых следовало за ним.
Тугим рывком остановил Каргин взволнованного коротким пробегом лоснящегося коня. У ворот лежала только что свороченная пестрая будка часовых. С явным неудовольствием поглядел на нее Каргин, потом привстал на стременах и, чуть картавя, отрывисто крикнул:
– Здравствуйте, господа!
Каргин не сомневался, что ему ответят. И, поглаживая левой рукой свои густые, холеные усы, он ждал ответа с холодным картинным достоинством. Так прошла секунда, другая, третья. И вдруг он увидел прямо перед собой очки в жестяной оправе, а за ними черные пасмурные глаза на пепельно-сером, без единой кровинки лице. В этих глазах с беспощадной ясностью моментально прочитал он, что на этот раз жестоко ошибся. До слуха его донесся из поселка собачий лай. «Гляди ты, как тихо», – успел он подумать перед тем, как горячая угарная волна ударила ему в голову. Не зная, что предпринять, растерянно, словно провинившийся школьник, поставленный на колени, глядел Каргин вокруг себя, ничего не видя. Чувство стыда и обиды мутило сознание; даже в груди покалывать стало.
А черноглазый человек подошел тем временем к нему вплотную. Оранжевые искры заката вспыхивали и угасали в стеклах его очков. Приблизившись, человек поднял очки на лоб и с напускным удивлением воскликнул:
– Ба! Да никак сам господин атаман пожаловал! – и, помедлив, зло прокричал: – Здравия желаем, господин Нагайкин! Чего приказать изволите?
«Издевается, сволочь, фокусы строит», – гневом обожгло Каргина. Пальцы его рук до хруста сжались на эфесе шашки, холодные мураши забегали по спине. Через силу сдержавшись, он хрипло ответил:
– Нечего мне приказывать. Я встречать приехал, а не приказывать. И нечего тут из меня дурака строить.
– Нечего, говоришь, дурака строить?.. А шашки зачем, ружья зачем? – спросил человек и рвущимся голосом продолжал: – Чтобы встреча более теплой была, так, что ли? Ах ты г-г-гусь!.. – заикнулся он напоследок от бешенства и замолчал.
Каргин заметно побледнел. Потуже подбирая поводья, пристально глядя на очкастого, соображал: «С чего это он так разозлился? Вот беда-то! И дернул же меня черт ехать сюда. Как теперь и выбраться отсюда, ума не приложу». Наконец притворно сладким голосом, странно не вязавшимся со злым выражением его лица, сказал:
– Извините, пожалуйста. По дурности это нашей случилось. Недодумали. Мы сейчас уедем, ежели мешаем.
– Да, это будет самое лучшее, что вы можете сделать, – совершенно спокойно сказал очкастый. С явным издевательством низко поклонился он Каргину, повернулся и пошел прочь.
Состроив лицо добродушного простака, искренне удрученного происшедшим, Каргин тронул коня, скомандовал понятым:
– Айда, ребята, по домам! Нечего нам здесь делать. Свобода! – и про себя добавил: «мать ее в душу».
А возле этапа на щербатый, заросший лишайниками валун, торчавший на рыжей проталине, поднялся немолодой, изможденный человек. Он поздравил мунгаловцев со свободой и горячо заговорил о том, какой чудесной и радостной будет теперь жизнь. Но речи своей он не закончил. Внезапно он тяжело закашлялся. Мокрый, изнурительный кашель глухо и долго клокотал в его горле. Впалая грудь ходила ходуном, на седых висках проступили липкие капли пота.
Многим сделалось не по себе от хриплых и надрывных звуков, сотрясавших человека. Роман глядел на его седые реденькие волосы, на бледное с запавшими глазами лицо и думал: «Ничего мы не знали, не ведали, а рядом вон как люди мучились». Невольно мысли его перенеслись к дяде Василию, который отбывал свою ссылку в каком-то Вилюйске.
На смену первому взошел на валун, стирая подошвами петушиные гребни лишайников, другой оратор, широкоскулый и русый. На нем каторга не оставила таких заметных следов, как на первом. Кривые, толстые ноги его прочно стояли на камне. Так стоят только на зыбких палубах кораблей загорелые обветренные матросы. В правой руке он тискал шапку-ушанку, левая, зажатая в кулак, металась над головой. И по этому кулаку, иссеченному синевой ветвистых, напрягшихся жил, в нем угадывался рабочий человек. Он стал рассказывать казакам о том, что произошло в России, каких перемен теперь надо ждать.
– Вот это человек! – искренне восхитился вслух Никула. – За семью замками сидел, а знает в сто раз больше нашего. Хвати, так и ваш Василий таким же стал, – обратился он к Роману и хотел добавить еще что-то, но на него зашикали, пихнули его под бок, и он замолчал.
Для многих казаков, слушавших речи горнозерентуицев, суть происходящих в России событий была темна. Они тревожно недоумевали. И когда расходились от этапа по домам, все тот же Никула, имея в виду второго из ораторов, восторженно сказал:
– Говорит, как бритвой режет. И остер же, видать. Рано, говорит, праздновать. Еще, говорит, соленого до слез хватим, пока жить хорошо станем. И нашему Елисею Петровичу от него попало. Ведь он атамана, стервец, вроде как бы цепником обозвал.
– Про цепных кобелей ничего не говорили. Это ты, паря, должно быть, во сне видел, – возразил Никуле Иннокентий Кустов.
– Мало ли что не говорили! А по смыслу из Елисея самый настоящий цепник получается.
– Лучше цепником быть, чем пустолайкой, вроде тебя, – рассердился Иннокентий.
– Пустолайка, она ничего, а вот беззубые брехуны – это уж настоящее дерьмо, – вступился за Никулу Семен Забережный, намекая Иннокентию на недавно выбитые у него в драке во время гулянки зубы.
Никула, ободренный заступничеством Семена, заговорил снова, высказывая самое сокровенное.
– Одно мне непонятно, – вернулся он опять к речам ораторов, – оба каторжника, оба за политику сидели, а говорят по-разному. Один все насчет красного солнышка свободы распинался, от радости на головах ходить призывал, а другой все ему наперекор говорил. Вот и пойми их! А что они на волю идут – от этого и мне радостно.
– Плакать тут надо, а не радоваться, – напустился на Никулу до этого молчавший Сергей Чепалов. – По глупости своей радуешься. Да оно и не удивительно, ты ведь в поселке самый большой брехун. Радешенек!.. Тут житья скоро никому не будет, а у него радость. Свобода, она, может, и ничего, да зачем же каторгу распускать.
– Н-да… При такой жизни до ветру скоро без ружья не выйдешь. На каторге какого народу не было – на ходу подметки резали, – вмешался Иннокентий.
– А ты, видать, здорово струхнул? – спросил Иннокентия Семен.
– С какой колокольни ты это увидел?
– Да что-то ты все об укромных местах речь ведешь. Не медвежья ли хворость у тебя начинается?
– Ишь, зубоскал какой выискался! Тут зубы скалить не над чем.
– А почем ты знаешь? На свой аршин всех не меряй. Может, оно теперь только и начнется, настоящая жизнь. Кровососов и горлопанов заставят, может статься, хвосты поджать.
– Верно, – поддержал Семена Никула. – Кому тошно, а кому и радостно.
– Ты, Никула, чем радоваться, лучше долг бы мне отдал. Целый год двух рублей отдать не можешь. Хозяин! – бросил обидные слова Чепалов. Он терпеть не мог, когда шли ему наперекор. Чтобы хоть как-нибудь доконать таких людей, настоять на своем, пускал он в ход все, чем можно было любого строптивца оглушить, как обухом. Сделал это он и с Никулой, который вдоволь сегодня намозолил ему глаза. Брезгливо дотронувшись рукавицами из лосины до засаленной, залепленной причудливыми заплатами Никулиной шубенки, он самодовольно расхохотался. Его дружно поддержали своим смехом богачи.
Обидевшийся за Никулу Роман не вытерпел, запальчиво крикнул:
– Какую он вам межу переехал, чтобы ржать над ним? Пора, кажись, отвыкать от старых повадок, много о себе не думать. Видели небось, что на свете деется? Теперь вам очень просто могут рот заткнуть, – сказал он и свернул с дороги к своему дому. Довольный его заступничеством, Никула поспешил за ним.
Оставшись одни, богачи растерянно умолкли. Никогда они прежде не думали, что Ромка Улыбин посмеет им сказать такое в глаза. Первым пришел в себя Платон Волокитин.
– Ну, слышали, как нынче разговаривают с нами? – спросил он с придыханием. – Морду бы ему расквасить за такие разговоры, сопляку паршивому.
– Да, вырастил Северьян сынка, нечего сказать. Жалко, что убивали его да не убили. Теперь от таких житья не будет доброму человеку, – сказал Иннокентий, – гляди, так почище дяди племянничек окажется.
– Чище или нет, это мы скоро узнаем, на своей шее проверим. Василий-то не сдох. Гляди, так вот‑вот домой прикатит и начнет голытьбой верховодить.
– Жизнь-то жестянка получается, – вмешался в разговор Сергей Ильич, – теперь хочешь не хочешь, а в затылке почесать придется. Все, кому мы – кость в горле, по-Ромкиному заговорят. Надо бы нам сейчас собраться да потолковать.
Все поддержали Чепалова. Толпа остановилась на буром плацу возле церкви, и Чепалов с Платоном пошли к Каргину требовать, чтобы послал он нарочных в станичный арсенал за ружьями.
* * *
Каргин лежал в горнице на широком, обитом коричневой кожей диване. От тревожных дум некуда было убежать и скрыться. Не прогнал этих дум выпитый единым духом стакан китайского спирта. Да, собственно говоря, и нечего было отмахиваться от всего, что лезло в голову. Нужно было думать.
Беда, свалившаяся на Россию, казалась Каргину непоправимой. «Царь – небольшая потеря, – рассуждал он, положив на горячий лоб левую руку. – Если на этом только кончится – хорошо будет». Каргин был человек грамотный. Он знал больше и видел дальше, чем любой из мунгаловцев. Поэтому он был убежден, что свержение царя всего лишь цветочки, а ягодки еще впереди будут. Окончательно поверить в это его заставили идущие на волю каторжане. «Рассуждаю хорошо, а делаю глупость за глупостью. Ну, за каким мне чертом нужно было ехать к этапу? Так нет же, понесла нелегкая. Вот и влип… А все из-за чего? Из-за гордости, из-за желания показать себя. Нет, теперь я эту свою гордость на цепь посажу, десять раз отмеряю, а потом уж и отрежу. Времена-то вон какие подходят».
И тут пришел ему на память давно позабытый случай с Нагорным, с тем самым «кузнецом», который его усердием пошел на бессрочную каторгу. От этого сразу стало Каргину не по себе. Ему вдруг показалось, что он задыхается. Он рванул воротник гимнастерки так, что отлетели крючки. Делал он это с судорожной поспешностью, казалось, не воротник расстегивает, а сбрасывает с шеи готовую вот-вот затянуться собачью удавку.
Он вспомнил, как бил Нагорного по лицу. Вспомнил, как уводили его из зала суда. Тогда, проходя мимо Каргина, Нагорный процедил сквозь зубы:
– До свиданья, господин атаман… Я ничего не забыл. Может, когда-нибудь и отблагодарить придется…
«Черт его в Мунгаловский принес тогда, – подумал Каргин, – готовил бы побег из другого места, и не скрестились бы наши стежки-дорожки. А теперь жди от него всякой пакости». И неожиданно для самого себя громко сказал:
– Прямо хоть уезжай куда-нибудь! – но тут же вознегодовал на себя за эти слова. «Струсил, разнюнился раньше времени. Нагорный, может, давно уже подох, как собака. Не ягодами ведь его в тюрьме кормили», – ухватился он за счастливую мысль и успокоился. Но когда за дверью горницы, в коридоре, раздались шаги, он невольно рванулся к револьверу и шашке. Дверь приоткрылась.
– Кто это? – спросил, не узнавая входившего, Каргин.
– Да ты что, своих не узнаешь?
Услышав голос Сергея Ильича, Каргин вздохнул с облегчением и весело крикнул:
– Входи, не бойся! Я ведь тебя и впрямь не узнал.
Войдя в горницу, Сергей Ильич с ненавистной для Каргина ухмылкой спросил:
– Ты что это за револьвер схватился?
– Не чистил давно, – пряча глаза, ответил Каргин.
Сергей Ильич помолчал, переступил с ноги на ногу, потом сказал:
– Надо сходку собрать. Спать нынче не приходится.
– Сходку так сходку. Только ни к чему это.
– Как ни к чему? А ежели вслед за «политикой» уголовные идут? Да ведь они нас живо в рай отправят. Притом и «политике» доверять нечего. Кто их знает, что у них на уме.
Каргин расхохотался:
– Вот сказанул! Этим, брат, твоих штанов и золота не надо. На каторгу они не за это шли.
– А ты, Елисей, не посмеивайся, – сказал Сергей Ильич. – Общество постановило сходку собрать. Тебя народ дожидается. Одевайся давай, и пойдем.
Каргин поднялся с дивана и нехотя стал одеваться.
VII
Скоро в Мунгаловском остановилась на ночлег новая группа возвращавшихся с каторги политических. Группа была небольшая, и ночевать она заехала на земскую квартиру, которую содержал Платон Волокитин. Неожиданным своим гостям Платон не обрадовался. Он приказал жене готовить для них ужин, а сам пошел к Каргину посоветоваться, как вести себя с такими людьми.
Возвращаясь, повстречал он в воротах своей ограды одного из политических. Это был немного сутулый, широкий в плечах человек, одетый в поношенный, лоснящийся полушубок. Политический куда-то торопился, а Платон как можно гостеприимнее сказал:
– Куда вы? Ужинать сейчас будем.
– Спасибо, я не хочу, – отозвался тот. – Надо мне тут побывать в одном месте.
Вся улыбинская семья была дома. Северьян починял хомуты. Андрей Григорьевич лежал на кровати, изредка перебрасываясь с ним короткими замечаниями насчет хозяйства, погоды и многого другого. Авдотья хлопотала в кухне. А Роман в ожидании ужина помогал Ганьке, уже второй год учившемуся в школе, решать заданные на дом задачи. Первый он и увидел входившего к ним в ограду незнакомого человека и поспешил предупредить отца с дедом:
– Кто-то чужой к нам идет.
Андрей Григорьевич сразу сел на кровати, а Северьян начал прибирать раскиданные на полу шлеи и головки хомутов, запихивать их под кровать.
Человек вошел, приветливо поздоровался и, обращаясь к Андрею Григорьевичу с доброй, подкупающей улыбкой, спросил:
– Вы будете отцом Василия Андреевича?
Андрей Григорьевич не спеша отозвался:
– Он самый.
– Тогда разрешите представиться, папаша. Фамилия моя Рогов. Зовут Григорием Александровичем. А в Кутомарской тюрьме, где я с вашим сыном познакомился, меня все дядей Гришей звали.
Едва незнакомец произнес эти слова, как вся семья Улыбиных, с недоумением взиравшая на него, мгновенно преобразилась. У всех засветилось на лицах любопытство, смешанное с доброжелательностью. Все оживленно засуетились.
А дядя Гриша мял в своих руках немудрящую рыжую шапку и говорил Андрею Григорьевичу:
– Вот зашел… Захотелось, значит, побывать у родителей своего старого знакомца и товарища. Уж вы извините, папаша, если не вовремя я…
– Что вы, что вы! – перебил его Андрей Григорьевич. – Большое вам спасибо, что зайти не погнушались.
Тут он, забыв про свою нестерпимо нывшую с самого утра поясницу, молодцевато поднялся с кровати, крепко пожал дяде Грише руку, помог раздеться и пригласил проходить. Дядя Гриша одернул свой старенький с короткими рукавами пиджак и, потирая рука об руку, шагнул вперед. Шагнул и заметил, что его неуклюжие, стоптанные катанки оставляют на полу грязные следы. В глубоком смущении повернул он назад к порогу и начал извиняться перед хозяйкой. Авдотье даже неловко от его извинений стало. Не привыкла к этому. И поспешила она успокоить гостя:
– Ничего, ничего… Не велика беда. Проходите, не стесняйтесь.
Но он решился пройти в передний угол лишь после того, как хорошенько вытер подошвы катанок о березовый веник-голик. Выйдя на середину кухни, он как-то по-особенному, доходчиво сказал:
– Ну, будем знакомы, дорогие хозяева, – и начал со всеми здороваться за руку. Дойдя до Ганьки, он спросил его: – Как, трудные задачки-то?
– Нет, – смутился Ганька и поспешил удрать.
Андрей Григорьевич скомандовал Авдотье готовить ужин, подмигнул Северьяну, выразительно щелкнув себя пальцем по шее, и уселся рядом с дядей Гришей. Разглядывая друг друга, они с минуту молчали, потом Андрей Григорьевич вздохнул и сказал:
– А Василия нашего все нет. Думали мы, отстрадает на каторге и домой придет, а его, сердечного, в ссылку угнали.
– Да, царь умел с нашим братом расправляться, – грустно улыбнулся дядя Гриша и, помедлив, спросил: – Где Василий Андреевич находится?
– В Якутской области. От города Якутска до него еще полтысячи верст. Раньше время от времени писал нам, а теперь давно от него весточки не имеем. – Андрей Григорьевич прослезился. – Уж оно и не знаем, живой ли?
– Вы сильно не убивайтесь. Теперь Василий Андреевич вернется. Гляди, так уже в дороге находится.
– Дай-то Бог… – Андрей Григорьевич вытащил из кармана кисет. – Не курите?
– От нечего делать баловался в тюрьме.
– Тогда закурите нашего самосаду.
Разговор на первых порах клеился плохо. Хозяин приглядывался к гостю, гость к хозяину. Завязать разговор по душам хотелось тому и другому. Особенно Андрей Григорьевич желал о многом поспрашивать своего необычного гостя. Но не знал, как подступиться к нему. Предлагая дяде Грише закурить, он обдумывал, с какого боку лучше подъехать к нему. Но молчание затянулось. И чтобы не показаться негостеприимным хозяином, Андрей Григорьевич разгладил бороду, крякнул и спросил о первом, что пришло в голову:
– Домой, значит, едете?
– Да, едем…
– Дай Бог скорее доехать. Дома-то, хвати, все глаза проглядели ожидаючи.
Дядя Гриша грустно улыбнулся:
– Не без этого. Двенадцать лет из тюрьмы в тюрьму я кочевал.
Андрей Григорьевич сочувственно покачал головой, повздыхал. Ему очень хотелось спросить, как пойдет теперь жизнь без царя и ладно ли сделали, что убрали его. Но он боялся своим вопросом оскорбить гостя, с которого сбили кандалы только потому, что не стало царя. Не зная, как быть, он продолжал расспрашивать дядю Гришу, откуда тот родом, есть ли у него семья. Ему и невдомек было, что дяде Грише тоже не терпелось узнать от него, как отнеслись к свержению царя казаки, какие идут среди них разговоры.
Авдотья тем временем собрала на стол. Уходивший куда-то Северьян вернулся с банчком спирта за пазухой. При виде банчка Андрей Григорьевич заметно повеселел и пригласил дядю Гришу подвигаться к столу. Упрашивать себя гость не заставил и этим еще более расположил к себе Андрея Григорьевича. Также охотно чокнулся он с хозяевами и выпил до дна бокальчик разведенного спирта. Но от второго наотрез отказался.
– Сколько мог – выпил. Больше душа не принимает, – пояснил он, разводя руками и улыбаясь. Зато из выставленных на стол закусок не пропустил ни одной. Особенно ему понравился пирог из сома с румяной коркой и с луком. Похвалив пирог, дядя Гриша больше всего угодил хозяйке. И польщенная Авдотья постаралась угостить его на славу. Вдобавок ко всему она сварила большую эмалированную миску пельменей.
Когда дымящиеся пельмени появились на столе, дядя Гриша все с той же простодушной улыбкой воскликнул:
– Пельмени! Забайкальские пельмени… Вот уж тут и не хочешь, да съешь… – и в веселом возбуждении стал потирать руки.
За пельменями Андрей Григорьевич и Северьян пропустили по второму бокальчику, а потом и по третьему. Выпивали они, как поспешил объяснить Андрей Григорьевич, потому, что нельзя не выпить ради такого гостя.
Ужин завершился питьем чая. Чай пить Улыбины любили. После какой угодно еды не обходилось у них без чая. Гость оказался также большим любителем почаевничать. И за чаем завязалась у них наконец беседа по душам. Не принимавший участия в выпивке и разговорах Роман не пропустил из той беседы ни слова.
– А ладно, Григорий Александрович, получилось, что царя убрали? Только ты мой вопрос за обиду не почитай. Интересно мне, как умные люди обо всем этом думают, – спросил Андрей Григорьевич и выжидающе замолчал.
Дядя Гриша улыбнулся на стариковскую оговорку и в свою очередь спросил:
– А как ты сам думаешь?
– И так и этак, – развел Андрей Григорьевич руками. – Двоятся у меня мысли, шибко двоятся. И царя жалко, ежели раздумаюсь. А примеряю с другого бока – оно как будто бы и толково вышло… Ты бы вот небось при царе до смерти на каторге мучился, теперь же свободу получил, домой едешь. То же самое, глядишь, и с Василием происходит. Может, не нынче, так завтра заявится. И это мне по душе. Ведь вы с ним, к примеру сказать, не разбойники, не мазурики…
– Да за что же ты все-таки царя жалеешь?
– Как же мне его не пожалеть, – удивился Андрей Григорьевич, – ведь не простой он человек, а помазанник Божий, самодержец…
В это время вошел с надворья Семен Забережный. Он часто заходил к Улыбиным на огонек. Увидев у них гостя, он в замешательстве остановился у порога. Андрей Григорьевич пригласил его:
– Проходи, проходи… Гость-то у нас, паря, какой! Дорогой гость! Вместе с Василием каторгу отбывал.
Когда Семен поздоровался с дядей Гришей, снова заговорил Андрей Григорьевич. Он кивнул головой в сторону дяди Гриши и сказал:
– Вот зашел, паря, не побрезговал.
– Ну, зачем такие слова, – пожал плечами дядя Гриша.
– Нет, спасибо тебе, Григорий Александрович, спасибо. Уважил, крепко нас уважил… Возьми ты меня. Кто я таков есть? Казак. Слуга царя. Я ему семь лет служил и два сына моих служили. Терентий вон и голову на этой службе потерял, а Северьян до смерти японскую отметку будет носить… А теперь тебя возьмем. Не был ты царю слугой? Не был. Жил ты с ним, не в обиду будь сказано, как кошка с собакой. Значит, врозь у нас были пути-дороги. И глядеть мне теперь на тебя малость неловко, хоть и лежит к тебе мое сердце. Ведь оно так случилось, что я за свою жизнь по нынешним временам краснеть должен. Не правда ли?
– Конечно, нет, – ответил ему дядя Гриша. – Краснеть вам нечего. Вы отец человека, который боролся с самодержавием. Василием Андреевичем вы с полным правом можете гордиться.
– Так-то оно так, да ведь Василий-то среди нас белой вороной был. И если он против царя пошел, то моей заслуги тут нет.
– Это как сказать, – рассмеялся дядя Гриша. – От худого семени не бывает хорошего племени.
Слова гостя тронули Андрея Григорьевича. Впервые услыхал он, что не открещиваться следует от Василия, гордиться им. Узнать об этом ему было приятно хотя бы потому, что он ни разу не осудил Василия. Он пережил из-за него немало черных дней, но никогда не усомнился в его порядочности. И слова дяди Гриши принял старик как награду за все неприятности и огорчения, причиной которых был Василий…
Помолчав, дядя Гриша спросил Андрея Григорьевича:
– Скажите по совести, хорошо вам жилось при царе?
– Так бы оно все ничего, да воевать больно часто гонял он нашего брата. От этого у нас и сирот и разору предостаточно. Уж тут, как говорится, из песни слова не выкинешь. Я хоть и награжден от царя-батюшки первым в нашем войске Георгиевским крестом, а ничего не имел бы против, если бы воевали мы поменьше.
– Ну, это навряд ли! Война будет продолжаться.
– Да отчего же?
– Генералы остались. От этого.
– А им разве нельзя по шапке дать? – вмешался Семен.
– Можно и следует, но пока не дали.
Семен загорячился:
– Какого же черта их оставили! Надо было и им под один замах с царем куда следует дать.
– Конечно, семь бед – один ответ, – согласился Андрей Григорьевич. – И чего это не додумали?
Дядя Гриша посмеивался, не вмешиваясь в разговор. Но Андрей Григорьевич обратился к нему с вопросом:
– Значит, замирения не ждать?
– Пока нет. Вот когда народ капиталистов и помещиков посторониться попросит, тогда жди.
– А догадается ли это народ сделать?
– Сделает, не вдруг, а сделает. Рабочие на это давно готовы. Поддержи их крестьянство и трудовое казачество, и капиталистам не удержаться, как ветром их сдует. Без драки, конечно, не обойдется. Только вот вы, казаки, не дайте себя одурачить, как в девятьсот пятом году. Не на рабочих нагайки плетите и шашки острите, а вместе с рабочими, вместе со всем народом вставайте против генералов, против тех, кто генералов натравливает. Большевикам верьте, Ленину.
– Ленину? А кто он такой, Ленин-то?
Словно вспомнив самое приятное и значительное в своей жизни, дядя Гриша улыбнулся мягкой и доброй улыбкой.
– Это, Андрей Григорьевич, – самая светлая личность в России. Нет ему равных ни по уму, ни по знаниям. Всю свою жизнь он борется за правду, за хорошую жизнь для всех, у кого на руках мозоли.
Внимательно слушавший его Семен взглянул на свои широкие, в неистребимых мозолях ладони и, ничего не сказав, придвинулся поближе к нему вместе со стулом.
– Гляди-ка, куда замахнулся! – воскликнул Андрей Григорьевич. – И как же это мы про такого человека ничего не слыхали?
– Ничего удивительного в этом нет. Таким людям при царе ходу не было. Чаще всего в своей жизни они за решеткой сидели или кандалами по этапу названивали. Владимир Ильич тоже хлебнул горького вволю – побывал и в тюрьме и в ссылке. Ваша Сибирь-матушка давно знакома ему. Он бы и теперь сидел в какой-нибудь захолустной сибирской стороне, если бы не обманул полицейских ищеек и не выбрался за границу. Оттуда он руководил борьбой и работой нашей большевистской партии, которую он и создал из самых смелых и честных людей. Даже на Нерчинской каторге доходил до нас его голос. А теперь, когда самодержавие свергнуто, Ленин не усидит за границей ни одного дня. Можно смело сказать, что скоро он вернется, и трудящиеся всей России будут почитать его за большие его дела.
– Эх, хоть бы раз поговорить с таким человеком и узнать, как нам с кривдой разделаться, нужде и горю по загривку дать, – сказал с загоревшимися глазами Семен.
– Многое, дружище, можно узнать из ленинских книг. Написал он их немало. И в каждой книге его – великая правда о прошлом, настоящем и будущем.
– Где их, книги эти, в нашей стороне возьмешь, да и грамота у нас, стыдно сказать, – огорченно вздохнул Семен.
– Ничего, и книги до вас дойдут, и подучитесь вы.
– Для ученья возраст не тот, да и житуха не позволяет.
– Учиться никогда не поздно. Вы вот на свою житуху жалуетесь, а я разве лучше вас жил? Я, брат, двенадцать самых лучших моих лет на каторге провел. Тяжко приходилось, а я учился. Рядом с вонючей парашей сидел и букварь зубрил. Зато теперь не хвастаясь скажу, многих насчет грамоты могу за пояс заткнуть.
– У вас, видно, голова другая, покрепче нашей.
– Дело не в голове, а в охоте, – усмехнулся дядя Гриша. – Если захотите, можете и вы грамотным сделаться. Я вам очень советую. Хоть вы и жалуетесь на свою голову, а вижу я, что голова у вас светлая, – и, положив свою руку на плечо Семену, он уже без улыбки, строго сказал: – Учитесь, пригодится ваша грамота при хорошей жизни.
Разговор затянулся далеко за полночь. О многом спрашивали Улыбины и Семен дядю Гришу, многое порассказал он им. От него узнали они о вековечной народной борьбе с царями и боярами, с помещиками и капиталистами. Особенно удивил он хозяев, развернув перед ними историю их собственного сословия. Никак не думали они, что повелось казачество от уходивших на поиски счастья и вольной жизни крепостных мужиков, что были казаки первыми, кто подымался много раз в далекую старину за волю народную с острой саблей да меткой пищалью в руках.
Больше всех был взволнован и увлечен рассказами дяди Гриши Роман. Еще в двухклассном училище узнал он, что были на русской земле Разин и Пугачев. Но его учили там считать их ворами и душегубами. А они, оказывается, совсем другие. Подымали они народ в бой за лучшую долю. Дядя Гриша отзывался о них с уважением. И Роману было приятно это слушать и сознавать, что он сам казак. Юношеской горячей радостью за Разина и Пугачева переполнилось его сердце. Особенно взволновали его слова дяди Гриши потому, что мунгаловцы были прямыми потомками сподвижников Пугачева, по двадцать лет отстрадавших на каторге. Про это слыхал Роман от отца и деда. И ему захотелось, чтобы дядя Гриша узнал об этом.
Долго не решался он заговорить. Но под конец не вытерпел и сказал из своего угла:
– А ведь наш-то поселок от пугачевцев повелся.
Дяде Грише эта новость была в диковинку. И Роман остался доволен, когда увидел, в какое неподдельное возбуждение привели дядю Гришу его слова.
– Да что ты говоришь! – воскликнул дядя Гриша. – Вот не думал, что с потомками пугачевцев повстречаюсь. А это точно известно?
Андрей Григорьевич захохотал:
– Точнее некуда… Правду внук говорит. Вот у Семена прадед двадцать лет на Кличкинском руднике отбухал. По рассказам, крепкий старик был. Девяносто лет с лишним прожил. Когда я в Мунгаловский переехал, так его тут еще многие старики помнили… Да и моего тестя-покойника прадед с Яику был. Рваной Ноздрей его звали. Был он, говорят, заклеймен, чтобы убежать не мог.
Ночевать дядя Гриша остался у Улыбиных. Постелили в горнице на полу. Андрей Григорьевич хотел уступить ему свою кровать, но он наотрез отказался. Когда Роман стал тушить лампу в горнице, дядя Гриша приподнялся на своей постели и спросил его:
– Помнишь, значит, от кого ваш род ведется?
Роман улыбнулся:
– Помню.
Утром Андрей Григорьевич пошел проводить дядю Гришу до земской квартиры. Только пришли они туда, как подали лошадей. Политические стали усаживаться в телеге. Дядя Гриша крепко пожал Андрею Григорьевичу руку и снова горячо поблагодарил за радушный прием.
– Всегда заезжай, ежели в наших краях бывать придется. Меня в живых не будет, так у сынов дорогим гостем будешь.
– Спасибо, Андрей Григорьевич, спасибо, – сказал дядя Гриша, залезая в телегу. Ямщик ударил по коням, телега загромыхала по дорожным камням. Андрей Григорьевич снял с головы папаху и, махая ею над головой, крикнул:
– Счастливо доехать!
Дядя Гриша, обернувшись, тоже махал ему шапкой. К Андрею Григорьевичу подошел Сергей Ильич, криво усмехаясь, спросил:
– Это что за родственничек у тебя завелся?
– Пошел ты к черту! Молод еще, чтобы учить меня! – огрызнулся Андрей Григорьевич. – Я знаю, что делаю.
– Сам себя позоришь, вот что, – продолжал приставать Сергей Ильич.
Тогда Андрей Григорьевич замахнулся на него костылем:
– Уйди, шкуродер, с глаз моих!
Из толпы, сбежавшейся проводить политических, кто-то крикнул:


