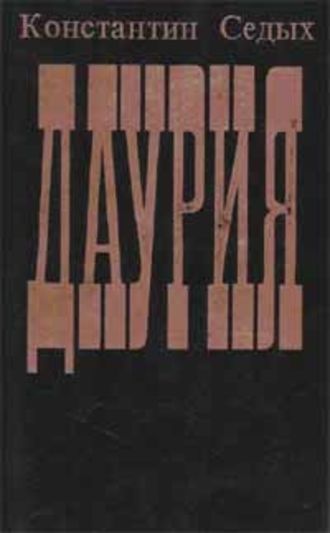
Константин Федорович Седых
Даурия
XVIII
Очнувшись, Роман услыхал тягучий жалобный стон. Стонал кто-то совсем неподалеку. Роман попробовал повернуться, чтобы разглядеть стонавшего, но не смог. С ним произошло что-то непонятное, значительное. Было такое ощущение, словно туго-натуго спутали его по рукам и ногам пеленками, отняли силу. Мучительно хотелось пить. Такой нестерпимо палящей жажды он еще не испытывал. Голова почему-то стала непомерно большой. Мысли были вялыми, скоро ускользающими. В висках постукивало, будто голову, как дупло, долбили два крошечных дятла.
Собрав все силы, поднес он к глазам, точно чужую, правую руку. Пальцы были в крови, а два листа – желтый, похожий на новенькую копейку, и зеленый, похожий на крестик, прилипли к ним. «Откуда же эта кровь?» – попытался он сообразить, с тревогой прислушиваясь к стону, о котором на одну минуту совсем забыл. И тут внезапно пришла все осветившая догадка. «Да это меня убили, меня. Помираю я», – решил он и в ужасе рванулся, взмахнув здоровой рукой. Мгновенным видением мелькнули тогда перед ним золотистые от солнца лиственницы, синее небо в просветах ветвей и белый клочок тумана, зацепившийся за фиолетовый пик хребта. И снова, кружась и ломаясь, надолго погасло все, с чем он так не хотел расстаться.
Он не слыхал, как подскакали к нему возбужденные казаки, как всех опередивший Семен, сорвавшись с седла, припал ухом к его заплывшей кровью рубашке, прислушался и обрадованно уведомил остальных:
– Живой он…
Семен, обрывая в спешке пуговицы, сбросил с себя гимнастерку, а следом за ней исподнюю бязевую рубаху. Рубаха была порядком заношена, но ничего другого не было под рукой. Он начал рвать ее на повязки. Тем временем проворный Данилка сбегал в колок, принес в фуражке ключевой воды. Романа бережно приподняли, разрезали до самого воротника напитанный кровью рукав его ситцевой рубашки и обмыли рану. Потом Семен наложил на нее как умел тугую повязку. Роман опять пришел в себя, попросил воды. Пил он долго и жадно, по-детски всхлипывая. Напившись, открыл неузнаваемо запавшие глаза, спросил склонившегося над ним Семена:
– Кто это меня?
– Не знаю, паря, не знаю… Потом дознаемся. Из-под земли выроем, а найдем. Ты не поддавайся, держись.
– С утеса… Оттуда стреляли, – успел сказать Роман и снова откинулся навзничь, вцепившись рукой в ветку багульника.
Подоспевший Северьян, узнав, что сын жив, начал часто-часто мигать, усы его потешно задергались, в жалкой улыбке кривились губы. Он виновато оглянулся по сторонам и стал тереть кулаком глаза…
На зимовьях о работе никто и не думал. Всех потрясло загадочное нападение на охотников. Толпясь у зимовья, в котором жили Улыбины, люди на сотню ладов обсуждали случившееся. Одни в этом видели какую-то месть. Другие доказывали, что попали охотники на беглых каторжников. Больше всех говорил Никула. Он успел убедить себя, что напало на них, по крайней мере, пять человек. Выстрелы, посланные им неизвестно в кого, и паническое бегство по чащам и топям считал он теперь за подвиг. И чем больше он рассказывал, тем сильнее верил, что он ничего не выдумывает, а только припоминает.
– Одного-то из них я уж наверняка ухлопал, – слышался его голос в одном месте. – Вплоть они, гады полосатые, от меня были. А я ведь и не на таком расстоянии редко мимо стреляю. Рука у меня твердая и глаз соответственный. Ежели хочешь знать, так нагнал я им холоду…
– За командира у них здоровенный дядя был. Рыжий, собака, и бородатый, – через минуту говорил Никула в другом месте. – Я ему отметину на лоб посадил. Все мозги разнесло. Пусть знают, как с казаками связываться.
Наконец его болтовня всем надоела. Иннокентий Кустов не утерпел, прикрикнул на него:
– Да помолчи ты, холера!.. Ромку, может, только ранили, а ты его бросил. Ведь его в таком разе добить могли. Вот что ты наделал, а еще хвастаешься.
– Кого там, паря, добивать-то было. Его, милягу, сразу наповал срезали, – ответил ему убежденно Никула. Но упрек Иннокентия даром не пропал. Никула понял вдруг, что слишком уж он разошелся, и предпочел за лучшее присмиреть.
Едва появились на закрайке леса казаки, как все бросились им навстречу, принялись наперебой расспрашивать, что и как. Но побывавшие на месте ранения Романа рассказать им могли немногое. Они установили, что подкараулил охотников один человек. Стрелял он из-за выступа утеса. Нашли там три махорочных окурка и пустой коробок от спичек. Подальше в густом осиннике видели место, где был привязан конь, подкованный только на передние ноги.
У зимовья Романа сняли с седла, положили на солнце на разостланный войлок. Люди разглядывали его осунувшееся лицо, слушали прерывистое дыхание и негодовали, что погублен такой казачина невесть за что. Большинство считало Романа уже не жильцом на белом свете.
Северьян и Семен запрягли коней, чтобы довезти Романа живым до Мунгаловского, где мог оказать ему помощь фельдшер из лагеря кадровцев. В облук телеги набили соломы. Поверх ее разостлали две шубы, в задке устроили из подушек высокое изголовье. И это печальное ложе, на котором вытянулся во всю телегу Роман, напомнило многим недавние годы китайской и японской войны, где вдоволь было пролито казачьей кровушки.
Повез Романа отец. Сгорбившись, кое-как пристроился он в передке и с места в карьер погнал коней по серой мягкой дороге, по которой так часто приходилось ему ездить с Романом, глядеть на него и радоваться тайком, что сумел вырастить такого сына. Не гадал он, не чаял, что скоро придется везти ему сына, распростертого замертво в тряской телеге. Думать об этом было тяжело и до того обидно, что к горлу подступал спиравший дыхание ком, а на глаза навертывались слезы. Он оглянулся, поглядел на Романа, поправил накинутый на него брезентовый дождевик и расплакался.
После отъезда Северьяна остались на зимовьях Никула, потрошивший косулю, Семен, Герасим и Данилка. Отозвав Данилку в сторону, Семен сказал ему:
– Есть у меня, паря, подозрение на Алешку Чепалова. У них с Ромкой давнишние счеты. На чепаловскую заимку ты со мной не съездишь? Может, по горячим следам и допытаемся.
– Чего же не съездить, поедем… Только пусть Никулу черти унесут.
Выждав, когда Никула ушел на пашню, они собрались и поехали. Чепаловская заимка была в соседней пади за крутым и высоким хребтом, по гребню которого рос березняк, похожий издали на выстроенное в походную колонну войско. Отправились они не по дороге, а прямо через хребет, чтобы их никто не видел.
С хребта чепаловская заимка, окруженная пашнями и березовыми перелесками, открылась, как на ладони. Над заимкой курился голубой дымок. Стволы берез белели на солнце, как чудом уцелевший снег. В пади за колочным чернолесьем блестело круглое озерко, желтая лента тракта вилась по косогору. А дальше, по горизонту, величаво и празднично, как всегда, тонули в горячем мареве хребты за хребтами. И не было ни конца, ни предела синим твердыням суровой родимой земли.
В широком чашеобразном логу пахали на быках чепаловские работники. Черновину свежей пахоты ярко оттеняла зелень осинника, росшего по межам, и пашня выглядела, как картина в красивой раме. Звонкий голос погонщика отчетливо доносился с пашни.
Семен и Данилка подъехали незамеченными. Семен насмешливо поздоровался с работниками, которые были не из Мунгаловского:
– Здорово, купцовы работнички!
Ходивший за плугом немолодой скуластый работник вздрогнул и обернулся. Увидев незнакомых вооруженных людей, почтительно снял с чубатой головы фуражку с выцветшим добела околышем и откликнулся густейшим басом:
– Здравствуйте!
– Хозяева ваши на заимке? – спросил Семен.
– Арсений тут. Вон он за леском под овес пашет, – показал работник обкуренным пальцем на дальний березняк. – А Алеха, тот с вечера домой за харчами уехал и еще не вернулся. Дожидаемся вот.
– Да ты остановись, чертушка. Поговорить надо.
– Тпру-у! – закричал работник, и быки остановились. Он прислонил к чапыгам плуга чищалку с железным наконечником и, выжидая, уставился на Семена.
– У вас тут утром никто не проезжал?
– Нет как будто. Может, другие видели. Фролка! – окликнул он погонщика. – Ты никого не видел?
Белобрысый погонщик с запыленным лицом весело улыбнулся и отрицательно помотал головой.
– Кроме вас кто-нибудь живет на заимке?
– Каргины живут и Волокитины.
– Ночью из них никто в лес не ездил?
– Нет, дрыхнули все без задних ног. А что такое?
Не отвечая на вопрос, Семен и Данилка переглянулись. Потом Семен спросил:
– А не врешь?
– А чего мне врать-то. Кого хочешь спроси, то же скажет.
– Ну, тогда счастливо оставаться. А мы до Арси съездим.
Работники не тронулись с места, пока приезжие не скрылись в осиннике.
Потом погонщик сказал:
– Ищут кого-то мунгаловские, что ли?
– Должно быть, – отозвался старший и скомандовал: – А ну, поехали!..
Когда Семен и Данилка спустились под бугор и пашня скрылась из виду, начался у них разговор.
– Ничего мы, паря, однако, не разнюхаем, – поделился своими сомнениями Семен.
– Я тоже соображаю, что немного узнаем. Может, Ромку порешили и они, да только как к ним подступишься? Не следователи мы.
– Ничего. С Арсей во всяком случае потолковать надо. Ты приглядывайся к нему. Посмотрим, как он на нас глядеть будет.
Арсений завидел их издали и встретил приветливо, спокойно. Незаметно было, чтобы он волновался. Едва они поздоровались, поспешил он справиться, куда они поехали. Когда же узнал, что утром ранен Роман, то искренне изумился и пожалел его. Все это получилось у него вполне естественно, без всякого притворства. Семен поспрашивал его о том же, о чем и работников. Выкурив по папиросе, стали они с Данилкой собираться уезжать. Пахал Арсений на конях. Перед тем как уехать от него, Семен нашел удобный предлог осмотреть, как подкованы его кони. Арсений, хотя и удивился такому любопытству, но ничего не сказал. Семена же осмотр убедил, что ни один из этих коней не был привязан в осиннике, когда стреляли в Романа. У всех коней было по четыре подковы.
От Арсения завернули они на заимку. Митька Каргин с работником очищал там от коры заготовленные зимой бревна. Пока Семен разговаривал с Митькой, Данилка сходил в зимовье поглядеть, есть ли там какое-нибудь оружие. В чепаловском зимовье висела берданка и дробовик. Из берданки, как убедился Данилка, не стреляли по крайней мере неделю. После этого ему оставалось только вернуться к Семену, который из разговоров с Митькой также ничего не узнал.
К обеду они вернулись на свою заимку. Оставалось только думать, в самом ли деле провел эту ночь Алешка в поселке. Скоро и это сомнение было рассеяно. Вернувшийся из дома Петька Кустов подтвердил, что возвращался сейчас оттуда вместе с Алешкой и что дорогой повстречался им Северьян.
XIX
Северьян не заметил, как миновал он семь верст от заимки до Мунгаловского. От ворот поскотины, не заезжая в поселок, повернул он к лагерю. На широкой луговине шло учение. Кадровцы, блистая на солнце шашками, рубили лозу, скакали через рвы и барьеры. В иное время Северьян обязательно бы остановился полюбоваться на них. Но сейчас было не до этого, надо было спешить к лагерному околотку.
Толстый заспанный фельдшер, потирая ладонью круглую бритую голову, встретил Северьяна на крылечке лагерного околотка. Сладко зевнув, лениво спросил:
– Ну, с чем пожаловал, старик?
– Сына у меня в лесу ранили. В беспамятстве он. Помогите, господин фельдшер, вся моя надежда на вас. Век благодарить буду, спасите только…
– Что могу – сделаю, папаша… Лысухин! – крикнул он.
На крыльцо выбежал краснорожий прыщавый казак. Одна нога у него была в сапоге, на другой болталась портянка.
– Помоги старику парня в помещение занести, – приказал ему фельдшер.
– Слушаюсь, – крикнул казак и бросился помогать Северьяну, едва приступая на босую ногу.
Когда Романа положили на топчан, застланный простыней в желтых пятнах, фельдшер прощупал ему пульс и сокрушенно покачал головой. Снимая с раны повязку, он недовольно хмыкнул и выругал Северьяна:
– Что же ты, дуб этакий, грязными лоскутьями рану перевязал? Эх, бить вас некому!
Северьян виновато отмалчивался.
Фельдшер чем-то смазал рану, наложил на нее чистую повязку.
– Ну, старик, если хочешь, чтобы сын в живых остался, сейчас же вези его в Нерчинский Завод. Я твоему горю плохой помощник. Рана у парня скверная, и крови он много потерял. Может быть, доктора его и выходят…
В Нерчинский Завод Северьян прискакал под вечер. Дорогой Роман два раза приходил в себя и просил пить. Северьян останавливался и поил его холодным чаем, который успела налить в туес Авдотья, когда Северьян завертывал из околотка на минутку домой.
Долго стучался он в двери больницы, пока их не открыла сиделка с лунообразным лицом.
– Чего стучишь, как полоумный? Прием у нас давно окончен.
– Сын у меня раненый. Его к доктору скорей надо.
– Доктора нету в больнице. Говорят тебе, что прием окончен. Понимать надо…
– Да как же быть-то?
– А я почем знаю, – сказала сиделка и попыталась у него под носом захлопнуть дверь. Северьян закричал на нее:
– Ты что, тетка, сдурела! У меня сын помирает, а ты нос на сторону воротишь. Крест-то у тебя на вороте есть?
На шум вышла другая женщина в белом халате.
– Вот с сестрой разговаривай, а мое дело маленькое, – показала на нее сиделка.
После того как Северьян пообещал отблагодарить сестру, она согласилась послать за доктором и, не дожидаясь его, принять Романа. С помощью двух сиделок Романа занесли в приемную.
Очкастый доктор пришел недовольный. Его оторвали от ужина с гостями. Обругав сестру, бросил он окурок папиросы в плевательницу и потребовал халат. Сестра подала ему халат и стала разбинтовывать Романа.
– Гм-м… огнестрельная рана, – едва взглянув, определил доктор. – Любопытно… Это кто же его?
– И сами не знаем, ваше высокоблагородие, – поспешил вытянуться Северьян, видевший начальство и в докторе.
Доктор сердито посмотрел на него сквозь очки.
– Я штатский, а не военный. С меня хватит, если я буду просто господином доктором. Понял?
Испугавшийся Северьян торопливо и почтительно кивнул головой.
– Раненого в палату! И живо приготовить все для операции, – распорядился доктор и закончил свои приказания мудреной латынью.
– Господин доктор! Останется он в живых-то? – рванулся к нему Северьян.
Доктор развел руками:
– Я, мой батенька, не бог. Но будем надеяться… Завтра утром придешь справиться. Сделаем все, что можно, а там… будем надеяться.
– Спасибо вам, – прослезился Северьян и с тяжелым сердцем направился к выходу.
* * *
Роман пришел в себя и долго не мог сообразить, где он находится. Он лежал в высокой белой комнате с полуовальными окнами. В комнате было полутемно, за окнами стояла густая синева летнего ясного утра. Было слышно, как где-то буйно горланил петух, мычали коровы. Роман попробовал приподняться, но это ему не удалось. По скрипу, вызванному его движением, узнал он, что лежит на пружинной койке. Но все еще никак не мог представить, куда это он попал. Только увидев рядом с собой другую койку, а за ней неясные очертания третьей, понял он, что находится в больнице. «Куда это меня привезли? Вот так штука… А пить-то все еще хочется», – подумал он и огляделся по сторонам. Справа у изголовья своей койки увидел столик, тускло мерцавший масляной краской. На столике стояла эмалированная кружка. С трудом дотянулся он до кружки. В ней было что-то холодное и кислое, очень понравившееся ему. Он выпил все до дна.
Скоро стало клонить его ко сну. Здоровой рукой потянул на себя одеяло, чтобы укрыться с головой. От одеяла пахло застарелым противным запахом мышиного помета и каких-то лекарств. Роман не вытерпел и откинул его. На третьей койке кто-то заворочался, застонал, потом плаксивым тонким голосом стал требовать:
– Утку… Няня, утку…
«Это зачем же ему утку-то? – изумился Роман. – Выдумал же. Утка ему понадобилась».
А больной продолжал надсадно тянуть свое:
– Да подайте же ради бога утку. Оглохли все, что ли? – и наконец принялся барабанить кружкой по столику.
За полуприкрытой дверью скоро зашлепали чьи-то торопливые шаги. Потом в комнату просунулась в белой повязке голова и равнодушный голос спросил:
– Чего надоть?
– Утку мне.
Роман думал, что на такое дикое требование сиделка рассердится или по крайней мере расхохочется, но она покорно бросила:
– Сейчас, – и куда-то снова зашлепала по коридору. Через минуту она вернулась с белой эмалированной посудиной, отдаленно напоминавшей ковш.
«Вот тут какие утки-то бывают», – разочарованно подумал Роман и почувствовал, что у него тоже есть надобность в такой утке, но сказать об этом сиделке не посмел. Было стыдно, а еще более противно. Он попытался подняться.
Сиделка, услыхав, что он шевелится, подошла к нему, и видя его намерение встать, строго сказала:
– А вставать-то не полагается. Лежи, парень, лежи. Тебя насилу от смерти вызволили. Долго тебе еще лежать-то.
– Да мне бы того… выйти, – мялся Роман.
Сиделка пришла ему на помощь:
– Тебе по-большому или по-маленькому?
– Мне эту самую… как ее… утку, что ли? – через силу выдавил Роман и почувствовал, что весь вспотел.
Днем пришел навестить Романа отец. В палату его не пустили, так как день был не приемный. И Северьян вынужден был написать ему записку. Роман едва разобрался в отцовских каракулях. Отец спрашивал, как он себя чувствует и что ему требуется. Дальше писал, что встретил на базаре Луку Меньшова, который передает ему привет и желает быстрой поправки. Писать Роман еще не мог. От малейшего напряжения у него шла кругом голова, темнело в глазах. Поэтому он передал отцу с сиделкой, что дела у него пока неважные, но что доктор не велит беспокоиться и обещает полное выздоровление. Но сиделка еще раз принесла от Северьяна записку. В ней был только один вопрос: «А руку тебе не отняли?» Подавая Роману это послание, сиделка рассмеялась:
– Беспокойный у тебя отец-то. Сколько я ему ни говорила, что цела твоя рука, не верит – и все. Напиши ему хоть два слова…
Роман с великими усилиями вывел на бумажке огрызком поданного сиделкой карандаша: «Рука целая. Не беспок…» И вынужден был от нестерпимой боли, от которой сразу все пошло кругом, закрыть глаза и вцепиться зубами в противно пахнувшее одеяло.
Поправлялся Роман медленно. Только через две недели градусник стал показывать нормальную температуру и Роману разрешили ходить. Дома уже заканчивали подъем паров и готовились к сенокосу, а Роман все еще не знал, когда его выпишут. Несколько раз он спрашивал об этом доктора Сидоркина, который извлек из его плеча свинцовую мятую пулю, но Сидоркин всякий раз говорил ему:
– Не торопись, молодой человек. Придет время – не задержим. Я обещал твоему отцу выходить тебя и свое слово сдержу… Я на свадьбе у тебя гулять собираюсь, с дедом твоим познакомиться хочу и калекой тебя из больницы не выпущу, – посмеивался Сидоркин в седые усы и велел терпеть.
Отец навещал Романа каждое воскресенье. За это время он совсем сбился с ног. Если бы не Герасим Косых, помогавший ему, не было бы в этом году у него изготовлено паров, стояли бы непрополотыми хлеба. Приезжая к Роману, отец всякий раз старался задобрить Сидоркина. Привозил ему масло, яйца, муку. Такие подарки доктор принимал охотно, и Северьян, хотя и тянулся из последнего, вручал их с благодарностью. Считал он Сидоркина спасителем сына и был бы искренне обижен, если бы не пожелал доктор принять его подношений.
В один из воскресных дней, когда начали приходить к больным родные и знакомые, в палату Романа вошла сестра и жеманно улыбнулась:
– К вам посетители…
Роман думал, что это отец, и продолжал спокойно сидеть на койке. И велико было его изумление, когда в дверях появилась Клавка Меньшова, а за ней Ленка Гордова. От неожиданности он выронил из рук ручное зеркальце, в которое разглядывал свое исхудавшее лицо и стриженную машинкой голову. Обе девушки были под стать друг другу, рослые, красивые, нарядно одетые. Само здоровье вошло с ними в палату. И все больные невольно залюбовались на них. Как зачарованный, глядел Роман на Ленку, красивую, в легком светлом платье, с желто-зеленым китайским платком на плечах.
– Здравствуй, Рома! – кинулась к нему Клавка, протягивая руку.
Роман поднялся к ней навстречу, а сам не переставал глядеть на Ленку. Ленка подошла к нему зардевшаяся, в глубоком смущении пожала ему руку, не в силах вымолвить хотя бы одно слово. Первым заговорил Роман. Дрожащим от волнения голосом он сказал Ленке:
– Спасибо, спасибо…
Потом пододвинул к девкам две крашеные табуретки и пригласил садиться. Они присели. Клавка все время не спускала глаз с Романа, а Ленка только изредка кидала на него короткие, но много говорившие его сердцу взгляды.
– Мы ведь к тебе давно собирались, – зачастила Клавка. – И пожалели же мы тебя, когда узнали про эту беду. А нынче вот отпросились на базар, да и заявились к тебе. Рад ты или не рад?
– Рад, да еще как. Не чаял я Лену встретить, этого мне и во сне не снилось, – ответил Роман, но, вспомнив свои отношения с Дашуткой, покраснел.
– Отчего же это? – на мгновение взглянув на него, спросила Ленка.
Роман понизил голос:
– Думал, что забыла, – и еще тише добавил: – Думал, с глаз долой, так и из сердца вон…
Ленка укоризненно покачала головой:
– Эх, ты!.. Плохо ты обо мне думаешь.
– Не обижай ты ее, Роман, – сказала Клавка. – Не заслужила она этого. Все время только о тебе и разговаривает.
– Правда это? – Роман осмелился и взял Ленку за руку, терзаясь от своей вины перед ней.
– Не слушай ты ее. Врет это она… – шептала Ленка одно, а глаза ее говорили другое. Роман с благодарностью пожал ей руку.
В это время вошел в палату Северьян. Увидев у кровати Романа девушек, засмеялся, воскликнул:
– Ну, раз с девками беседу ведет, то, значит, совсем молодцом.
Не переставая улыбаться, он подал Клавке руку:
– Здравствуй, племянница, здравствуй… А это кто? – повернулся он к Ленке.
И тут Роман совершенно неожиданно для себя сказал отцу:
– Это моя невеста.
Ленка вспыхнула и закрыла лицо платком. Северьян погрозил пальцем Роману:
– Да ты, я вижу, парень не промах… Губа у тебя не дура, – и расхохотался, окончательно смутив Ленку, а потом совершенно серьезно проговорил: – Ну-ну, дай Бог…
Присев рядом с Романом на койку, Северьян спросил у Клавки:
– Чья она будет-то?
– Гордова Гурьяна.
– Да что ты говоришь? – изумился Северьян. – Моего, значит, сослуживца Гурьяна Корнилыча дочь. Гляди ты, какую кралю Гурьян вырастил. Вот не думал я…
Он повернулся к Лене, ласково оглядел ее и спросил:
– А правду Роман говорит?
– Врет, все врет, – засмеялась Ленка, кусая кончик платка.
В палату заглянула из коридора сестра и пропела:
– Ух, как тут у вас весело… Заканчивайте беседу. Время для посетителей вышло.
Ленка и Клавка сразу поднялись и стали прощаться. Роман вышел проводить их в коридор. Подавая ему руку, Ленка спросила его шепотом:
– Ты зачем это сказал? Пристыдил, ой как пристыдил… Что теперь твой отец подумает про меня?
– А ничего… Только со свадьбой поторопится.
– Правильно, правильно, Рома, – услыхав их разговор, громко сказала Клавка.
– Пиши мне, Лена, ждать буду, – попросил Роман.
– Если сам вперед напишешь, то буду писать, – увлекая за собой Клавку, бросила Ленка на ходу.
Дав Роману возможность проститься с девушками, вышел из палаты Северьян. Взглянув на него, Роман убедился, что отец в самом отличном настроении. И он не ошибся. Северьян положил ему руку на плечо, расплылся в усмешке:
– Ну, ежели не врешь, то дай Бог… Обрадовал ты меня, шибко обрадовал. Поправляйся скорей, а осенью и о свадьбе подумаем. За великую честь почту с Гурьяном породниться…
Всю ночь радостно взволнованный Роман пролежал с открытыми глазами. В самых мельчайших подробностях переживал он снова и снова свое нежданное свидание с Ленкой. Рядом с ним метались во сне, стонали и бредили больные. Невыносимой показалась бы ему эта бессонная ночь в палате, если бы не было в сердце такого полного ощущения счастья, такой окрыляющей радости. Особенно приятно было сознавать, что на искалеченного и больного глядела на него Ленка глазами, полными неподдельной любви. И он благодарил ее, восхищался и гордился ею. И странным казалось, что еще совсем недавно он готов был навсегда отказаться от нее ради другой.
Уже синькой рассвета были залиты окна, уже затихли, как всегда на свету, больные, дыша глубоко и ровно, а он все не мог уснуть. И спать ему совсем не хотелось. Неотступно стоял перед его глазами все заслонивший образ Ленки, и звали его к большому счастью, к вечно желанной жизни ее глаза, ее улыбка, похожая на первый утренний луч июльского солнца.
А утром во время обхода Сидоркин, выстукав и выслушав его, сообщил:
– Ну-с, молодой человек, выписка на носу. Все зажило, как на хорошем волкодаве.
Через четыре дня Роман уже был в Мунгаловском. С тех пор его раненое плечо стало немного пониже здорового и ныло к любой перемене погоды.
Родные твердо порешили женить его осенью на Ленке и с лета начали исподволь готовиться к свадьбе. Но скоро случились такие события, которые сломали навсегда привычную, размеренную жизнь и заставили Улыбиных надолго отказаться от женитьбы Романа.


