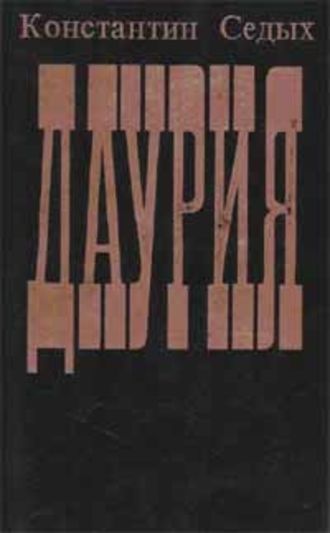
Константин Федорович Седых
Даурия
XV
Одиннадцатого июня чехословаки и белогвардейцы заняли Иркутск. Сибирское советское правительство (Центросибирь) эвакуировалось в Верхнеудинск. Красногвардейские отряды задержали дальнейшее продвижение противника на Кругобайкальской железной дороге. Черемховские, черновские, арбагарские шахтеры и курсанты иркутской военной школы с беззаветным мужеством бились в горах и теснинах на берегу Байкала, не отступая ни на шаг. Но в ближайшем тылу, за железным заслоном маленькой горстки людей, никто не сумел навести порядка. Там многочисленные отряды и отрядики анархистов всех мастей либо с боем брали вагоны и уезжали на восток, либо, нагрузившись продовольствием и боеприпасами, уходили через таежные хребты на Селенгинск, к монгольской границе. Тот самый Лавров, которого Лазо был вынужден арестовать и под конвоем отправить в Иркутск, снова оказался командиром отряда в три тысячи человек. Кто-то в Иркутске слишком благоволил к нему. На станции Мысовая молодчики Лаврова уничтожили заградительную роту, захватили батарею горных орудий, присланную на фронт из Читы, и с возами награбленного еще в Иркутске барахла ушли в тайгу. Командующий Прибайкальским фронтом Синеусов погнался за ними с двумя кавалерийскими эскадронами. Анархисты обстреляли его из пулеметов и заставили ни с чем вернуться в свой штаб.
На другой день Синеусов еще спал у себя в вагоне, когда на бирюзовой глади Байкала появились ангарские речные пароходы с баржами на буксире. В Мысовой в это время находился вооруженный ледокол «Байкал», две полевые батареи и тыловые части фронта, общей численностью в шесть тысяч бойцов. С ледокола и с батарей спокойно разглядывали приближавшиеся суда. Пароходы беспрепятственно приблизились, развернулись и открыли артиллерийский огонь по станции, по батареям и ледоколу. Снаряд шестидюймовой гаубицы разорвался на ледоколе. Клуб желтого пламени взметнулся вверх, отразился в голубой бездне Байкала. Гул взрыва повторил эхо в затянутых дымкой величавых горах. Ледокол вспыхнул, как куча сухого хвороста. Прислуга батареи погибла или разбежалась, не сделав ни одного выстрела. Сотни красногвардейцев полезли в стоявшие под парами эшелоны.
Синеусов полуодетый выскочил из вагона, сел на подведенного ординарцем коня и понесся вдоль железнодорожного полотна на запад. Полосатые подтяжки хлестали его по спине.
На ближайшем разъезде вызвал он два бронепоезда с фронта. Минут через сорок первый бронепоезд подошел к пылающей станции и огнем своих орудий отогнал пароходы. Но чехословакам удалось высадить крупный десант восточнее Мысовой, у разъезда Боярского и станции Посольская. Эшелоны, успевшие выбраться с Мысовой, они изрешетили перекрестным пулеметным огнем.
Ночью главные силы красных, бросив свои позиции у Танхоя, погрузились в эшелоны и двинулись на восток. В битком набитых теплушках и вагонах было темно и душно до одури. В них смешались читинские и черемховские шахтеры, анархисты, мадьяры, буряты, китайцы и корейцы. А в штабном вагоне при скудном свете двух огарков шло бурное совещание командиров. Одни считали, что надо пробиваться на Верхнеудинск, другие советовали бросить эшелоны и уходить в тайгу по следам анархистов.
– Давайте, товарищи, обсудим наше положение, – открывая совещание, сказал Синеусов. Во всей его маленькой и взъерошенной фигуре сквозила явная растерянность, сознание своего бессилия и беспомощности перед бурным потоком событий. – Обстановка для нас сложилась тяжелая, – продолжал он. – Мы отрезаны от Верхнеудинска. Нам предстоит или пробиваться, или отходить в тайгу по тракту на Селенгинск. Кто как думает, прошу высказаться.
– Нужно пробиваться, – сказал бывший командир Первого Аргунского полка, а теперь командир иркутских курсантов Метелица, за голову которого атаман Семенов в специальном воззвании обещал десять тысяч золотых рублей. – Мы – единственный заслон Забайкалья и Дальнего Востока.
– Так-то оно так, – заговорил Синеусов, – но наши части деморализованы. Это толпа на барахолке, а не войско.
Метелица вскипел:
– А кто в этом виноват? Кто их довел до этого? Если бы ты и твой штаб поменьше нянчились с анархистами, никогда бы не случилось этого. Весь чехословацкий корпус не сбил бы нас с наших позиций. А вы довели дело до того, что на своих неприступных позициях мы оказались, как в мышеловке.
– Зачем горячиться? Незачем горячиться, товарищ. Этим дело не поправишь, – перебил Метелицу стройный красавец грузин в коричневой черкеске. – Будем говорить спокойно… Что ты нам предлагаешь?
– Я предлагаю пробиваться.
– Правильно! Я сам так думаю. Когда можно еще бороться, нельзя убегать в кусты. Мы – большевики, а не анархистские шакалы. Советская власть гибнет, а мы шкуру спасать будем. Не бывать тому, – стукнул он об пол серебряной шашкой.
Все командиры поддержали Метелицу и грузина. Решено было прорываться.
На рассвете передовые красногвардейские отряды повели наступление на Боярский. Насколько позволила местность, развернулись в цепи. Скоро завязался ожесточенный, продолжавшийся сутки бой.
Чехословацкий десант в конце концов был уничтожен, дорога на Верхнеудинск пробита. Но победа досталась дорогой ценой. В бою погибли лучшие командиры и лучшие части. Деморализованная и обескровленная армия не могла развить достигнутого успеха. В результате только небольшая группа бойцов с одним бронепоездом вышла из окружения. Остальные либо ушли в тайгу, либо сдались в плен у разъезда Тимлюй. Всех, кто сдался в плен, белогвардейцы расстреляли на берегу Байкала.
Так прекратил свое существование Прибайкальский фронт.
Когда Лазо был назначен командующим этим фронтом, его фактически уже не существовало. Верхнеудинск пал, и на восток отходили разрозненные и совершенно небоеспособные группы красногвардейцев. На них охотились, как на зверей, семейские кулаки и бурятские нойоны, а в казачьих станицах уже создавались белоповстанческие дружины.
Прибыв на станцию Хилок и выяснив положение, Лазо понял, что нечего было и думать отстоять Забайкалье. Можно было только замедлить продвижение противника и дать возможность в полном порядке эвакуировать из Читы советские учреждения и сотни раненых красногвардейцев.
Для этой цели Лазо спешно организовал команду подрывников из шахтеров и матросов и начал взрывать все мосты за своим бронепоездом.
Спешившие на фронт аргунцы встретились с Лазо на станции Могзон. Когда Тимофей Косых и Роман пришли к нему, он встретил их угрюмый и озабоченный. Лицо его заметно осунулось, под глазами лежали синие тени.
– Что так худо выглядишь, товарищ Лазо? Уж не болен ли ты?
– Да, товарищ Косых, болен, – ожесточенно произнес Лазо, – болен оттого, что на этот раз мне не выполнить возложенного на меня поручения. Слишком поздно послан я сюда. Понадеялись на Синеусова, миндальничали с анархистами, и в результате – все погибло. Бронепоезд да команда подрывников – это все, чем я располагаю. Третий день взрываем мосты и отходим, отбиваясь от кавалерийских частей противника. Утешает только мысль, что это частное поражение, а не всеобщий разгром. – Голос Лазо приобрел металлически-торжественные ноты. – Советская власть за Уралом жива и будет жить. Рано или поздно, но Сибирь снова станет советской. Это неизбежно!
Аргунцев он решил отправить назад. Спасти положение они не могли, а в случае боя их эшелон стал бы только мешать маневрам бронепоезда на одноколейном пути. Обратно они тронулись через два часа.
В предгорьях Яблонового хребта путь перед ними оказался разобранным, и на нем устроен большой завал из поваленных деревьев. Когда эшелон остановился, с ближайшей скалы открыли по нему ружейный огонь. Аргунцы повыскакивали из теплушек, развернулись в цепь и залегли. Обстреляв скалу из двух пулеметов и винтовок, пошли в обход. Только поднялись из травы, как у Романа раздробило пулей ложе винтовки. Два казака были ранены и один убит. Невидимый противник бил на выбор из-за камней и деревьев. Пришлось отступить к эшелону и дожидаться бронепоезда Лазо.
Бронепоезд подошел на закате. Под прикрытием двух его орудий казаки разобрали завал, а подрывники восстановили путь. Лазо все время находился вместе с ними, и, видя его знакомую фигуру с биноклем на груди и револьвером в руках, подрывники работали, не прячась от пуль.
Когда поехали дальше, дорогу преградил горящий мост. Тушили и исправляли его под обстрелом неприятеля. Лазо снова находился среди работающих, спокойный, ничего не упускающий из виду.
На рассвете суровый Яблоневый хребет остался позади.
XVI
Отряд Пережогина начал расселяться на станцию в поезд из классных вагонов. Опухший и вялый с похмелья, Федот помогал перевозить всевозможное анархистское барахло. Подвалы и кладовые особняка оказались битком набиты ящиками с гранатами и патронами, мешками с сахаром, тюками мануфактуры, коврами, портьерами, винами и консервами. В больших бельевых корзинах, которые Федоту пришлось грузить на подводу, видел он церковную серебряную утварь и содержимое целого ювелирного магазина.
– Вот подлецы! Мы на фронте кровь проливали, а они здесь грабиловкой занимались, – негодовал он на анархистов и уже раскаивался, что отстал от своих. Но за обедом в пережогинском салон-вагоне он снова изрядно подвыпил и перестал мучиться угрызениями совести. Когда же в соседнем вагоне затеяли крупную денежную игру в «очко», он совсем успокоился и подался туда.
– Ну-ка, сдай мне, – приказал он банкомету, расталкивая игроков и усаживаясь на какой-то кожаный баул. – Крою по банку, – заявил он басом, накрыл полученной картой радужные «керенки» на кону, нимало не смущаясь тем, что не имел за душой ни копейки.
Сорвав банк, уселся он поплотнее на бауле, выхватил у соседа справа дымящуюся трубку из зубов, мимоходом вытер мундштук о гимнастерку и сунул его себе в рот. Посасывая трубку, с головой ушел в игру.
А Пережогин тем временем собрал у себя всю головку отряда. Первым делом представил он собравшимся здоровенного мужчину, который отличался от него только тем, что усы имел рыжие, а не седые.
– Это, братишки, товарищ Лавров, виднейший член нашей партии. Он только что прибыл с запада, где показал своим отрядом образцовую храбрость в боях под Иркутском и на Байкале. Прошу, как говорится, любить и жаловать! Сейчас товарищ Лавров поделиться с нами своими соображениями насчет происходящих событий.
– Про-о-сим! – дружно захлопали анархисты в ладоши.
Довольный таким приемом, Лавров, бросивший ради спасения собственной шкуры свой отряд, покрутил усы, прокашлялся и стал говорить о том, что Советская власть доживает последние дни. Анархистам, пока не поздно, надо уезжать из Читы. Нужно успеть до прихода на Амур японцев убраться в Китай. Но предварительно следует обделать одно дельце. С пустыми руками уходить из Читы нечего. Надо раздобыть детишкам на молочишко. И он предложил нанести визит в подвалы казначейства, пока большевики не вывезли из них золото.
– Это идея! – воскликнул Пережогин. – Только с умом ее надо обстряпать.
– Ну, а как остальные полагают?
Все горячо одобрили предложение Лаврова, и тогда он сказал:
– Рядовую бражку, во избежание бузы, надо обработать соответствующим образом. Сейчас же пустите слух, что большевистские комиссары намерены укатить с золотым запасом на китайскую сторону и, так сказать, обеспечить себе безбедную старость, – захихикал Лавров.
Накануне Центросибирь решила вывезти читинское золото на восток и спрятать от интервентов в амурской тайге. Василию Андреевичу было получено подготовить все к эвакуации. С раннего утра находился он в здании казначейства, где занимался с группой рабочих, красногвардейцев описью и упаковкой всех ценностей. Работа у них подходила к концу, когда подошел анархистский отряд во главе с Пережогиным и Лавровым.
Переколов штыками наружных часовых, они с револьверами и гранатами в руках ворвались в казначейство. Василий Андреевич в это время находился в кабинете управляющего на втором этаже. Услыхав выстрелы в вестибюле, он выбежал из кабинета и лицом к лицу столкнулся с опередившим других Федотом. Узнав Василия Андреевича, Федот опешил, как школьник, чуть было не сбивший с ног своего учителя.
– Василий Андреевич! – воскликнул он в полной растерянности.
– Ты что здесь делаешь? Грабить пришел? – крикнул Василий Андреевич и в эту минуту увидел подымавшуюся по широкой лестнице группу анархистов, возглавляемую Лавровым. Выхватив револьвер, он бесстрашно ринулся им навстречу. Но Федот схватил его поперек туловища и задержал.
– Пусти, негодяй! – закричал Василий Андреевич. А бежавший по коридору Лавров горланил, в свою очередь, на Федота:
– Подожди, не убивай! Я с ним, с гадом, сам разделаюсь.
Тогда Федот впихнул Василия Андреевича в раскрытую дверь кабинета и трижды выстрелил в подбегающего Лаврова. Лавров упал и на карачках пополз по коридору. Анархисты начали стрелять в Федота, но он нырнул в кабинет, прислонился к дверной колоде и выхватил из кармана гранату.
– Гаси, Василий Андреевич, свет, – сказал он и, выглянув на мгновение из-за колоды, швырнул гранату. Раскатисто грохнул взрыв, шатнуло воздухом дверь кабинета, и стрельба в коридоре прекратилась. Уцелевшие анархисты сбежали вниз.
Василий Андреевич принялся названивать по телефону, вызывая помощь, а Федот выбежал в коридор. У лестницы валялись убитые взрывом гранаты анархисты. Он взял у одного из них револьвер, снял привязанную к поясу ремешком гранату-лимонку. Внизу горланили и топали сапожищами выносившие золото анархисты. Всем распоряжался хриплый бас Пережогина. Федот подкрался к лестнице и глянул вниз. В ту же секунду снизу загремели выстрелы, и с потолка посыпалась ему на спину сбитая пулями штукатурка. Потом оттуда метнули гранату. Она ударилась в стену над лестничной площадкой, отскочила от нее и разорвалась на мраморных ступенях лестницы. Федот успел растянуться плашмя, и осколки не задели его. Довольный тем, что спас Василия Андреевича, он решил больше не рисковать, отполз в глубь коридора и наугад бросил вниз гранату. После взрыва на минуту наступила там тишина, но потом анархисты закричали и затопали пуще прежнего. Только пережогинского голоса больше не было слышно.
«Неужели своротил его? Вот было бы здорово», – размышлял Федот, когда к нему подбежал Василий Андреевич. Он сообщил, что скоро прибудет помощь, и, стреляя на бегу из револьвера, бросился вниз по лестнице. Федот побежал за ним.
В вестибюле Василий Андреевич в упор застрелили анархиста, у которого Федот во время игры в «очко» сорвал банк. Остальные успели покинуть казначейство. Василий Андреевич кинулся было за ними на улицу, но Федот удержал его:
– Не рискуй ты, дядя Вася. Там в темноте тебя живо ухлопают. Давай подождем подмогу.
Василий Андреевич согласился.
Минут через десять на улице вспыхнула частая беспорядочная стрельба. Анархисты, отстреливаясь от подоспевших красногвардейцев, стали отходить на станцию.
Когда к казначейству прибежали бойцы из сотни Кларка, Василий Андреевич повел их вслед за анархистами.
Пережогин, заранее убравшийся на вокзал с раненым Лавровым, решил пожертвовать большей частью своего отряда, который отбивался от наседающих красногвардейцев в привокзальных улицах. Погрузив наспех в вагоны захваченное золото, он с небольшой шайкой самых отъявленных негодяев укатил на восток. К утру обманутые и брошенные им рядовые анархисты сложили оружие.
Через день в Читу вернулся эскадрон аргунцев, и одумавшийся Федот присоединился к нему. В это время в городе началось белогвардейское восстание. Офицеры, чиновники и гимназисты стреляли из-за углов в уходивших на станцию последних красногвардейцев. Аргунцы и особая сотня погибшего Кларка удерживали привокзальные улицы до тех пор, пока с запада не пробился в Читу бронепоезд Сергея Лазо.
Роман отстреливался от наседающих офицеров из обшитой досками канавы в одной из улиц. Рядом с ним сидел боец из Арбагарского шахтерского китаец Ты Сунхин, веселый и бесстрашный человек. На Даурском фронте Ты Сунхин командовал взводом китайцев и был ранен в бою под Тавын-Тологоем. Выписавшийся накануне из читинского госпиталя, он присоединился на станции к аргунцам и теперь терпеливо выцеливал наступавших короткими перебежками офицеров. Впереди, немного правее себя, Роман и Ты Сунхин видели деревянную будку для афиш и какую-то глухую стену из желтого тесаного камня. У стены ничком лежал убитый красногвардеец в серых суконных штанах и рыжих с дырявыми подошвами ботинках. Судя по курчавым, соломенного цвета волосам, это был молодой парень. Над ним висело на стене какое-то в двух местах пробитое пулями воззвание. Роман поглядывал на потертые с аккуратно пришитой заплатой штаны убитого, на дырявые стоптанные его ботинки и испытывал к нему щемящую жалость. «Хвати, так и не нашивал ты в своей жизни лучшей одежды, не пробовал сладкого куска. Вместе с нами пошел ты добывать себе лучшую долю и не гадал, не чаял, что сразит тебя пуля из-за угла на читинской песчаной улице», – с горечью думал он про него и тщательно выцеливал каждого подвернувшегося на мушку врага.
В минуту затишья подполз он к убитому, чтобы взять его документы и, если доведется, написать его родным, где и как он погиб. Взяв его документы, сорвал он со стены воззвание и, вернувшись в канаву, стал читать.
«Советы в Чите гибнут. Да здравствуют Советы во всем мире!» – больно резануло его по сердцу набранное крупными буквами заглавие. Не отрываясь, прочитал он воззвание до конца.
«Братья-трудящиеся! Наши классовые враги – капиталисты и их прислужники оказались сильнее нас в данную минуту. Ослепленные ими чехословаки помогают душить им светлую зарю освобождения трудящихся, нашу рабоче-крестьянскую пролетарскую революцию.
В наших частях, утомленных борьбой, произошло разложение. Сегодня ночью два отряда, предводительствуемые презренными, морально разложившимися людьми, пользуясь доверчивостью караула, разграбили золото в Государственном казначействе и бежали, изменнически предавая товарищей.
Мы шлем им проклятье за гнусное дело, мы послали отряд в погоню за ними, чтобы отобрать народное добро.
Наше положение тяжелое, но в минуту общей разрухи и растерянности все истинные революционеры должны доказать не на словах, а на деле, что они умеют любить свободу, умеют и умирать за свободу. И мы это докажем.
Пусть погибнем мы все, но мы знаем, что вслед за нами придут тысячи других, свежих, сильных и мужественных бойцов за счастье обездоленных, за радостное освобождение всех трудящихся от цепей капитализма. Пусть не радуются наши сытые враги. Святые красные знамена социалистической революции выпадут из наших рук ненадолго: их подхватят другие руки, и близок день, когда победно взовьются красные знамена высоко и радостно над всем миром угнетенных людей и над нашим исстрадавшимся русским народом.
Советская революция и власть в Чите гибнут. Да здравствует великая мировая социалистическая революция! Да здравствует освобождение и единение всех трудящихся!
Командующий советскими войсками
Дмитрий Шилов.
Председатель Читинского облревкома
Василий Улыбин».
И только дочитал Роман воззвание, как снова защелкали о каменную кладку стены свинцовые пули берданок. И тотчас же в канаву к Роману спрыгнул Тимофей Косых. От Тимофея он узнал, что Лазо уже прибыл на Читу-Первую и проводит там митинг в железнодорожных мастерских.
– Митинг? – удивился Роман.
– А что же тут особенного? Лазо, брат, знает, что надо в такую минуту ободрить рабочий народ, сказать ему на прощанье умное слово.
Дважды потом ходили аргунцы в атаку, чтобы оттеснить вплотную подобравшихся к станции белогвардейцев, поливая своей кровью панели и тротуары и пышущий жаром сыпучий песок. Кидая гранаты, крича «ура» и отстреливаясь, без конца повторял Роман глубоко запавшие в душу слова воззвания: «Советы в Чите гибнут! За здравствуют Советы во всем мире!»
XVII
К вечеру появилась на востоке грозовая туча. Иссиня-черная, с бурно клубящимися краями, туча двигалась вверх по Ингоде. Молнии, как трещины, беспрерывно пробегали по железной ее синеве. Тишина предгрозовья давила землю. И в этой томительной тишине покинул маленькую станцию Урульгу бронепоезд «За власть Советов». С долгим прощальным гудком медленно тронулся он навстречу туче, навстречу своей неизвестной судьбе. На задней, обложенной мешками с песком платформе его стояли матросы-подрывники и торжественно, как молитву, пели «Варяга». Последние группы красногвардейцев, оставшихся еще на станции, выстроились вдоль пути и махали им вслед фуражками, винтовками и платками.
С перехваченным спазмой горлом стоял Роман у станционного палисадника и глядел на удаляющийся бронепоезд. Горько и смутно было у него на душе. Рука его все еще горела от крепких прощальных рукопожатий Василия Андреевича, Фрола Балябина и многих других, с кем сроднился он на сопках Даурии и в дни отступления от Байкала до Урульги. Не одну могилу вырыл он собственными руками на этом пути для людей, с которыми вместе ходил в атаки, укрывался одной шинелью, делил последний глоток воды. «Так неужели же были напрасны эти жертвы?» – в растерянности спрашивал он себя, терзаясь от горя. Размышляя так, он стал ходить возле палисадника. Грыз в зубах янтарный мундштук – подарок дяди Василия – до тех пор, пока тот не треснул.
…Аргунские и шилкинские красногвардейцы решили пробиваться в родные края все вместе. Набралось их сто тридцать семь человек. Ночью этот один из последних советских отрядов на территории Забайкалья выступил из Урульги, направляясь на Сретенск. На солнцевсходе следующего дня отряд подошел к большой казачьей станице третьего отдела. Здесь у него произошла первая стычка с белыми повстанцами, которые обстреляли отряд у поскотины и после трех залпов пустились в бегство. Красногвардейцы не преследовали их. Достав в станице печеного хлеба, они немедленно двинулись дальше и ровно сутки шли без всяких приключений.
В дороге Роман, Тимофей и Федот договорились, что в Мунгаловский они не поедут, а уйдут к Курунзулайские леса, где, как они слышали, собирались скрываться от белых знакомые Тимофею фронтовики.
На третий день около полудня отряд остановился на отдых на берегу реки Куэнги. Вокруг царили тишина и безлюдье. Расседлав и пустив коней на скошенный и вновь зазеленевший луг, красногвардейцы расположились в тени прибрежных черемух, усеянных кистями черных сгелых ягод. Все сразу полезли в реку купаться.
Роман с удовольствием снял с себя пропотевшее, давно не стиранное белье и прямо с берега бросился в воду. Вынырнув, долго и весело отфыркивался, кричал, бил по воде ладонями. К нему подплыл Федот, схватил в воде за ноги, заставил его окунуться до самого дна. Потом они переплыли на противоположный берег и разлеглись на горячем песке. Обратно перебрались, когда Тимофей позвал их пить чай.
После еды командиры посовещались и решили остаться на месте, пока не схлынет жара. Красногвардейцы принялись кто стирать белье, кто лакомиться черемухой, а затем все улеглись спать. На всякий случай выставили караул. Караульные согнали лошадей поближе к биваку, а сами уселись под стогом сена, мирно беседовали и поглядывали по сторонам.
А в это время в полуверсте от бивака, за буграми, спешились прискакавшие из соседней станицы казаки. Было их не меньше трехсот человек, и командовал ими офицер с погонами войскового старшины. Казаки быстро разбились на три группы и, прикрываясь кустами, стали окружать красногвардейский бивак. Прозевавших караульных закололи кинжалами бородатые урядники. После этого казаки смело бросились на спящих красногвардейцев. Тех, кто успел схватиться за оружие, перебили, остальных взяли в плен.
Роман проснулся, когда на него навалился рыжеусый с бельмом на глазу старик.
– Попался, стерва! – хрипел, дыша на него винным перегаром, старик, заломив ему руки за спину и дважды хлопнув по лицу широкой грязной ладонью. На Федота насели сразу двое. Он успел их сбросить с себя и только схватился за винтовку, как его ударили прямо в зубы прикладом, и он опрокинулся навзничь.
Минут через десять все было кончено. Казаки поснимали с убитых оружие и верхнюю одежду, а живых, подгоняя нагайками и шашками, погнали по знойной дороге в станицу. Поглазеть на взятых в плен большевиков сбежалась большая толпа и стала осыпать их насмешками и руганью. Романа больше всего поразил здоровенный старик с погонами урядника. Он стоял у дороги, размахивая кулачищами, и плевал на проходящих мимо красногвардейцев.
– Попались, иродово племя! Всех вас в куски изрезать надо, выродки проклятые!
В станице пленных загнали в сарай станичного атамана, наполовину заставленный сельскохозяйственными машинами, санями и тарантасами. Сарай был высокий и длинный. Под цинковой крышей его висели на жердях свеженавязанные веники. Веники источали терпкий запах увядающих листьев. Этот запах напомнил Роману о смерти, о похоронах в светлый весенний день, когда, собирая покойника в последний путь, щедро украшают его тесную домовину листвой молодых березок, горестно вянущими цветами. Роман невесело пошутил:
– Пахнет, как на похоронах…
– А ты раньше времени не помирай, – сказал Федот, выплевывая из разбитого рта ошметок запекшейся крови.
– Да я это так, к слову, – задумчиво сказал Роман, присаживаясь на дышло сенокосилки. Федот опустился с ним рядом, ощупал опухшую щеку и попросил закурить. Роман подал ему кисет, участливо спросил:
– Шибко болит?
– Заболит, ежели три зуба к черту вылетели. Здорово он меня, гуран косорылый, трахнул. Я себе еще и язык прикусил. Обидно, что сморчок малахольный бьет тебя, а ты только головой мотаешь. А ведь по-хорошему я бы такого цуцика напополам перешиб. Ну да ничего, за нами не пропадет. За мои зубы они мне золотые вставят…
– Нет, Федот, на этот раз, кажется, сдачи не дашь. Нынче же, однако, нас в расход выведут.
– Все может быть, – согласился Федот. – Только ежели не свяжут мне руки, я хоть одного гада да вперед себя квартирьером к Богу отправлю.
– Так-то оно так, – согласился Роман, – а только дураки мы. Прямо ума не приложу, как это мы так глупо влипли. Видно, верно говорят, что кому быть повешенным, тот в огне не сгорит и в воде не утонет.
– Хреновину городишь. По-твоему выходит, нам остается только ждать, когда буржуям нас убить заблагорассудится… Брось ты это, а лучше давай шевелить мозгами, как нам выкрутиться. Это мне больше по душе…
К ним подошел Тимофей:
– Ну, зажурились, хлопцы?
– Ничего не зажурились, – ответил Федот. – Думаем, нельзя ли как-нибудь выбраться отсюда.
Очутившись в сарае, красногвардейцы вели себя каждый по-своему. Одни сразу же устало садились и безучастными глазами наблюдали за всем происходящим. Другие возбужденно ходили от стены к стене, не находя себе места. Третьи без конца шумели и ругались, обвиняя друг друга за сдачу в плен. И наконец были среди них такие, которые спокойно обосновались где-нибудь в стороне, спокойно закуривали и незаметно от других проверяли, крепки ли стены. Роман наблюдал больше всего за такими людьми и тоже отыскивал щель или дыру. Но прочен был атаманский сарай. Скоро все, кто искал в нем слабых мест, были разочарованы результатами поисков и заметно помрачнели.
…В станичном правлении спорили между тем, что делать с пленными.
– Все это отборные негодяи, – говорил станичный атаман рослому, с седеющими усами войсковому старшине. – Хвати, так каждый из них командир или комиссар, и нечего нам с ними тут долго возиться. Под корень их надо вывести.
– Охотно допускаю, Маврикий Лукич, что это не простые красногвардейцы, – возражал ему войсковой старшина. – Но казнить их без суда и следствия – это, батенька мой, беззаконное дело. Я предлагаю направить их в Нерчинск. Там этих изменников казачеству сурово осудят на законных основаниях. Пощады им не дадут. На этот счет можете быть спокойны.
– Знаю я эти ваши суды… Лучше мы сами с этой сволочью разделаемся. Как, господа, думаете? – обратился атаман с вопросом к двум хорунжим и пожилому вахмистру – сотенным командирам повстанцев.
– Всех расстреливать я не согласен, – заявил вахмистр. – Командиров и комиссаров можно расхлопать, а остальным всыпать по полсотне нагаек и отправить каждого в свою станицу. Пусть там свои разбираются, кто и что из них заслужил.
– А как вы узнаете, кто из них рядовой, кто комиссар? – спросил его хорунжий с двумя Георгиевскими крестами на гимнастерке.
– Допытаемся!
– Черта с два допытаетесь… По-моему, нужно всех ликвидировать.
– Правильно, – поддержал его другой хорунжий.
Пока они спорили, в станицу вступил передовой отряд семеновцев под командой генерала Шильникова. В сопровождении своих офицеров Шильников зашел в станичное правление. Увидев его, атаман перекрестился и сказал:
– Ну, слава Богу. Дождались наконец своих… – и тогда только стал рапортовать ему.
Шильников любезно поздоровался с атаманом и белоповстанческими офицерами, выразил им свое одобрение за боевую инициативу, заявив, что Семенов и возрождающаяся Россия не забудут их заслуг.
– А что прикажете делать с пленными, ваше превосходительство? – спросил атаман.
– Немедленно судить! Я буду, как старший военачальник, председателем военно-полевого суда, а вас и войскового старшину назначаю членами. Сейчас же составьте список пленных и запишите сведения, который каждый из них пожелает дать о себе. Впрочем, все это будут только пустые формальности. Все пленные – закоренелые большевики, и наш приговор может быть только одним. В этом, господа, надеюсь, вы согласны со мной.
– Вполне, – поспешили его заверить атаман и войсковой старшина, потерявший в присутствии генерала желание соблюдать законность.
…Под вечер в одном из классов станичного училища началось заседание суда.
Всех пленных, которых насчитывалось сто семь человек, вызывали в класс группами по десять – пятнадцать человек. Мунгаловцы и орловцы, как уроженцы одной станицы, были приведены в класс группой в двенадцать человек.
– Командиры и комиссары среди вас есть? – спросил их Шильников.
Пленные не ответили.
Шильников с руганью набросился на них и сказал, что раз они не хотят отвечать, то каждый из них будет осужден на смерть. Тогда Тимофей Косых выступил вперед и сказал:
– Я был выборным командиром четвертой сотни Второго Аргунского полка.
– Ага, очень приятно… А кто тебя выбирал на твою должность?
– Казаки.
– Какие такие казаки?
– Казаки четвертой сотни.
– Да как ты, негодяй, смеешь называть их казаками? Это изменники казачества, слуги большевистских комиссаров, а не казаки. Казаки были и есть у атамана Семенова, а в Красной гвардии их не было! Там были только предатели родины.


