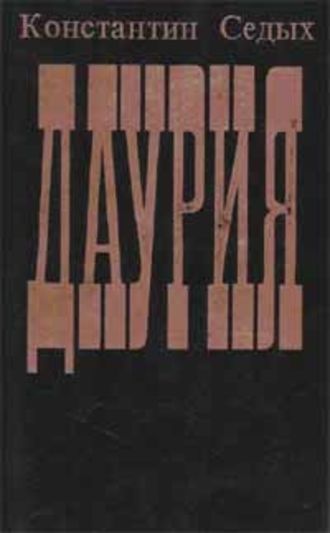
Константин Федорович Седых
Даурия
II
Едва управились мунгаловцы с сенокосом, как было получено предписание атамана отдела. В нем приказывалось начать в свободное от работы время строевое обучение молодых казаков, которым исполнилось по восемнадцать лет. Так набралось около сорока человек. Их разбили на два взвода, и каждое воскресенье, выбранные на сходке взводными командирами Петрован Тонких и Никифор Чепалов гоняли их по площади до седьмого пота. Из станичного арсенала Каргин привез учебные винтовки и пики. И холостежь, обученная шагистике, принялась постигать такую премудрость, как разборка и сборка ружейного затвора, зубрежка названия каждой из семи его частей, владение шашкой и пикой. Освободили от обучения только явных калек.
Роману не повезло. Угодил он во взвод Никифора, который относился к нему с нескрываемой неприязнью и донимал его не мытьем, так катаньем. Он следил за каждым его шагом, распекал и наказывал за малейшую ошибку. А наказание было известное – дополнительная порция шагистики и бега. Бегал Роман по площади, лило с него семь потов в то время, когда остальным давалась передышка. Никифор неотступно следил за ним, то и дело покрикивал:
– Бегом, шагом!.. Бегом, шагом! – Особенно старался он, когда за учением наблюдали старые казаки. Угодить на придиру-взводного было немыслимо. Роман терпел – и не вытерпел. Он попросил Каргина перевести его во взвод Петрована. Но Каргин только посмеялся над его просьбой. Узнавший об этом Никифор решил окончательно доконать Романа. С каждого занятия уходил Роман в мокрой рубашке, с подсекавшимися от усталости ногами. Он заметно осунулся, стал неразговорчивым и раздражительным.
Однажды Никифор придрался к нему за неправильно сделанный ружейный выпад. Роман возмутился и запальчиво крикнул:
– Что ты все придираешься и придираешься! Не по правде ведь это. Вон ваш Алешка всем на пятки наступает, а ты ему ни слова.
Никифор топнул ногой, замахал кулаками.
– Молчать!.. Молод, чтобы меня учить… Слушай мою команду… Налево кругом!
Роман потемнел от бешенства, но команду выполнил. Никифор приказал ему отойти к забору и стать на часовую выстойку под шашку. Ребятишки, которые постоянно торчали на площади, немедленно окружили Романа. Они сгорали от любопытства узнать, за что он наказан.
Но самое неприятное было впереди. Скоро в церкви кончилась обедня, и оттуда густо повалил народ. Увидев наказанного Романа, многие захотели взглянуть на него поближе. Проходя мимо, одни насмехались, другие притворно сочувствовали. Лицо Романа горело, шея покрылась липким потом, ныли от напряжения ноги, и все чаще подрагивал в занемевшей руке клинок. Он глядел на проходивших мимо людей, и они сливались в его глазах в цветные пятна, а их голоса доходили до него, как из-под земли. Никифор издали наблюдал за ним.
Разодетые в чесучу и сукно богачи с Царской улицы остановились поглядеть на Романа. Платон Волокитин с усмешкой кинул ему:
– Что, как бык, в землю уставился? Стыдно роже-то небось? Ну-ну, поморгай своими непутевыми глазами. Никифор не отец, он тебя живо уму-разуму наставит.
Роман заскрежетал зубами от бешенства и насилу удержался от искушения броситься на Платона с клинком. Сам не замечая того, переступил он с ноги на ногу, и из груди его вырвался вздох. Никифор немедленно подбежал к нему, принялся грозить:
– Ты у меня не топчись, не то еще часок прибавлю.
– Так его, Никифор, так! – прорычал Платон.
В это время от церкви подошли низовские казаки, соседи Улыбиных. Семен Забережный протолкался вперед, хрипло спросил Никифора:
– Представление устраиваешь?.. Эх ты, как был сукой, так сукой и остался.
– Ну-ну, полегче! – огрызнулся Никифор. – Не тебе меня учить, как службу исполнять. Проходи давай!
Семен передернул плечами, подошел к Никифору вплотную:
– Что-то на войне ты не такой храбрый был. Чего здесь расхрабрился? Шибко не задавайся, командира из себя не строй. Ты ведь, паря, тыловая крыса, писарская душа, а не командир. Тебя самого надо семь лет учить, пока из тебя казак получится.
Низовские дружно захохотали, верховские насупились, притихли. Связываться с Семеном охотников не находилось. Никифор растерянно глядел на Семена, не зная, что ему ответить. К толпе подошел Каргин. Никифор бросился к нему, начал жаловаться на Семена. Каргин выслушал его, недовольно хмурясь и покусывая кончик уса, потом спросил Семена:
– Какого черта занятиям мешаешь?
– Тут не занятия, а цирковое представление, – показал Семен на Романа, – Никифор фокусы над Ромкой устраивает. На посмешище его выставил.
– За что наказал парня? – повернулся Каргин к Никифору.
– Плохо соображает, весь взвод мне портит.
– Не он тебе взвод портит, а ваш кривопятый Алешка. Ромку хоть сейчас в гвардию, а из Алешки обозника даже не выйдет.
– Верно… У него одни сынки, другие пасынки, – поддержали Семена низовские. – Такого командира поганой метлой гнать надо.
Каргин, не говоря ни слова, повернулся к Роману:
– Казак Улыбин! Стоять вольно! – Роман радостно вздрогнул, опустил клинок и, переводя дыхание, ловко кинул его в ножны. «Молодец», – отметил про себя Каргин и приказал ему:
– Иди к Петровану и скажи, что я перевел тебя в его взвод.
Довольный таким оборотом, Семен выразил Каргину свое одобрение:
– Правильно поступил, атаман! Писарям в таком деле потакать нечего.
Но верховские загудели все разом. Платон зычно забасил:
– А по-нашему – неправильно. Ты, атаман, из Никифора дурака сделал. Где же у тебя дисциплина? Так с парнями сам черт не сладит.
Ободренный заступничеством верховских, Никифор опрометчиво напал на Каргина:
– По Сенькиной дудке, Елисей, пляшешь? Я старший урядник и георгиевский кавалер. Нечего было меня перед каким-то сопляком позорить.
Каргина это взорвало. Он решил круто оборвать Никифора, показать ему, что не живет чужим умом. Опалив его тяжелым взглядом, Каргин приказал:
– Урядник Чепалов!
– И без тебя знаю, что урядник, – горячился Никифор, не желая уняться. Властно и жестко Каргин усмирил его:
– Приказываю стоять смирно! Ты разговариваешь не с приятелем, а с атаманом.
Неожиданный окрик сразу образумил Никифора. Он отшатнулся назад, кинул руки по швам и замер. Отчеканивая каждое слово, Каргин принялся распекать его:
– Много думаешь о себе… Ур-рядник! А знаешь, что ты наделал, господин георгиевский кавалер? Закон переступил, вот что… Пока не принял казак присягу, его даже генерал не смеет под шашку поставить, а ты поставил. Должно быть, по гауптвахте заскучал? Не бойся, за это как миленькому тридцать суток приварят, если делу ход дать. Понятно?
– Я ведь их не знаю, законов-то. Мое дело – обучать казака, раз я на то поставлен.
– А раз не знаешь, так не говори, что я по чужой дудке пляшу… Можешь идти.
Никифор отошел от него и смешался с толпой верховских. Провожая его взглядом, Каргин заметил, что его оттопыренные уши краснели, как раскаленные пятаки. «Не понравилась, видать, проборка уряднику», – позлорадствовал Каргин про себя, но, вспомнив, что это означало ссору с Чепаловыми, стал обвинять себя в излишней горячности. Ссориться с ними без особой в том надобности не следовало.
Пока донимал он Никифора, на площадь пришел Северьян, которому сообщили низовские ребятишки, что Роман поставлен под шашку. Шел Северьян затем, чтобы поругать и постыдить сына. Но узнав, что наказал его Никифор напрасно, он вздохнул с облегчением. В это время и увидел его Каргин. Досадуя на свою ссору с Никифором, он подошел к Северьяну и на нем излил свою досаду.
– Купил сыну коня?
– Не успел, Елисей Петрович. Только-только с сенокосом управился.
– О чем же ты думаешь? На кого надеешься? – повысил голос Каргин. – Даю тебе сроку четыре недели. Вывертывайся, как тебе угодно, а коня заводи. Я за тебя отвечать не хочу.
– Достаток, Елисей Петрович, не позволяет, а то я тянуть не стал бы.
– Брось прибедняться. Многие не лучше тебя живут, а сыновей справили… Смотри, через четыре недели проверю, – сухо бросил на прощание Каргин.
Проводив его взглядом, Северьян пожаловался соседям:
– Вот загвоздка! Прямо хоть быков со двора своди.
– А как без быков жить станешь? – спросил Семен.
Северьян удрученно пожал плечами.
– Да, без быков пшеничных булок не поешь. И чего это Каргин несет на меня? Мог бы до нового хлеба повременить, а он – вынь да положь.
– Атаман… Власть свою показывает… Да и где ему понять, если у него посеву тридцать десятин, а у тебя от силы восемь.
В тот вечер Улыбины долго совещались всей семьей. Северьян горячился, ругал войну, атамана и богачей, которые ехидно посмеивались, когда разносил его Каргин. Авдотья во всем поддакивала ему. Но едва он заикнулся о продаже быков, как она напустилась на него и твердо заявила, что продать их не даст.
– Тогда придется Гнедого и одну из коров на базар выводить.
– И корову не дам, – закричала она, – их у нас не десять, а две. От одной мы молока в глаза не увидим.
– Опять двадцать пять, – развел Северьян руками. – А что же тогда нам делать?
Авдотья уткнула лицо в ладони и запричитала навзрыд. Вволю наплакавшись, сказала:
– И быков мне жалко, и коровы… Не могу я… сами решайте.
Андрей Григорьевич все время помалкивал. Искать выход он предоставил сыну и невестке. Но, видя, что они никак не договорятся, сокрушенно вздохнул и вынес решение:
– Продадим корову и Гнедого. Жалко с ними расставаться, только вы не жалейте. Зубы стисните, а не жалейте. Сына на службу надо с легким сердцем снаряжать, иначе отвернется от него в бою ангел-хранитель. Этому меня еще отец с матерью учили, а им тоже родители так наказывали.
Через три дня приискатель из Шаманки купил улыбинскую корову-пеструху. Когда он выводил ее из ограды, Авдотья, до крови закусив губу, стояла на крыльце и смотрела ему вслед сухими и темными от горя глазами. А еще через неделю не стало в улыбинской усадьбе и Гнедого. Оставшийся в одиночестве Сивач по вечерам тоскливо ржал во дворе. Роман глядел на него и острая печаль щемила ему сердце. Заходя во двор, чтобы кинуть Сивачу травы, он с горечью находил на пряслах забора, там, где чесался во время весенней линьки Гнедой, клочки его пыльной шерсти.
III
Покупать коня Улыбины поехали в Нерчинский Завод. Они пригласили с собой Герасима Косых, любителя и знатока лошадей. Выехали налегке. Роман кучерил, а отец и Герасим дремали в задке тарантаса. Еще по утреннему холодку добрались до места. Северьян первым делом повел Герасима в китайскую харчевню. Они выпили по чашке рисовой водки, закусили пампушками и варенной на пару свининой. Роман дожидался их на крыльце. Вышли они оттуда оба красные и разговорчивые. Герасим хлопнул Романа по плечу:
– Ну, Ромка, коня тебе выберу ай да люли!
– Дай Бог, – сказал Северьян.
На базаре уже шумел и толкался народ. В праздничной пестрой толпе мелькали белые войлочные шапки караульских казаков, рыжие бороды здоровяков-староверов, соломенные шляпы хохлов, цветные рубахи цыган и синие далембовые курмы китайцев, Скрипели телеги, ржали лошади, гортанно кричали китайцы, хлопали бичами цыгане. Над базаром носились голуби. В церкви звонили колокола.
Северьян и Герасим прошли через весь базар, огляделись, Роман не отставал от них. За мучными лабазами пахло свеженакошенной травой, навозом. На крайней от дороги телеге стоял скуластый, с вислыми усами караулец. К задку телеги был привязан вороной конь. Караулец указывал на него кнутовищем и нараспев кричал:
– Кому строевого коня – ходи до меня!..
Конь был рослый и статный, с белой звездой на лбу. Гладкая шерсть его лоснилась на солнце. Герасим подошел к коню, проворно ощупал бабки и копыта. Потом потрогал крутой зашеек, надавил кулаком на левый пах и мимоходом заглянул в зубы. Караулец молча наблюдал за ним. Когда он закончил осмотр, караулец с видом превосходства осведомился:
– Ну как, хорош?
– Хорош воду возить.
– Ты, брат, оказывается, шутник, – захохотал караулец и замахнулся на Герасима бичом. – Давай уходи, пока я тебя через всю спину бичом не вытянул.
– Не пори горячку, сват, – погрозил ему Герасим. – Меня не проведешь. Бракованный твой конь по двум статьям. На заднем копыте у него венечная трещина. Замазал ты ее варом, да плохо. А второго изъяна, хвати, так ты и сам не знаешь.
Караулец сразу присмирел и завял. С минуту он боролся с собой, потом расплылся в улыбке, завистливо похвалил Герасима:
– Ну чертушка ты! У змеи и у той ноги найдешь… Скажи-ка, что еще за изъян у коня?
– В колене правой передней ноги небольшая опухоль. Сейчас она махонькая, но ежели коня не поберечь – разрастется и воспаление даст. Прикладывай к ней горячие отруби, ежели никого не околпачишь сегодня.
– А с копытом что делать?
– Береги от мокра и грязи…
Пошли дальше. Внимание Романа привлек к себе светло-рыжий с волнистой гривой на обе стороны конь. Приглянулся конь и Герасиму. Он осмотрел его, ощупал и, не спросив цены, пошел прочь. Роман догнал его, раздраженно спросил:
– Разве и этот негодный?
– С шулятной грыжей, паря, годных не бывает. А у этого застарелая. Надсади его самую малость – и готов.
Больше двадцати лошадей осмотрел Герасим, прежде чем остановил свой выбор на гнедом четырехлетке, горбоносом, с сухой головой.
– Этот подойдет, – шепнул он Северьяну. – Ежели цена по тебе – покупай.
Роман услыхал и насупился. Конь ему не понравился. Был он какой-то угловатый, длинный и казался старше своего возраста. Пока отец запрашивал хозяина о цене, Роман с сердцем сказал Герасиму:
– С таким конем куры на смех подымут.
– Не брыкайся, паря, не придуривай. Гнедко хорош. Он как из целого куска выкован. Такому в воинском деле цены нет. Пусти его погулять на месяц, и он тебе свою цену покажет. На тонконогих за таким не угонишься.
Хозяин гнедого оказался несговорчивым. Запросил цену и не сбавлял. Три раза отходили от него покупатели и возвращались обратно. Рядились с божбой и руганью, хаяли коня с великим усердием. Всякий раз Герасим находил у него новые недостатки. Наконец хозяин сбавил десятку, и тогда ударили по рукам. Северьян достал бумажник. Когда отсчитывал деньги, руки его дрожали, и Роману было неприятно глядеть на него. Трижды пересчитав деньги, Северьян для верности дал пересчитывать Герасиму и только после этого с тяжелым вздохом вручил их хозяину. Тот в свою очередь пересчитывал деньги до того, что вспотел…
Надев на коня улыбинский недоуздок, хозяин передал его повод Роману, прослезился и сказал:
– Бери, парень, владей. Ни в жизнь бы я с ним не расстался, да нужда пристигла. А конь такой, что ты мне не раз спасибо скажешь.
Спрыснуть покупку Северьян и Герасим снова зашли в харчевню. Когда поехали домой, Роману пришлось их силой усаживать в тарантас. В тарантасе отец все время лез целоваться к Герасиму. Только выехали за город, как он закричал на Романа:
– Остановись! – Роман остановил лошадей, спросил в чем дело. – Слезай! – приказал отец. – Надо купленного в хомуте испытать. Запряги мне его коренным.
– Что ты, Северьян, – начал увещать его Герасим. – Так, паря, не делают. Не успел купить – и сразу в хомут. Ты его в свои ворота на поводу введи. А чтобы не тосковал он на новом месте – шелковый кушак на воротах расстели.
– Тогда давай я на него верхом сяду.
– Да ведь у нас седла нет.
– А я и без седла могу, – куражился Северьян, – я джигитовать умею. Я на смотрах призы завсегда брал.
– Ты лучше выпей еще маленько, – подал ему Герасим купленный про запас шкалик.
– И выпить могу… Я все могу, – тянул тот заплетающимся языком, через силу ворочая головой. После добавочной выпивки его совсем развезло. Блаженно улыбаясь, привалился он к стенке тарантаса и попробовал петь. Но тут же уронил голову на грудь, вытянул ноги и начал высвистывать носом. Герасим повернул его на бок, прикрыл ему голову пучком травы и сказал Роману:
– Слаба ваша родова насчет вина.
– А ваша разве лучше?
– Сравнил тоже, – обиделся Герасим. – Я моложе был, так тюрю из водки делал. Вылью, бывало, в миску две бутылки, накрошу туда хлеба, сверху перчиком сдобрю и хлебаю себе на здоровье. И чтобы опьянел – никогда не было.
Занятый раздумьем, Роман усмехнулся, но ничего ему не ответил.
Дома их нетерпеливо дожидались. Сразу же после обеда Андрей Григорьевич вынес на крыльцо табуретку, уселся поудобней и стал поглядывать на заречный хребет, по которому вилась дорога из Нерчинского Завода. Авдотья за день дважды гадала на сите. Оба раза сито, подвешенное на веревочке, повернулось по ходу солнца. Это предвещало удачу. Она повеселела и начала прибираться по дому. На закате ее позвал с крыльца Андрей Григорьевич.
– Кажись, едут, – сказал он. – Ну-ка, погляди давай, у тебя глаза поострее.
Авдотья прислонила к глазам ладонь, долго и пристально разглядывала спускавшуюся к Драгоценке тройку. Потом уверенно проговорила:
– Они самые. Купленного коня у оглобли ведут. Надо встречать.
Она побежала в горницу, принарядилась. Захватив с собой два шелковых кушака и ломоть ржаного хлеба, выбежала в ограду. Андрей Григорьевич широко распахнул ворота. Она расстелила по земле кушаки.
Роман лихо подкатил к воротам, круто осадил лошадей. Северьян и Герасим вылезли из тарантаса, приосанились. Андрей Григорьевич, прямой и торжественный, подошел к телеге, отвязал коня и повел его в ворота. Конь прошел в ворота, наступив на кушаки. Все обрадовались, оживленно заговорили. Примета была хорошая. Андрей Герасимович скормил коню поданный Авдотьей ломоть, ласково потрепал его по шее.
– Суховат, но вынослив. Добрым строевиком будет… Спасибо, Герасим, постарался.
Поглядеть на коня пришли дружки Романа. Они смотрели ему в зубы, ощупывали копыта и бабки и поздравляли Романа с покупкой.
Когда старики ушли в дом, Данилка Мирсанов отозвал Романа в сторону. Щуря в усмешке масляные глаза, подал ему треугольный, залепленный серой конверт.
– Это тебе с глазу на глаз Агапка Лопатина велела передать… Догадываешься от кого?
Роман отрицательно помотал головой и почувствовал, что краснеет. Ему стало совестно, словно уличил его Данилка в чем-то дурном. Он спрятал письмо в карман. Читать его не торопился. Никакой радости письмо не сулило. В нем могли быть только упреки и жалобы. Он пробежал его только после ужина. Но упреков и жалоб не было в письме. Дашутка только хотела обязательно его видеть и просила прийти за чепаловский огород, когда стемнеет. Но он не пошел туда и сделал это без всяких колебаний.
IV
В успеньев день в Мунгаловском был престольный праздник. Праздник начинался молебном и заканчивался гулянкой. Считалось зазорным не погулять в такой день, не иметь полного дома гостей. Самый последний бедняк тянулся изо всех сил, чтобы иметь в этот день и еду и выпивку. Но война поубавила наплыв гостей, и хлебосольные мунгаловцы остались недовольны своим праздником.
Молебен на сопке начался поздно. Все утро ждали гостей, а они не ехали. Почти все посёльщики собрались к полудню у белой часовенки. Священник Степан долго морил их на сопке. Надеясь, что гости еще подъедут, он не начинал богослужения. Малое стечение народа обещало ему жалкий кружечный сбор. Поэтому он терпеливо коротал время под кустиком дикой яблони в окружении дьякона, псаломщика и церковного старосты. Кругом них по склонам сопки сидели, стояли и лежали на траве живописные праздничные группы казаков и казачек. Под сопкой с веселым гомоном купались в Драгоценке ребятишки.
День был жаркий, жгуче блещущий. Ярко отсвечивала зелень листвы и трав, сверкали на горизонте белые терема облаков, ослепительно синело небо. Истомленные зноем мунгаловцы наконец не вытерпели и послали к отцу Степану двух благообразных стариков с требованием начинать молебен. Отец Степан поглядел на солнце, на жиденькие группы своих прихожан и уныло произнес:
– Да, кажется, пора, – но сам не торопился подыматься. Только когда один из стариков сказал, что так и последний народ разойдется, встал он с нагретой травы и стал облачаться в свою, как начищенный самовар, сияющую одежду. Увидев это, люди со всех сторон заторопились к часовенке.
Роман и Данилка и еще несколько парней лежали на западном склоне сопки под весело лопотавшими на ветерке березками. Изредка они лениво перебрасывались словами. Когда начался молебен, никто из них и не подумал тащиться к часовенке. Вместо этого они растянулись поудобней на теплой черной земле, от которой исходил крепкий и острый душок богородской травы. От часовенки доносились к ним приглушенные расстоянием голоса: то монотонный, навевающий дремоту тенорок отца Степана, то сотрясавшая знойный воздух рокочущая октава дьякона.
Роман лежал на боку, подперев рукой свою стриженую голову, и глядел вниз на долину. Плавленым золотом горели там изгибы Драгоценки, кусты и зароды сена. По дороге на сопку он увидел в толпе казачек нарядную, но какую-то приниженную и внутренне изломанную Дашутку и думал теперь о ней. Жилось ей, по-видимому, неизмеримо горше, чем ему. Была она сейчас как придорожная березка, которую мимоходом задело и тяжело поранило пыльное колесо. Гнется, вянет березка, и неизвестно, суждено ли ей распрямиться и зазеленеть вновь. После своего возвращения из больницы он не встречал Дашутку до сегодняшнего дня. Он всячески избегал тех мест, где была хоть малейшая возможность столкнуться с ней. Одно упоминание ее имени заставляло его жестоко страдать, пробуждало в нем чувство тоски, не совсем осознанной ненависти к Дашутке. Порой он так ее ненавидел, что желал ей смерти. И недавнее письмо ее принесло ему только тягостное раздражение. Но нечаянная встреча по дороге на сопку произвела в нем бурный переворот. Разительная перемена, происшедшая с Дашуткой, породила к ней чувство жалости, показало меру ее страданий. Дашутка напомнила и осветила новым светом все, что он с удовольствием забыл бы навсегда, как страшный сон. Но жалость, запавшая в сердце, не осталась бесследной. Тотчас же Роман поймал себя на желании узнать, зачем искала Дашутка свидания с ним…
Чтобы рассеять свои гнетущие мысли, он поднялся и стал звать парней купаться на Драгоценку.
– Подожди. Кончится молебен, тогда и пойдем. А то старики ругаться будут, – отозвался за всех Данилка.
– Ну, как хотите, а я пошел, – и Роман начал спускаться в долину по крутому каменистому склону, придерживаясь за верхушки вишнево-красной горной таволожки.
На Драгоценке он выбрал погуще кусты, разделся и с высокого берега бросился в воду. Он еще не выкупался, когда молебен кончился. Народ начал расходиться с сопки. Старики заторопились в поселок, а молодежь с веселыми криками ринулась к Драгоценке. Роман поспешил одеться. Ему не хотелось толкаться среди парней, и он направился вниз по берегу Драгоценки. В тенистом черемушнике одной из излучин он вырезал палку и стал мастерить из нее костыль. Там и наткнулись на него Агапка с Дашуткой. Они пришли купаться и искали безлюдное место. Заслышав шаги, Роман поднялся и очутился лицом к лицу с Дашуткой. Она испуганно отшатнулась, побелела. Овладев собой, медленно проговорила:
– Не подумай, Роман Северьяныч, что тебя мы искали, а то еще начнешь задаваться…
Роман стоял и не знал, что ей ответить. Она уничтожающе смерила его с ног до головы сощуренными глазами, повернулась и пошла прочь. Агапка, с испугом и удивлением наблюдавшая за ними, молча покачала головой и бросилась догонять ее.
С безнадежно испорченным на весь день настроением вышел Роман из кустов. Далеко впереди себя увидел он идущих через овсяное поле Дашутку с Агапкой. Алый Дашуткин платок горел на солнце, как капли крови, и сердце Романа болезненно сжалось.
Домой он пришел позже всех. В ограде он увидел отца, запрягавшего в тарантас лошадей. На крыльце, одетый по-дорожному, стоял Андрей Григорьевич с заплаканными глазами.
– Вы это куда? – спросил Роман у отца.
– В Орловскую. Нынче через нее нашего Василия поведут. Его ведь, брат, на поселение погнали… Надо с ним свидеться, ежели удастся.
– Тогда и я с вами. Мне тоже интересно на дядю поглядеть.
– Поедем. Садись за кучера, – согласился отец и стал подсаживать в тарантас Андрея Григорьевича.
Роман быстро взобрался на козлы, взялся за вожжи.
– Ну, держись. Прокачу с ветерком!.. – сказал он отцу и деду и взмахнул бичом.
Через сорок минут Улыбины уже подъезжали к Орловской. Но как ни торопились они, а Василия не застали. Сопровождавшие его солдаты конвойной команды не разрешили ему даже напиться в станице чаю.
Во время короткой остановки, пока перепрягали лошадей, успел Василий шепнуть знакомому писарю Шароглазову, что увозят его в Якутскую область.
Поздно ночью, удрученные неудачей, Улыбины вернулись домой. Расстроенный Андрей Григорьевич к утру расхворался и трое суток лежал, не подымая головы.
Оживило его неожиданно полученное письмо от Василия. Василий послал это письмо с ямщиком, который вез его от Орловской до Газимурского Завода.
Собрав всех семейных, приказал Андрей Григорьевич Роману вслух прочитать письмо. Унимая волнение, уткнулся Роман в торопливо написанные карандашом размашистые строки и не оторвался, пока не дочитал их до конца.
«Дорогой отец! – писал Василий. – Был я твердо уверен, что повидаюсь наконец-то с тобой и дорогим моим братом Северьяном Андреевичем. Но случилось так, что в самую последнюю минуту конвойных, которые обещали мне это устроить, заменили другими. Предупредить Вас об этом я уже не мог, а свидеться с Вами мне так хотелось.
Я убежден, что Вы считаете меня глубоко несчастным человеком. Но я по-своему счастлив и не жалуюсь на судьбу. Увозят меня от родимых мест, увозят далеко на север, а мне кажется, что я уезжаю навстречу самой лучшей весне моей жизни.
Судя по всему, что делается сейчас на белом свете, ссылка моя не будет долгой. В этом я твердо уверен и надеюсь, что еще встречусь с Вами.
Крепко Вас обнимаю и целую. Поклонитесь от меня Авдотье Петровне и племянникам моим Роману и Гавриилу Северьяновичам. Когда случится в жизни русского народа долгожданная перемена к лучшему, я не сомневаюсь, что они поймут и одобрят своего дядю. Тогда они узнают всю правду обо мне и о многих тысячах тех людей, которые томятся сегодня в тюрьмах и ссылке.
Еще раз всем Вам низко кланяюсь, желаю здоровья и душевной твердости.
Ваш Василий».
Прослушав письмо Андрей Григорьевич взял его у Романа и долго молча рассматривал в нем каждую строчку. Потом бережно свернул, вложил в конверт и передал Северьяну:
– Спрячь его, сын, на божницу. Порадовал меня Васюха, шибко порадовал. Нет, вижу я, что с пути он не сбился. Свела его, видно, жизнь не с ворами и мошенниками, а с большими людьми, дай им Господь здоровья. Теперь, если и не дождусь его, умру спокойно.


