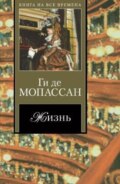Ги де Мопассан
Милый друг
Дюруа от нечего делать устремил взор на стены, и Вальтер издали спросил его, с явным желанием похвастаться своим добром:
– Вы рассматриваете мои картины? – подчеркнув при этом слово «мои». – Я вам сейчас покажу их.
И он взял лампу, чтобы можно было разглядеть все детали.
– Здесь пейзажи, – сказал он.
В центре висело большое полотно Гийома[10], изображавшее нормандское побережье во время грозы. Под ним – «Лес» Арпиньи[11], затем «Алжирская равнина» Гийоме[12], с верблюдом на горизонте, с большим верблюдом на длинных ногах, похожим на какой-то странный монумент.
Вальтер перешел к следующей стене и возвестил тоном церемониймейстера:
– Великие мастера!
Это были четыре картины: «Посещение больницы» Жерве[13], «Жница» Бастьен-Лепажа[14], «Вдова» Бугро[15] и «Казнь» Жан-Поля Лорана[16]. Последняя картина изображала вандейского священника, которого расстреливал у церковной ограды отряд «синих»[17].
Улыбка пробежала по серьезному лицу патрона, когда он перешел к следующей стене.
– Здесь легкий жанр, – сказал он.
Прежде всего бросалась в глаза небольшая картина Жана Беро[18] под названием «Вверху и внизу». Она изображала хорошенькую парижанку, взбирающуюся по лесенке едущего трамвая. Ее голова – уже на уровне империала, и мужчины, сидящие на скамейке, с жадным любопытством приветствуют появление юного личика, в то время как стоящие внизу, на площадке, смотрят на ноги молодой женщины с различным выражением лица – одни с досадой, другие с вожделением.
Вальтер, держа лампу в руке, повторял с лукавым смешком:
– Каково? Забавно? Правда ведь забавно?
Затем он осветил «Спасение утопающей» Ламбера[19]. Посреди обеденного стола, после трапезы, котенок, присев на задние лапки, с недоумением и беспокойством рассматривает муху, попавшую в стакан воды. Он уже поднял одну лапку, готовясь схватить муху быстрым движением. Но еще не решился, колеблется. Что-то он сделает?
Затем патрон показал «Урок» Детайля[20], изображающий солдата в казарме, обучающего пуделя бить в барабан. При этом он заметил:
– Остроумно!
Дюруа одобрительно смеялся и восхищался:
– Прелестно, прелестно, пре…
Он внезапно умолк, услыхав позади себя голос госпожи де Марель, которая только что вошла.
Патрон продолжал освещать картины, комментируя их.
Теперь он показывал акварель Мориса Лелуара[21] «Препятствие». Она изображала портшез, которому преграждал путь бой двух уличных молодцов, дравшихся, как геркулесы. Из окошечка портшеза выглядывало очаровательное женское личико, смотревшее… смотревшее… без нетерпения, без страха, даже с некоторым восхищением на борьбу этих скотов.
Вальтер продолжал:
– У меня есть картины еще в других комнатах, но они принадлежат кисти менее знаменитых художников. Здесь – мой «Квадратный зал». Сейчас я покупаю произведения молодых, совсем молодых художников и держу их пока в задних комнатах, ожидая, когда авторы их прославятся.
Затем он произнес шепотом:
– Сейчас самый подходящий момент покупать картины. Художники подыхают с голоду. Они все сидят без гроша… без гроша…
Но Дюруа ничего не видел и слушал, не понимая. Госпожа де Марель была здесь, позади него. Что ему делать? Поклониться? А вдруг она отвернется от него или скажет ему какую-нибудь дерзость? Но если он не подойдет к ней, что подумают окружающие?
Он решил: «Во всяком случае, надо выиграть время». Он был так взволнован, что подумал даже, не притвориться ли ему больным и не уйти ли домой.
Осмотр картин был закончен. Патрон поставил лампу на место и пошел здороваться с новой гостьей, между тем как Дюруа, уже один, снова принялся рассматривать картины, точно он никак не мог насмотреться на них.
Он терял голову. Что ему делать? Он слышал голоса, отрывки разговора. Госпожа Форестье позвала его:
– Послушайте, господин Дюруа.
Он поспешил к ней. Она хотела его познакомить с одной своей приятельницей, которая устраивала бал и желала, чтобы об этом появилась заметка в хронике «Ви Франсез».
Он пробормотал:
– Непременно, сударыня, непременно.
Госпожа де Марель находилась теперь совсем близко от него. Он не осмеливался повернуться, чтобы уйти.
Вдруг ему показалось, что он сошел с ума, – она сказала громко:
– Здравствуйте, Милый друг! Что это, вы не хотите меня узнавать?
Он стремительно обернулся. Она стояла перед ним, улыбаясь, глядя на него весело и приветливо. И протягивала ему руку.
Он взял ее, трепеща, опасаясь какой-нибудь хитрости или ловушки. Она прибавила искренне:
– Что с вами случилось? Вас совсем не видно.
Он залепетал, тщетно стараясь овладеть собой:
– У меня была масса дел, масса дел. Господин Вальтер возложил на меня новую обязанность, которая требует от меня бездны работы.
Продолжая прямо смотреть на него, причем во взгляде ее он не мог прочесть ничего, кроме расположения, она ответила:
– Я знаю, но это не основание забывать своих друзей.
Их разлучило появление толстой дамы, декольтированной, с красными руками, с красными щеками, одетой и причесанной с претензией на изящество; она ступала так грузно, что при каждом шаге чувствовалась увесистость ее ляжек.
Заметив, что ей оказывают большое внимание, Дюруа спросил у госпожи Форестье:
– Кто эта особа?
– Виконтесса де Персемюр, подписывающаяся «Белая лапка».
Он был поражен и едва удержался от того, чтобы не расхохотаться.
– «Белая лапка»! «Белая лапка»! А я-то представлял себе молодую женщину вроде вас! Так вот она какая. «Белая лапка»! Да, она недурна! Недурна!
Слуга, появившийся в дверях, возвестил:
– Кушать подано.
Обед был банален и весел. Это был один из тех обедов, на которых говорят обо всем и ни о чем. За столом Дюруа оказался между старшею некрасивою дочерью патрона Розой и госпожою де Марель. Соседство последней его несколько смущало, хотя у нее был очень непринужденный вид и она болтала со свойственным ей остроумием. Вначале он стеснялся, чувствовал себя неловко, неуверенно, словно музыкант, потерявший верный тон. Но мало-помалу уверенность вернулась к нему, и взгляды их, беспрестанно встречаясь, вопрошали друг друга и сливались с прежней, почти чувственной интимностью.
Вдруг он почувствовал, как что-то коснулось под столом его ноги. Он сделал осторожное движение и встретился с ногой соседки, не отстранившейся при этом прикосновении. В этот момент они не разговаривали друг с другом, обернувшись каждый к своему соседу по другую сторону.
Дюруа, с бьющимся сердцем, еще немного подвинул свое колено. Ему ответили легким пожатием. Тогда он понял, что их связь возобновится.
О чем они говорили потом? О пустяках. Но их губы дрожали всякий раз, когда они взглядывали друг на друга.
Молодой человек, желая все же быть любезным с дочерью своего патрона, время от времени обращался к ней с какой-нибудь фразой. Она отвечала так же, как ее мать, никогда не задумываясь над ответом.
По правую руку Вальтера с видом принцессы сидела виконтесса де Персемюр. Дюруа еле удерживался от смеха, глядя на нее; он тихонько спросил у госпожи де Марель:
– Вы знаете другую, ту, которая подписывается «Розовое домино»?
– Да, отлично знаю, баронесса Ливар.
– Та тоже в таком роде?
– Нет. Но такая же забавная шестидесятилетняя старуха, сухая, как палка, с накладными буклями, со вставными зубами – туалеты и суждения времен Реставрации…
– Где они выкопали этих литературных чудовищ?
– Обломки знати всегда встречают хороший прием в среде разбогатевших буржуа.
– И это единственная причина?
– Единственная.
Затем между патроном, обоими депутатами, Норбером де Варенном и Жаком Ривалем завязался политический спор, продолжавшийся вплоть до десерта.
Когда гости снова перешли в гостиную, Дюруа опять подошел к госпоже де Марель и, заглянув ей в глаза, спросил:
– Вы позволите мне проводить вас сегодня?
– Нет.
– Почему?
– Потому что мой сосед Ларош-Матье отвозит меня домой каждый раз, как я здесь обедаю.
– Когда я вас увижу?
– Приходите завтра ко мне завтракать.
И они расстались, ничего больше не сказав. Дюруа скоро ушел, найдя вечер скучным. Спускаясь по лестнице, он нагнал Норбера де Варенна, который тоже уходил. Старый поэт взял его под руку. Не опасаясь больше соперничества молодого человека в газете, так как они работали в совершенно различных областях, он проявлял теперь к нему стариковскую благосклонность.
– Не проводите ли вы меня немного? – сказал он.
Дюруа ответил:
– С удовольствием, дорогой мэтр.
И они медленно пошли по бульвару Мальзерб. Париж был почти безлюден в эту ночь. Это была холодная ночь, одна из тех ночей, когда пространство кажется необъятнее, звезды выше, когда в воздухе веет ледяное дыхание, несущееся откуда-то из далеких сфер, еще более далеких, чем небесные светила.
Первые минуты они оба молчали. Потом Дюруа, чтобы сказать что-нибудь, произнес:
– Этот Ларош-Матье производит впечатление очень умного и образованного человека.
Старый поэт пробормотал:
– Вы находите?
Молодой человек удивился и нерешительно сказал:
– Да; говорят, что он один из самых даровитых людей в палате.
– Возможно. Среди слепых и кривой кажется королем. Все эти люди – ничтожества, так как все их мысли заключены между двумя стенами – между наживой и политикой. Это, мой милый, ограниченные люди, с которыми невозможно ни о чем говорить, ни о чем из того, что нам дорого. Ум их заплесневел, застоялся, как Сена у Аньера. Ах, как трудно найти человека с размахом мысли, дающим вам ощущение необъятного простора, какое испытываешь на берегу моря! Я знавал нескольких таких людей – их уже нет в живых.
Норбер де Варенн говорил ясным, но приглушенным голосом, который звонко зазвучал бы среди тишины ночи, если бы он дал ему волю. Он казался крайне взволнованным и печальным, охваченным той печалью, которая подчас гнетет душу, заставляя ее содрогаться, как содрогается земля на морозе.
Он продолжал:
– Впрочем, не все ли равно, немного больше или немного меньше ума – ведь все равно все исчезнет.
Он замолчал. Дюруа, у которого было очень легко на сердце в этот вечер, сказал, улыбаясь:
– Вы сегодня мрачно настроены, дорогой мэтр.
Поэт ответил:
– Это мое обычное настроение, дитя мое, и с вами будет то же через несколько лет. Жизнь – это гора. Пока взбираешься, смотришь на вершину и радуешься; но, достигнув вершины, неожиданно видишь спуск, в конце которого – смерть. Взбираешься медленно, а спускаешься быстро. В вашем возрасте человек настроен радостно. Он надеется на многое такое, что никогда не сбывается. В моем – не ожидаешь уже ничего… кроме смерти.
Дюруа засмеялся:
– Черт возьми, от ваших слов меня мороз по коже продирает.
Норбер де Варенн продолжал:
– Нет, сейчас вы меня не понимаете, но когда-нибудь вы вспомните мои слова.
Видите ли, наступает день, и для многих он наступает очень рано, когда смеху приходит конец, потому что позади всего, на что смотришь, начинаешь замечать смерть.
О! Сейчас вы даже не понимаете этого слова – смерть. В вашем возрасте оно – пустой звук, а в моем – оно ужасно.
Да, вдруг начинаешь понимать смерть, неизвестно почему и по какому поводу, и с этого момента все в жизни меняет свой облик. Вот уже пятнадцать лет, как смерть гложет меня, словно забравшийся в меня червь. Я чувствую, как постепенно, изо дня в день, из часа в час, она подтачивает меня, словно дом, который должен рухнуть. Она так изменила меня во всех отношениях, что я сам себя не узнаю. Во мне не осталось ничего напоминающего того бодрого, радостного и сильного человека, каким я был в тридцать лет. Я следил за тем, как она окрашивала мои черные волосы в белый цвет. И с какой злобной и искусной медлительностью! Она отняла у меня мою упругую кожу, мускулы, зубы, все мое прежнее тело и оставила мне только тоскующую душу, которую тоже скоро возьмет. Да, она искрошила меня, подлая! Незаметно и страшно, секунда за секундой, работала она над разрушением всего моего существа. И теперь я чувствую смерть во всем, к чему бы я ни прикоснулся. Каждый шаг приближает меня к ней, каждое движение, каждый вздох ускоряет ее отвратительную работу. Дышать, спать, пить, есть, работать, мечтать – все это значит умирать. В конце концов, жить – это тоже значит умирать.
О, вы узнаете все это! Если бы вы подумали об этом хоть четверть часа, вы бы все поняли… Чего вы ждете? Любви? Еще несколько поцелуев – и вы утратите способность ею наслаждаться. Чего еще? Денег? Для чего? Чтобы покупать женщин? Завидная доля! Чтобы объедаться, жиреть и кричать напролет целые ночи от припадков подагры?
Еще чего? Славы? К чему она, когда уже ушла любовь?
Ну а что же после всего этого? В конце концов всегда смерть.
Я вижу теперь смерть так близко, что у меня часто бывает желание протянуть руку и оттолкнуть ее. Она покрывает всю землю и заполняет пространство… Я встречаю ее всюду. Насекомые, раздавленные посреди дороги, осыпающиеся листья, седой волос в бороде друга – все это терзает мне душу и кричит: «Вот она!»
Она отравляет мне все, что я делаю, все, что я вижу, все, что я ем и пью, все, что я люблю, – лунный свет, восход солнца, необъятное море, прекрасные реки, воздух летних вечеров, дышать которым так сладко!
Он шел медленно, слегка задыхаясь, грезя вслух, почти забыв о том, что кто-то его слушает.
Он продолжал:
– И никогда ни одно существо не возвращается назад, никогда… Можно сохранить формы – статуи, слепки, воспроизводящие данный предмет, – но мое тело, мое лицо, мои мысли, мои желания никогда не возродятся. Правда, появятся миллионы, миллиарды существ, у которых на нескольких квадратных сантиметрах будут так же расположены нос, глаза, лоб, щеки, рот, у которых будет такая же душа, как у меня, но «я» не вернусь, и ничто из моего существа не появится вновь в этих бесчисленных и различных творениях, бесконечно различных, несмотря на их относительное сходство.
За что ухватиться? К кому обратить вопль отчаяния? Во что верить? Все религии, с их детской моралью, с их эгоистическими обещаниями, нелепы, чудовищно глупы. Одна только смерть несомненна.
Он остановился, взял Дюруа за отвороты пальто и сказал с расстановкой:
– Думайте об этом, молодой человек, думайте дни, месяцы, годы – и жизнь представится вам совсем в другом свете. Постарайтесь освободиться от всего того, что вас связывает, сделайте сверхъестественное усилие, чтобы отрешиться при жизни от вашего тела, ваших интересов, ваших мыслей, от всего человечества и заглянуть дальше – и вы поймете, как мало значения имеют споры романтиков с натуралистами или обсуждение бюджета…
Он пошел быстрее.
– Вы также узнаете весь ужас безнадежности. Вы будете метаться, утопая, погибая в волнах сомнения. Вы будете кричать во все стороны: «Помогите!» – но никто вам не ответит. Вы будете протягивать руки, будете молить о помощи, о любви, об утешении – но никто не придет к вам. Отчего мы так страдаем? Оттого, должно быть, что мы рождаемся на свет не для духовной, а для материальной жизни, но способность мыслить создала разлад между нашим развивающимся умом и неизменными условиями нашего существования.
Посмотрите на людей посредственных: пока какое-нибудь несчастье не обрушится на них, они чувствуют себя удовлетворенными и не ощущают общего страдания. Животные также не испытывают его.
Он снова замолчал, подумал несколько секунд, потом сказал с усталым и покорным видом:
– Я – погибшее существо. У меня нет ни отца, ни матери, ни брата, ни сестры, ни жены, ни детей, ни Бога.
И прибавил после паузы:
– У меня есть только поэзия.
Потом, подняв голову к небу, где сияла бледная луна, он продекламировал:
И скорбно я ищу разгадки тайны вечной
В пустынных небесах, где бродит отблеск млечный.
Они дошли до моста Согласия, молча перешли его, потом прошли мимо Пале-Бурбон. Норбер де Варенн снова заговорил:
– Женитесь, мой друг, вы не знаете, что значит быть одиноким в мои годы. Одиночество наводит на меня теперь ужасную тоску; одиночество дома, вечером, у очага… В такие часы мне кажется, что я один на земле, совсем один и окружен неведомыми опасностями, таинственными и страшными; и стена, отгораживающая меня от соседа, которого я не знаю, отдаляет его от меня так же, как от далеких звезд, видных из моего окна. Какая-то лихорадка охватывает меня, лихорадка скорби и страха, и безмолвие стен приводит меня в отчаяние. Как бесконечно, как печально безмолвие комнаты, в которой живешь один! Это безмолвие угнетает не только тело, но и душу, и каждый шорох, каждый скрип мебели заставляет содрогаться, потому что каждый звук является неожиданным в этом мрачном жилище.
Он помолчал еще немного, потом прибавил:
– Хорошо все-таки на старости лет иметь детей!
Они дошли до середины улицы Бургонь. Поэт остановился перед высоким домом, позвонил, пожал руку Дюруа и сказал ему:
– Забудьте всю эту старческую болтовню, молодой человек, и живите сообразно вашему возрасту, до свиданья!
И он исчез в темных сенях.
Дюруа продолжал свой путь с тяжелым сердцем. У него было такое чувство, словно ему показали яму, наполненную костями мертвецов, яму, в которую неминуемо придется когда-нибудь упасть и ему. Он прошептал:
– Черт возьми, должно быть, ему не очень-то весело живется. Я бы не согласился сесть в кресло первого ряда, чтобы присутствовать при смотре его мыслей, черт бы его побрал!
Остановившись, чтобы пропустить надушенную женщину, которая вышла из кареты и возвращалась домой, он глубоко, жадно вдохнул аромат вербены и ириса, пронесшийся в воздухе. Внезапно воспоминание о госпоже де Марель, которую ему предстояло увидеть завтра, охватило все его существо, и он весь затрепетал от радостной надежды.
Все улыбалось ему, жизнь встречала его ласково. Как хорошо, когда сбываются надежды!
Он заснул, опьяненный радостью, и встал рано, чтобы перед свиданием пройтись по авеню Булонского леса.
Ветер переменился, погода за ночь стала мягче, солнце грело, словно в апреле. Все любители Булонского леса вышли на прогулку в это утро, повинуясь призыву ясной и теплой погоды.
Дюруа шел медленно, упиваясь свежим воздухом, сочным, словно весенний плод. Он миновал Триумфальную арку и пошел по большой аллее, рядом с которой шла дорожка для верховой езды. Он смотрел на едущих рысью или галопом мужчин и женщин, богатых светских людей, и почти не завидовал им теперь. Почти всех их он знал по именам, знал цифру их состояний и скрытые стороны их жизни, так как его профессия сделала из него нечто вроде справочника парижских знаменитостей и скандалов.
Проезжали амазонки, стройные, затянутые в темное сукно, с высокомерным и неприступным видом, свойственным многим женщинам, когда они сидят на лошади; Дюруа забавлялся, произнося вполголоса, как читают в церквах молитвы, имена, титулы и звания любовников, которых они имели или которых им приписывали; иногда, вместо того чтобы сказать: «Барон де Танкеле… Князь де Латур-Ангеран», он бормотал: «Лесбос: Луиза Мишо из “Водевиля”… Роза Маркетен из “Оперы”…»
Эта игра очень его забавляла, словно он констатировал, что под строгой оболочкой приличий в человеке скрывается бесконечная и глубокая низость, и это сознание радовало, возбуждало и ободряло его.
Он произнес вслух:
– Толпа лицемеров!
И стал искать глазами тех наездников, о которых рассказывали самые грязные истории.
Среди них было много таких, которых подозревали в шулерстве, для которых клубы, во всяком случае, являлись крупным источником дохода, единственным и несомненно нечистым источником.
Другие, лица весьма прославившиеся, жили исключительно на средства своих жен, что было всем известно; третьи – на средства своих любовниц – так утверждали в свете. Многие платили свои долги (поступок, заслуживающий уважения), но никто не знал, где они доставали нужные для этого деньги (довольно подозрительная тайна). Здесь были финансовые дельцы, огромное состояние которых имело своим источником кражу, но которых принимали всюду, в самых аристократических домах. Были лица, пользовавшиеся таким почетом, что мелкие буржуа при встрече с ними снимали шляпу, хотя наглые спекуляции их в больших национальных предприятиях не составляли тайны ни для кого из тех, кто знал подоплеку света.
У всех этих господ был высокомерный вид, наглый взгляд, презрительная улыбка – и у тех, кто носил бакенбарды, и у тех, кто носил только усы.
Дюруа продолжал смеяться, повторяя:
– Да, нечего сказать, шайка жуликов, проходимцев!
Но вот быстро проехала прелестная открытая низенькая коляска, запряженная двумя белыми лошадками с развевающимися гривами и хвостами; ими правила молодая белокурая женщина небольшого роста – известная куртизанка; позади нее сидели два грума. Дюруа остановился. У него было желание поклониться, аплодировать этой женщине, сделавшей карьеру с помощью любви и дерзко выставляющей напоказ – здесь, в часы гулянья этих лицемерных аристократов, – кричащую роскошь, заработанную ею в постели. Быть может, он смутно чувствовал между собой и ею что-то общее, какое-то сходство натур, чувствовал, что они принадлежат к одной породе, что у них один и тот же душевный склад и что его успех будет основан на смелых действиях такого же характера.
Назад он шел медленнее, испытывая какое-то чувство удовлетворения, и явился к своей прежней любовнице немного раньше назначенного времени.
Она встретила его поцелуем, точно между ними вовсе не было разрыва, и даже на несколько минут забыла благоразумную осторожность, которая обычно удерживала ее от проявлений нежности, когда она была у себя дома. Потом сказала, целуя завитые кончики его усов:
– Ты не знаешь, милый, какое у меня огорчение. Я рассчитывала провести с тобой медовый месяц, и вдруг муж свалился мне на голову на шесть недель: он взял отпуск. Но я не хочу оставаться все шесть недель без тебя, особенно после нашей маленькой размолвки, и вот что я придумала. В понедельник ты придешь к нам обедать, я ему уже говорила о тебе. Я познакомлю тебя с ним.
Дюруа колебался, несколько смущенный: ему еще никогда не случалось встречаться лицом к лицу с человеком, женой которого он обладал. Он боялся, чтобы его не выдало что-нибудь – неловкий взгляд, слово, какая-нибудь мелочь.
Он пробормотал:
– Нет, я предпочитаю не знакомиться с твоим мужем.
Очень удивленная, стоя перед ним с широко раскрытыми, полными недоумения глазами, она настаивала:
– Да почему же? Что за чудачество! Ведь это самая обыкновенная вещь! Право, я не думала, что ты так глуп!
Он обиделся:
– Ну хорошо, я приду обедать в понедельник.
Она прибавила:
– Чтобы не возбудить подозрений, я приглашу супругов Форестье, хотя я терпеть не могу принимать у себя гостей.
До самого понедельника Дюруа совсем не думал о предстоящем свидании, но, поднимаясь по лестнице к госпоже де Марель, он почувствовал странное беспокойство – не потому, чтобы ему было неловко пожать руку мужу, есть его хлеб, пить его вино, нет, он просто боялся чего-то, сам не зная чего.
Его проводили в гостиную, и он стал ждать, как всегда. Затем дверь спальни отворилась, и он увидел высокого человека с седой бородой, с орденом в петлице, очень солидного и корректного, который подошел к нему и с изысканной вежливостью сказал:
– Моя жена много мне говорила о вас, сударь, и я очень рад с вами познакомиться.
Дюруа сделал шаг навстречу ему, стараясь придать своему лицу выражение чрезвычайной сердечности, и с преувеличенным жаром пожал протянутую ему хозяином руку. Потом сел, не зная, о чем заговорить.
Господин де Марель подбросил в камин полено и спросил:
– Вы давно занимаетесь журналистикой?
Дюруа ответил:
– Всего лишь несколько месяцев.
– Вот как! Вы быстро сделали карьеру.
– Да, довольно быстро.
И он принялся говорить о чем попало, не особенно задумываясь над своими словами, пуская в ход все те общие места, какими обычно обмениваются люди, совершенно не знающие друг друга. Теперь он успокоился и начинал находить положение очень забавным. Он смотрел на серьезное и важное лицо господина де Мареля, чувствуя желание расхохотаться, и думал: «Я тебе наставил рога, старина, я тебе наставил рога». И он испытывал глубокое, порочное удовлетворение, радость вора, который украл так ловко, что его даже не подозревают, – преступную, восхитительную радость. Ему вдруг захотелось сделаться другом этого человека, добиться его доверия, заставить его рассказать все сокровенные тайны его жизни.
Госпожа де Марель вошла в комнату и, бросив на них улыбающийся и непроницаемый взгляд, подошла к Дюруа, который в присутствии мужа не осмелился поцеловать ей руку, как он это делал всегда.
Она была весела и спокойна, как женщина, привыкшая ко всему и в своем откровенном цинизме находившая эту встречу естественной и простой. Появилась Лорина и с более серьезным, чем обычно, видом подставила Жоржу свой лобик: она стеснялась в присутствии отца. Мать сказала ей:
– Что ж ты не называешь его сегодня Милым другом?
Девочка покраснела, словно по отношению к ней проявили большую нескромность, словно эти слова раскрыли ее секрет, раскрыли глубокую и немного преступную тайну ее сердца.
Когда приехали Форестье, все ужаснулись виду Шарля. Он ужасно похудел и побледнел за одну неделю и кашлял не переставая. Он сообщил, что они в будущий четверг едут в Канн по настоятельному требованию врача.
Они ушли рано, и Дюруа сказал, покачав головой:
– Кажется, дела его плохи. Он недолго протянет.
Госпожа де Марель подтвердила спокойным тоном:
– Да, он конченый человек! Вот кому посчастливилось найти хорошую жену.
Дюруа спросил:
– Она ему много помогает?
– Можно сказать, что она делает все. Она в курсе всех дел, всех знает, хотя кажется, что она ни с кем не поддерживает знакомства; она добивается всего, чего хочет, когда хочет и как хочет. О, это тонкая, ловкая и хитрая женщина, каких мало. Настоящее сокровище для человека, который хочет сделать карьеру.
Жорж спросил:
– Она, конечно, скоро снова выйдет замуж?
– Да. Я бы даже не удивилась, если бы узнала, что она уже имеет в виду кого-нибудь… какого-нибудь депутата… если только… он захочет… потому что могут встретиться серьезные препятствия… морального порядка… Впрочем, я ничего не знаю.
Господин де Марель проворчал с ленивым раздражением:
– Ты всегда полна неуместных подозрений. Не будем вмешиваться в чужие дела. Пусть каждый поступает по своей совести. Хорошо было бы, если бы все люди руководствовались этим правилом.
Дюруа ушел взволнованный, с неясными планами и предположениями в голове.
На следующий день он отправился к Форестье и застал их почти готовыми к отъезду. Шарль лежал на диване, преувеличенно тяжело дыша, и повторял:
– Я должен был бы уехать месяц тому назад.
Потом он дал Дюруа целый ряд наставлений относительно газеты, хотя все уже было улажено и решено с Вальтером. Уходя, Жорж крепко пожал руку приятелю:
– Ну, дружище, до скорого свидания!
Когда же госпожа Форестье вышла проводить его, он с живостью сказал ей:
– Вы не забыли нашего договора? Ведь мы друзья и союзники, не правда ли? Значит, если я вам понадоблюсь для чего бы то ни было, не стесняйтесь. Телеграмма или письмо – и я тотчас буду к вашим услугам.
Она прошептала:
– Спасибо, я не забуду.
И ее взгляд говорил тоже: «Спасибо», – но более глубоко и нежно.
Спускаясь по лестнице, Дюруа встретил медленно поднимавшегося де Водрека, которого он уже раз встретил у госпожи Форестье. Граф казался грустным, быть может, вследствие этого отъезда.
Желая показаться светским человеком, журналист почтительно поклонился.
Де Водрек ответил вежливо, но немного высокомерно.
В четверг вечером супруги Форестье уехали.