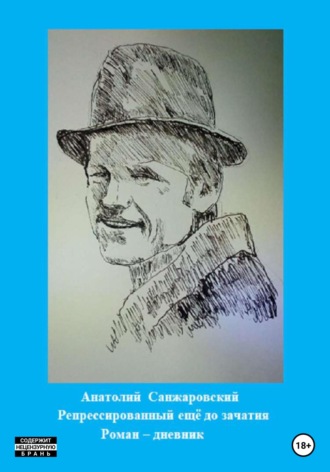
Анатолий Никифорович Санжаровский
Репрессированный ещё до зачатия
Мешок-спаситель
Утром я побежал на почту, телеграммой поздравил своего маленького Гришика с промежуточным днём рождения. Сегодня ему два года и четыре месяца.
Вернулся.
Переодеваюсь в братнины брезентовые штаны, куртку – пойду для своего маленького Гришика рвать шиповник, – Григорий большой и скомандуй:
– Стоп! Рубаху не снимай. Померяй.
И достаёт из своего гардероба приличный костюмчик. Новенький. Бирочка торжественно болтается.
– Дарю. За картошку… Убрал один… И эта твоя помощь мне как божий дар Небес. Хотя… Ты сам дар Небес.[276] Да что Небеса? Небеса ничего не кинули б нам вниз, не повкалывай ты сам вчерняк… Костюмишко можешь загнать. Тысяч шестьдесят без звука отстегнут. Или носи.
– Спасибо, братушка. Носить буду. Выходной костюм. А то у меня единственный выходной костюмчик уже старенький. Тридцать лет с гачком таскаю. А этот будет мне до похорон. Может, в нём и схоронят…
– Ну, о похоронах рано. Спервачку поноси.
После завтрака я на велик и дунул по улочке напротив наших окон. В сторону Гусёвки. Справа по руке печально желтели из-за бугра лишь чубы тополей с кладбища.
Еду тихонько себе, еду.
Заехал за газовую. Так тут называют газораздаточный пункт. Простор вокруг пункта всё ровненький, выложен огромными бетонными плитами.
Я уже хотел спрыгнуть со своего мозготряса и дальше, вниз, идти с ним рядышком, как вдруг что-то ширнуло меня в бок:
«Неужель струсил? Боишься съехать?»
А вот проверим!
И я, крутнув руль, на дурьих ветрах помчался вперёд.
От газовой это была уже не улочка, а одни овражные страхи. По ложу пересохшего дождевого ручья петляла уличка по бугру, почти отвесно падающему вниз.
Надо стать!
Так я подумал, как только меня понесло.
Но я не остановился.
А в следующий миг уже страшно было останавливаться на полном скаку. Земля была сухая, в чёрных комочках и на них велосипед не остановишь. Он будет скользить, как корова на льду.
И всё же я нажал на тормоза.
Щелчок!
И велосипед летит ещё звероватей!
Я снова на тормоза. И снова щелчок.
Гос-по-о-оди!..
Не знаю почему я панически заорал:
– Ма-а-а-а-а-а-а-а-а-а!..
Не знаю зачем я кричал, но я кричал.
Я видел по обеим сторонам за штакетинами вытянутые лица и летел, как смерть.
Изо всех сил я держал руль. Боялся выронить. Улица почти отвесная, в дождь по ней хлещут дикошарые ручьи, сбиваясь в один, жестокий и чумовой. Глубокие вымоины изрезали уличку, я боялся не удержать на них руль.
Была мысль умышленно упасть.
Ну чего падать раньше срока? Уж лучше пока подожду. Если само уронит, возражать не стану. Госпожа Судьба!
А судьба, как говорила мама, штука такая: покорно поклонишься и пойдёшь.
От поклона не переломиться.
Только после падения пойду ли я?
Может, врезаться в приближающийся сетчатый забор?
Железобетонные колья, которые держали забор, тут же погасили во мне это желание.
А скорость всё авральней…
До поворота метров сорок. Поворот крутой, на девяносто градусов. На дикой скорости я в такой поворот не впишусь.
Лететь мне всё равно по прямой!
А на прямой – солома!
Знали, где я упаду, и постелили загодя?
Но кто бы ещё опустил эту солому на землю? Огромная копна соломы торчит-нависает над землёй. На тракторной тележке. А мне надёжно светит лишь передний борт тележки и продвинутая навстречу мне железная забабаха, за которую тянет тележку трактор.
Выдвинутая железяка или борт!
Третьего не дано.
А я тем временем всё беспрерывно ору и думаю, что же мне делать. Наконец, я вспомнил, что у меня есть ноги, есть переднее велосипедное колесо. Я ткнул ногу между передним колесом и трубкой над ним.
Кажется, ход немного срезается.
Может, мне это только кажется?
Да нет. Не кажется!
Бес подо мной вдруг останавливается почти вкопанно, и я валюсь через руль на бугорок в скользких чёрных земляных горошинах.
Я быстро вскакиваю и оглядываюсь по сторонам.
Ёбщества вокруг набежало препорядочно. До сблёва.
Ждёт картинки смертельной. А у меня ни царапинки.
– Тормоза отказали, – винясь, пробормотал я ротозиням.
Их лица постнеют.
– Чёрт ли тебя нёс на дырявый мост? – выговорил мне один старик. – Ёлы-палы… Так лихоматом реветь и никаковского убивства!? Тогда на кой хренаж было здря весь мир сгонять на улицу?
– Ить… – возразила ему бабка. – Когда тонут, кто и соломинке не рад?.. Хоть дуром на нашем свежем воздушке чего не поорать?
Я так и не понял, почему же остановился велосипед.
Я так сильно жал ногой на колесо, что оно не посмело дальше вертеться?
Вряд ли…
Пожалуй, меня спас мешок, в который я собирался рвать шиповник для своего сына.
Мешок был у меня под слабой прищепкой на багажнике.
На рытвинах он выбился из-под прищепки и намотался между колесом и багажной трубкой так туго, что колесо больше не могло крутиться?
Я еле выдернул мешок и в близких слезах благодарно прижался к нему щекой.
Заныло в спине. У меня всегда начинает ныть спина, когда сильно понервничаешь.
Значит, рано ещё мне под Три Тополя.
Надо жить.
И носить браткин подарок.
4 сентября 1994. Воскресение.
Спокойной ночи, Гриша, или Свидания по утрам
Сквозь вишнёвую пыльную листву льётся в приоткрытое окно за тюлевой белой занавеской первый свет.
Утро.
Рука сама тянется за изголовье к верху телевизора, где лежит газетный конвертик с карточкой сына.
Уголок одеяла я собираю в гармошку. Приставляю к синему заборчику карточку.
Гриша стоит у меня на сердце и очень серьёзно всматривается в меня из ромашек. Точь-в-точь так, как тогда, когда я снимал его в августе за Косином.
Впервые я привёз его на велосипеде на бугор, где раньше рвал ромашку.
Я стоял перед ним на коленях и кричал:
– Гриша! Бомба!.. Бомба!!.. Ну бомба же!!!..
Обычно, когда я произносил это слово, он смеялся.
Между прочим, на этом слове мама учила меня грамоте в первом классе. Сама мама ходила в школу всего месяца три. Она твердила мне:
– Бонба. Правильно будет бонба!
Я упрямо гнул своё. Как было в книжке:
– Бомба!
То, бывало, тихонечко скажешь бомба, и сын грохотал взакатки.
А тут…
Строгие глаза внимательны.
Он наклоняется. Припадает лицом к объективу.
И я в лёгком шоке.
Почему темно? Ничего не видно.
Не сломался ли мой полароид?
Я аппарат в сторону.
Полароид мой и не думал ломаться. Просто Гриша закрыл объектив лицом. Старался увидеть меня в глазок.
Я смотрел на него в глазок с одной стороны, он на меня – с противоположной.
Я переступаю на коленях назад.
Он неотступно следует за мной.
– Гриша! Стой на месте и улыбайся. Бомба! Бомба!! Бомба!!!
Он всё равно не стоит на месте.
Я раком карачусь назад.
Он с удивлением тянется за мной и деловито наклоняется к фотоаппаратову глазку.
Что ж там разынтересного увидел папка!?
Наконец, в изнеможении я дёргаюсь верхом назад. Между нами сантиметров шестьдесят. В аппарате стих звоночек, не мигает красный свет.
Я нажимаю на кнопку. Будь что будет!
И выползает эта картинка в цвете. Крупное лицо. Срезан чуть сверху лоб… И цветы, цветы, цветы… Ромашки тесно обступили Гришу. Одна любопытная ромашишка даже выглядывала у него из-под мышки. Кажется, ромашки тоже тянутся к аппарату. Им тоже интересно заглянуть в глазок…
Глаза у Гриши живые, ясные, умные.
Он молча всматривается в меня, я в него.
И длятся смотрины, может, с час. Может, и больше. До той самой поры, покуда, тихонько откинув шторину на дверном проёме, не входит в гости мама.
– Ну шо, хлопцы, подъём? Спали весело, встали – рассвело?
– Так точно! – готовно откликается Григорий. – Входите, ма. Большой гостьюшкой будете.
– Толенька, как на диване спалось?
– Без происшествий.
Увидела на карточке Гришу, степлела лицом:
– О! Якый сыняка-соколяка!
Всё. Свидание с сыном кончено.
Я кладу карточку в газетный конверт и на телевизор.
И так каждое утро.
А в прошлом году со мной приезжала сюда другая карточка. «Прогулка с папиным пальчиком». Чёрно-белая. В рост. Я вёл Гришика по берёзовому лесу. Меня на фото не видно. Лишь моя рука уцелела. Одна рука Гриши держится за мой указательный палец. На другой руке Гриша сжал пальчик крючочком. А почему за мой пальчик никто не держится?
За день ещё не раз присядешь на диван с карточкой…
А вечером…
Во всякий нижнедевицкий вечер я смотрю «Спокойной ночи, малыши».
Сегодня у этой передачи день рождения.
Ей тридцать лет.
У меня такое чувство, будто смотрю я эту передачу вместе с Гришей. Я чувствую его рядом. Будто мы сидим в Москве на нашем диване и смотрим по цветному телевизору «Сони». Стоит он у нас высоко на шкафу.
Смотрит Гриша цепко. Не дохнёт. А ближе к концу передачи глаза у него наливаются горючими слезами. Передача ещё не кончится, а он уже плачет навзрыд.
Мы с Галинкой сами чуть не ревём. Успокаиваем его.
А он плачет и плачет.
Жалко расставаться со Степашкой и Хрюшей?
Кто его знает…
И чтоб его не расстраивать, не стали мы больше включать эту передачу.
Подождём, как немного подвзрослеет.
Может, перестанет плакать?
Попрощались Степашка и Хрюша.
Спокойной ночи, Гришик. Спи, маленький, спи…
5 сентября 1994. Понедельник.
Без тебя
И паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.
Фёдор Тютчев
Сегодня десятое сентября.
Мой день.
Уже перед тем как встать приснилась такая глупь.
Я проснулся (во сне) и лап, лап рядом по дивану. Разбежался разговеться! А веселушки-то моей нет!
Лежу жду.
Жду-пожду. А её нет как нет.
И пошёл я её искать.
Нашёл.
Переходим вброд речку. Я по пояс голый. А вода в речке чистая-пречистая.
Заходим в какой-то дом. Чего-то набрали. Идём. Заходим в лифт. И тут жена пропадает. И я спускаюсь со старушкой уже, похожей на нашу почтальоншу Марью Ивановну Жукову.
Выходим из лифта – нас поджидает моя жёнка.
Только – всякий кочет кукарекать хочет – разогнался я ей что-то сказать, она снова пропала.
Как на человека спрос – так он сразу пропадает!
Цену набивает?
Тут я во зле и проснулся.
И в следующий миг не забыл слегка обрадоваться, что жена у меня только во сне пропадает.
Вошла мама.
– Ма! А когда я родился? Утром? Вечером? Ночью?
Мама обиделась:
– И всё ото я должна помнить?
Она не помнила ни дня, ни года моего рождения.
– Ма, а когда я маленький был, Вы мне игрушки покупали?
Мама махнула на меня рукой как на двинутого.
– Яки там игрушки? Из твоих игрушек я помню тилько три. Кирпичина, ржавый обод с выброшенной кадушки и тунговая коляска. Кирпичина була тебе машиною. С кирпичиной ты один носился по куче песка на пятом районе и выл. Так тяжеле ехала машина. С ржавым ободом летал по дорогам, подталкивал ладошкой. А коляска… Сначала я сама тебе её робыла. На коротку палочку насаживаешь посередке меленькое, с голубиное яйцо, тунговое яблочко. По бокам от этого яблочка сажаешь на ту же палочку крупные тунговые яблоки. Это колёса. В маленькое яблочко втыкаешь палку. Коляска готова! И с воем мотался ты с той коляской как оглашенный… Вот и все игрушки. Ничего покупного… Нам живуха яка уродилась? Охушки була и жизь… Колы ж ты, мечталось, похужаешь?.. Нищета крутила нами, как худым мешком. Хлиба по кусочку давали. Тонэсэнькому, як листик. Всё прожито, всё забыто… И воспоминать престрашно…
На велосипеде я с карточкой сына утащился мимо кладбища на бугор.
Было солнечно.
Я один. Со мной лишь неунывающий весельчак ветер.
Горизонт, который я объехал в поисках шиповника для сына, лежал подковкой.
Чернели убранные поля…
Какие-то пронзительные дали…
Молча смотрел я вокруг, и всё виденное лилось в стих про маленького Гришу.
Без тебя
Почернели грустные поля.
В печали дали синие.
Пало лето. Не поднять
Восторга в смехе трав.
Ветры рвут тепло,
И замывается оно дождями.
До весны, сыновец, далеко,
А зима уж целится снежками.
Я на маминой территории.
За сарайчиком.
В огородчике.
Мама любит здесь побыть в одиночестве.
Она и сейчас сидит на перевёрнутом ржавом жбане, покрытом какой-то дерюжкой. Собирает последнее тепло.
Я подсаживаюсь к ней. Не за горками конец ноября, – грустно улыбается мама. – Земля вжэ на покое… Зима, как говорят стари люды, с коня слезае, встае на ноги, кует седые морозы, стелет по рекам-озерам ледяные мосты, сыплет из одного рукава снег, а из другого – иней… Всэ щэ впереди… А пока тепляк щэ, славь Бога, трошки держится, ушедшему лету вследки растерянно кланяется, – в печали качает мама головой. – Всякэ тепло кончаеться… Запасаюсь тёплышком на зиму… Всёжки сентябрь – дверь в дожди, в холода. Журавли сбираются на болотине уговор держать – яким путём-дорогою на тёплые воды лететь… Ветер разом колыхнёт… Аж жарко! То холодно, то парко… Бачишь, як ворон против ветра кричить? Край! Край! Край тепла! Дождь будэ… Волосья у меня свалялось, як валенок. Надо сёгодни помыть голову…
Гриша идёт на низ. Там центр села. Магазины.
Он крикнул:
– Ма! Бегу в лавку сорить деньгами. Что брать?
– Бери побольшь та подешевше! – смеётся мама.
Мама долго молчит. Потом тихо роняет:
– Дней у меня, сынок, остаéться всё меньче… Як хороше, шо ты приихав… Хочь надывлюсь на тэбэ. А вот уедешь… Ну… Когда Гриша в доме, ще ничо… А як уйдэ на завод, одной сидеть скушно. И стены, Толенька, боляче кусаються…
– Ма… А мне сегодня пятьдесят шесть. Что бы Вы мне пожелали?
– Та шо ж я тоби, сынок-золотко, возжелаю? Ты Грише скажи. Он казак при грамоте. Лучше шо придумае пожелать.
– Да не Гриша мне нужен. Вы! Я хочу, чтоб Вы сказали.
– Ну шо?.. Я всэ забула, як барашка… Тут помню… тут не помню… Даже вчерашний день потеряла… Не помню, шо учора делала… Кибитка, – стучит себя ногтем по виску, – не варит. Тилько отбывае фокус… Ну… Счастья… Здоровья… Здоровье – это наше всё! А без здоровья всё – ничто. И дай Бог тоби жить туда надальшенько.
Ни торжественной ружейной пальбы по случаю моего 56-летия, ни стрельбы из бутылок с шампанским, ни глухого перепоя, ни просто примитивного буревестника.[277] Ничего…
Никто из наших и не заикнулся про мой день.
И я ни на кого не в обиде.
У нас просто не принято отмечать чьи-то дни рождения.
И тянется это издалека.
Растёт из вечной нищеты.
10 сентября 1994. Суббота.
А через день я уезжал из Нижнедевицка.
Провожали меня до автобуса и мама, и Гриша.
Мама плакала, винилась, что у меня не отпуск получился, а каторга:
– Отдохнул – и погреб вырыл! Хиба цэ отдых?
– И погреб, мам, надо рыть, раз есть в том нужда. На своих работа не барщина… А отдохнуть ещё успеется. Вот подбежит новое лето. Приеду отдохну.
И не знал я тогда, что говорил с мамой в последний раз.
Она умерла через полгода.
А спустя ещё полтора года умер, так и не женившись, Гриша, мой милый братик…
Могилки Мамы и Гриши в одной оградке. Рядом. С печальной берёзкой в изножье.
(Конец повести «Говорила мама…»
«Я проснулся… Здрасьте… Нет советской власти…»
Прощание
Только я могу начать ядерную войну.
М. Горбачёв.(Из заявления французскому телевидению.
Я понял, что единственный способ быть правым – быть у власти.
Жорж Бидо (1899-1983), премьер-министр Франции.
Восьмого декабря по ЦТ передавали интервью, которое Горбачёв дал корреспонденту Украинского телевидения:
«Я решил откликнуться на ваше предложение… Я порассуждаю перед вами. Это, может быть, будет пространно, но нужно. Информация поступила из неожиданного угла… Несмотря на референдум, в душе украинцы за Союз. Нужен центр. Центр необходим один. А эти двухсторонние связи республик – это отрыжка старых бюрократических штучек. Вместо одного центра создали двенадцать! Если ошибёмся сейчас, то на многие годы схлопочем такую ситуацию, из которой не вылезем! Я снял все тормоза, чтоб сказать людям. Я употреблю всё, переступлю через всё и пойду к народу. Это дешёвка, когда твердят, что Горбачёв держится за власть. Если бы он держался за власть, он бы всё это не начинал. Я всё это начинал, я всему этому привержен. Я начал, я должен отвечать за весь этот процесс… Кто знает, буду ли я выставлять кандидатуру на выборы…»
Он так усердно-нудно толок воду в ступе, что телевизор сам выключился.
Ну, кто ж не знает, что Союз нужен? Что центр необходим?
Также ж хочется и дальше порулить да поцентралить!
В то время, когда он телевитийствовал, сегодня в 14.17 в Беловежской пуще Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали документ о содружестве трёх славянских государств. Это значит, что ни Союза, ни центра уже нэма.
Прощай, пан Гупало![278]
К Союзному договору все республики были благосклонны. Процесс, понимаете, пошёл!
Только Украина…
Выбрала себе в прошлое воскресенье президента Кравчука, провозгласила незалэжнiсть и взгомозилась. Нэ пiду у той цэнтр! Нэ пiду!
Ну что тут делать?
А без Украины Горбачёв стал хуже видеть. Говорит, без Украины я не вижу Союза. Так мало что стал хуже видеть, заодно перестал и мыслить! Говорит, без Украины не мыслю Союза. Не представляю. Видите, даже представлять уже перестал!
Ну что тут будешь делать!?
Надо уламывать Украину, доказывать, что без Союза ей каюк да и пускай посмотрит получше, от кого отказывается! От своих же! От сотоварищей по крови! По соцкуреню!
И стал капитально докладывать, что все его корни с Украины текут. И по бабке он Гупало. И Раиса Максимовна вся украинка. Титаренко ж была в девичестве. Свои! Свои мы! Идите ж скорей к нам! Не упрямьтесь!
Ну что длинно думаете?
Или всё не верите, что мы украинского корня?
И стишок Тарасов в подлиннике горячо отдекламировал!
Почувствовал, получилось!
Загорелся. Готов был накинуть расписную рубашку с петухами да атласные шаровары с красными лампасами, да ударить гопачка…
Он прочно оповестил о своей любви к Украине. Да в пустой след. Поезд уже ушёл! Ку-у-угук!
Ан тут и звонок поспел.
Это куражливый «минский мотор» Кравчук. Покаянно, прослезившись:
– Мы тут удругэ подывылысь по телябаченню на Вас, Михайло Сергейович, и дужэ извиняемось за задержку. Бижемо ж до таборку у Ваш у Союз та дужэ часто спотыкаемось!
Но Кравчук ему помстился.
Звонил Шушкевич: Мы, говорит, тут сегодня в Беловежской пуще, на даче Хрущёва, сообразили на троих соглашение об СНГ…
– Чего? Чего? – вздыбился Горбачёв. – Новогодний подарочек подкинули? С Новым Годом расшифровывается? Или Способ Насолить Горбачёву? Или, может, Сбылась Надежда Гитлера? Даже Гитлеру не удалось то, что сделали вы… Или Спаси, Нас, Господи!?
– Да нет… Иначе… Содружество Независимых Государств. Украина, Россия, Белоруссия… Переговорили с Бушем. Одобряет.
Полетели по телефону чёрный пух и вдогонку матерщинные перья.
Как они посмели? Пока он беседовал по телевизору с украинским народом, эта троица прихлопнула Союз! Вот так походя ликвиднуть центр и меня в том центре? А ну везите бумаги! Посмотрю, чего вы там наподписывали!
Наутро Ельцин привёз.
Горбачёв долго читал. Дли-инно думал…
Именно этот злосчастный «мотор» Кравчук предложил встретиться славянам в Минске. Ельцин привёз горбачёвский союзный договор. Передал наказ Горбачёва: вноси любые поправки, только подпиши. Подпишет Украина, подпишет и Россия. Но Кравчук сказал нет.
И троица подписала то, что подписала.
Ещё и выпила бутылку шампанского.
По слухам, при «делёжке» Кравчук спросил Ельцина:
– Шо будем делать с Крымом?
Ельцин махнул рукой:
– Да забирай его на х… себе!
Горбачёв без конца переспрашивал, что да как.
И наконец полилась лава.
Срочно созвать внеочередной съезд! Пусть-ка скажет троица, чего наворочала! Устроить референдум! Давал ли народ этой троице мандат на закрытие Союза? Беззаконище! Сговор за спиной президента! Я в такие игры не играю!
Раз выпрыгнул из игры, то начал рваные перебежки на короткие дистанции. По кругу. Первая пробежка до Арбата. До минобороны. Молчали, слушали. А что было ему сказать, если он сам получал впервые зарплату за декабрь из ельцинского кармана? То есть из российского бюджета. У Союза ж ни копейки.
На второй день прибыл Ельцин. Встреча с государственным мужем!
Обещал: с первого января Россия поднимет на 90 процентов денежное содержание офицеров, связал себя словом решить жилищные хлопоты.
И армия осталась с Ельциным.
Куда бежать дальше?
И президент кнопки побежал плакаться журналистам.
– Совершается самая крупная ошибка за шесть лет перестройки. Рушится то, что создавалось десять веков… Нетерпеливость тут недопустима. Три президента поговорили даже с Бушем, а со своим президентом нет. Стыдобища! Ставить своего президента в известность только потом… Но я через это перешагиваю… Я не буду в этом деле участвовать!
Он сделал вид, что ничего не знал. А ведь ещё год назад намечалось создание содружества четырёх: Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия. Горбачёв эту идею на корню задушил.
На этот раз решили дело делать без него.
– Я не знаю, почему за спиной президента решили проигнорировать Союзный договор… Думаю, что из тупика переговоров с Украиной можно было бы найти выход, например, ассоциированное членство. Украинский момент был… использован руководством России.
Почуял батька безработицу…
Через немецкую газету «Бильд» министр иностранных дел России Александр Козырев и скажи:
«Горбачёв не прокажённый и в новом Содружестве работа ему найдётся!»
Успокоил!
Батька и вовсе осерчал. Ответил так:
«Для меня нет места в новом Содружестве трёх государств, так что напрасно меня трудоустраивают».
Баба с возу, спицам легче!
Он думал, свет клином на нём свело. Думал, всей вселенной без него ни дохнуть, ни глянуть.
А тут и дышат, и разрешения не спрашивают.
И совсем уж непонятно. Пять азиатских республик разбежались примкнуть к Минску!
Горбачёв и притихни. То зудел про отставку. А тут:
– Я не ухожу в отставку. В этот переходный период я обязан находиться на своём месте. Я должен проследить, чтоб создание Содружества прошло законно. Чтоб не выпрыгивали за пределы конституции.
Видите, ну разве без него посвятится?
И мастер промедления сидит.
«Азиатские товарищи» завтра уже подписывают минское соглашение. А наш говорун, которого, кстати, в стране не приемлют семьдесят четыре процента опрошенных, мирно прихваливал себя журналистам:
– Я по своей натуре демократ. А по радикальности принимаемых решений в студенческие годы был и просто диссидентом! – воскликнул он и победно осмотрелся, уверенный, что все сражены.
– Если завтра подписывают в Алма-Ате, что вы предпринимаете?
– Я возражать не буду. Если азиатские товарищи подпишут, я тут же уйду в отставку.
Азиатские товарищи подписали.
А сенсации нет.
Михаил Сергеич никакого телодвижения.
Сидит день, сидит два, сидит третий… Ну, как тот незваный гость, который зашёл на минутку да засиделся. Все званые ушли. Незваный всё сидит. Впору бери под белы ручки и выводи.
Как в Минск, так и в Алма-Ату его не позвали. Хотя участникам алма-атинских переговоров он написал отдельные отеческие письма. Мол, детки мои, не подкачайте. Думайте ж там о Союзном договоре, о батьке вашем родном. Без батьки вам не жить.
Приглашайте, летело между строк, меня на встречу и я научу, как вам быть.
Они подумали, и никто его не позвал.
И это вовсе не значит, что все смирились с его присутствием. Союза уже нет, а президент, не верящий в Содружество и ратующий за Союз, за социализм, есть!
Президент при ядерном чемоданчике.
Помните его заявление?
«Лишь я один могу начать ядерную войну!»
И все вогнаны в трепет?
Девять часов Ельцин обговаривал с ним его уход.
И что запросил уходящий президент?
Статуса неприкосновенности!
То пёкся о законности.
А тут сверх закона ему подай этот самый статус.
Ему было отказано.
– Если вы за что-то беспокоитесь, – позволил себе пошутить Ельцин, – покайтесь сейчас. Пока вы президент.
– Ну, тогда дайте мне охраны двести человек.
– Дадим в десять раз меньше. Тэтчер ехала за границу, брала лишь одного охранника. А тут на пенсии человек и двести охранников?
За ним две «Волги», 4000 рублей в месяц. Освобождает служебную квартиру на Воробьёвых горах. Специально оборудованную президентскую дачу оставляет, переезжает на меньшую.
Он долго думал, кому первому сказать о своей отставке, кому преподнести подарок. Поднести своим? Шиш! Свои, славяне, меня не ценили. Спасибо славянам за их беловежскую вечерю! Западок ценил, на ручках носил. Западку уж я и отвалю подарочек!
И вчера, двадцать пятого декабря, на католическое Рождество, он в семнадцать позвонил Бушу. Сказал об отставке своей скорой. Доложил, что ядерную кнопку передаст Ельцину.
– Дорогой Джордж! Вы можете спокойно провести рождественский вечер.
Уж и не знаю, как это называется.
То батька устроил выволочку минским архаровцам, что о своих делах доложили сперва Бушу, а потом ему. Но вот и сам не лёпнулся в грязь яйцом. Сперва доложил о своих делах-намерениях Бушу. А своему народу это всё скажет только два часа спустя.
В девятнадцать часов засветился на телевизоре. Одиннадцать минут гремел крышкой о своём уходе. Гремел зло, мстительно. Серча-ал дюже.
Ну как не серчать?
Советские цари царствовали до упора. Из креслица несли ножками вперёд под кремлёвскую стену. А тут выперли живяком и спасиба не сказали!
Наш креслолюб знал, что ничего доброго о себе не услышит. А потому сам о себе похлопотал. Слушаешь и рот разеваешь! И землю крестьянам отдал! И заводских рабочих осчастливил! И свободы завались!.. И!.. И!!.. И!!!..
Да полноте!
– Когда я вступал на свой пост, со страной было неладно. Общество задыхалось в тисках партийно-государственной бюрократии… Что сделано, должно быть оценено по достоинству… Проделана работа исторической значимости. Совершён прорыв на почве демократических преобразований… Кардинальные перемены… По принципиальным соображениям я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Я твёрдо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик, но одновременно и за сохранение союзного государства, целостности страны. События пошли по другому пути… Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться. И после алма-атинской встречи и принятых там решений моя позиция на этот счёт не изменилась…
Слушаешь это, а в ушах стоит его прошлогодняя новогодняя речуха по телеку:
«Дорогие товарищи! Как ни глубок переживаемый страной кризис, мы можем и должны добиться перелома к лучшему уже в будущем году».
Добились… Остались без страны, без портков, без куска хлеба.
В девятнадцать двенадцать, когда кончилось горбачёвское теленытьё, я вышел на балкон.
Было темно. На углу хохотали.
Пьяный голос рубил хвост частушки:
– Умчалась в космос наша тройка.
Райка, Мишка, перестройка!
– Да отдыхай, перестройщики! – обломил пенье другой. – Наконец-то гепнулся голодно-кровавый шестилетний Горбачёв-базар! Хватя про эту порностройку! Хватя под бесконечные алалалы перевешивать старые портки на новые гвоздки! Земной вам поклон, дорогой вы наш ненаглядный Михал Сергейч, за ваши неземные достижения! Дотла сожгли жизнь перестройкой в нашей странёшке, мотанули перестраивать космос?!
– Не надо допущать нашего вождюка в космос. Он же прикончит жизнь во всей вселенной! Пусть потренируется ещё на земле…
– Может быть, может быть… Его достиженьища видит и заграница. Сейчас он уже товарищ господин вольный. По пятнышко! Может, к нему уже очередь дерётся? Просят порулить там если не Америкой, так хоть Германией иль Францией!?
– Бьются в кровь! Как же!.. Нигде никому он не запонадобится. Уж на что отчаянно-бесшабашная Бразилия, а и та осмелилась пригласить его лишь на карнавал. И не порулить карнавалом, а только посмотреть. Лишь с балкона. Не то и всю карнавальню людям ухлопает. А уж чтоб Америка с Францией кликнули порулить… Он же через годок посадит их на талоны. А через два оставит без куска. С его выдающимися способностями это раз плюнуть. Не такие державы ломал! Тот же наш СССР! Пусть летит подальше… на космический хутор бабочек ловить… Будь что будет!
– А как выбирали его в президенты этого самого СССР?.. Стыдобина в квадрате!.. Встал комсомольский секретарёк Мироненко и, ломая из себя дураська, бухнул: «Тут мы приняли хороший закон. Выбирать президента всем народом. Хороший закон. Но давайте выберем президента на съезде. Давайте один раз нарушим свой же закон и больше не будем». Закон нарушили. Выбрали на съезде. Ловко скоммуниздил Горбун президентское креслице и этого хитровца Мироненку за выдающиеся заслуги лично перед ним срочно х-хоп к себе под бочок на непыльную геркулесову работёшку в центральную котельную.[279] И весь его «демократический прорыв»!
– Будя про перестроечного покойничка… Лучше вспомни, как Борис поверил, что и впрямь на дворе гласность, сказал на пленуме о партпривилегиях, о том, что в мыле скачем третий год на месте, напомнил Ленина, что в праздник надо сосредоточить огонь на нерешённых проблемах… И чем кончилось? Отец строго дозированной гласности вышвырнул Ельцина из кандидатов в члены палитбюро, отецки предупредил: «В большую политику я тебя больше не пущу!» А вылетел из неё сам. И это всерьёз и навечно. Политический труп… Что ж… «Прими усопшего, Господь, в твои блаженные селенья…»
– Всё это так… Да… У бывшего президента воз выдающихся заслуг. Уже есть они, эти заслуги-ошибочки, и у Бореньки… Что он так лебезит перед американами? Чего он так рьяно подпихивает Россиюшку под Штаты?.. Не наплачемся ли мы и с ним?..[280]
– Пожуём увидим… Но особо не горюй. Ангелов на земле нет. Все ангелы на небесах… Ельцин – цемент-мужик! Он спас от гибели Россию… Основатель новой России… Ну а кто на первых шагах в ошибках не купается? Да не будь Ельцина, не продолжали б мы до сих пор строить самое чёрное на земле светленькое будущее в красно-коричневую клеточку? Разве только один этот плюс не перевесит все его минусяки?
В 19.20 Горбачёв передал ядерную кнопку Ельцину.
Через восемнадцать минут над Кремлём спустили флаг Советского Союза.
И в 19.45 поднялся над Кремлём флаг России.
Всё это было вчера.
Весь вчерашний день бесновалась стонущая метель.
А уже сегодня утром наконец-то в долгой череде тяжёлых, удушливо-смертных сумрачных дней впервые проблеснуло солнце.
26 декабря 1991. Четверг.







