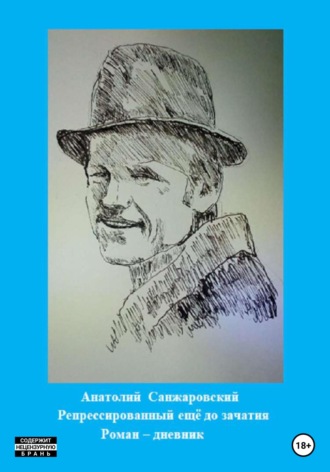
Анатолий Никифорович Санжаровский
Репрессированный ещё до зачатия
Куда уходят годы?
Вчера у мамы разболелась голова.
Гриша подаёт ей какую-то таблетку.
Мама не любит лечиться. Отмахивается.
– Берите и пейте! – настаивает Гриша. – А то голова будет ещё сердитей болеть.
Мама сдалась.
Выпила и запечалилась:
– Такая толстая твоя таблетка… Як кулак! Еле силяком проглотила. Будет теперь во мне год киснуть.
Сегодня я спросил её, как голова, раскислась ли таблетка.
– Та голова смирней стала. Лекша… Или таблетка боль обломала?.. Голову треба берегти. Голова, як торба. Шо найдёшь, то и спрячешь в ней… Надо головушку берегти…
– А над глазом краснота не вся сошла.
– Да бывает… То под глазом покраснеет, то на руке.
– Аллергия?
Мама морщится, машет рукой:
– Токо и осталось на твою лергию посматривать! Шо ты хочешь? Девятый десяток! Или вот щэ восемь десятков разбежаться отжить? Не… Не получится. Совестюшку надо иметь… Век сжить не шапку сшить… Когда эти восемь десятков промигнули? Не то днём, не то ночью? Кто и зна, когда они шли. Не бачила… Не то днём, не то ночью… Всё навроде хороше… Есть чего поесть-надеть. Одно погано – годков дуже багато…
2 сентября 1991
То разлука, то любовь
Любовь – это нервная болезнь: сначала в любимом человеке вас всё волнует, а потом всё раздражает.
К. Мелихан
Иду в Гусёвку.
Навстречу державно вышагивает знакомый мужичок.
Ваня-струкуток.[240]
Ване уже за пятьдесят. Пасмурный.
– Чего такой смурый? – смотрю я на свёрток у него под мышкой. – Или ты, аварийная душа без ветрил, с бой-развода дрейфуешь?
– С разво-ода… Удалой долго не думает. Допекла халала. Ну никакой же тебе уважухи! Сменные штаны, рубашку под руку и в святой путь к своим батьке с маткой. Хорошо батьке. Он женился на своей доброй матке. А я, башка с затылком,[241] ну чёрте же на ком!.. Однакушко хорошо и примаку. Есть куда сплыть отдышаться.
– И долго ты, половецкий плясун, будешь отдыхиваться?
– А это уже как укоськает. Через недельку так побегить ко мнешке напару с кислушкой[242] убазаривать.[243] А я, пан Громушкин, не сдамся как голенький. Я ещё наистрогие прынцыпы выдержу. С год и уманежу. Потом, глядишь-ко, из милости отступлюсь и возвернусь к своей ненаглядной Дидоне.[244]
– Сколько раз, пан Громушкин, уже уходил?
– Я тебе по чесноку[245] скажу, как… Тут у нас на базарчике торгует виноградом один закопчённый труженишка с Востока. Трясёт гронкой, созывает покупцов: «Я парень чесни, хоть и не местни. Мой винград лучша всеха! Подходи – вешаю бэз очередь сразу!» А я хоть и местный, но скажу честно… Никогда не стареющий неунывака ветер аккуратно носит меня по земле из края в край… Бережёт… Ухожу уже десятый раз. Ебилей! А вот вернусь ли? Кто за меня скажет?
– Я знаю, вернёшься. Ты не устал туда-сюда катать одно и то же колесо? Не надоел тебе этот китайский шахсей-вахсей-бахсей?
– А почему надоел? Это не надоедает. Даже в интерес в большой я въехал. То разлука, то любовь… Рома-антика… Как молодята… Знаешь же, разлука для любви, что ветер для костра. Сильней разжигает!
3 сентября 1991
По картошку
А Нижнедевицк будто вымер.
Ещё затемно вёдра, лопаты, вилы разбежались во все стороны.
На картошку!
Мы с Григорием рано встали.
Да свели на позднее.
Уже за семь настучало, когда мы пошли.
Ветрогон пыль на дороге крутит, по красному лету со стоном рыдает…
У рыбного магазина нас подхватил на мотоцикл наш милый соседушка синеглазый кудряш Алёшик Баркалов со странным прозвищем Адам:
– Я свою девку отвёз в школу за двойками. С утреца пораньше уже сделал одно благое дельце… Мне, жмотоциклисту, всё равно тут по своим делам му-му валять до девяти. Работун из меня… Раз по пальцам, два по яйцам… А вижу, вы шевелите помидорами.[246] Чем без дела гавов ловить, лучше, думаю, доброшу вас к огороду.
Алёша подал мне шлем:
– Надевай малахай!
– Зачем?
– При аварии чтоб вульгарно не окропил умными мозгами меня с отцом Григорием.
– Ты, вихревей, слишком грубо мне льстишь! – хохотнул я. – Ты всерьёз считаешь, что у меня есть что разбрызгивать?
– Без митинга надевай малахай! И будешь, как господин 420.
– А без малахая нельзя пробиться в господа?
– Без малахая можно прибиться к штрафному стольнику. Зачем нам такие барыши?
В Разброде мы раскланиваемся с Алёшей и по полю ещё долго бредём к своей делянке.
Люди уже давно выбирают.
Стыдно глядеть в глаза. Во сони ползут!
Ну ёханый бабай! Удружили нашим огородец аж за четыре километрища. Хорошо, что у наших за сараем жирует клочок земли. А не будь его, как у жильцов новых домов? За моркошкой, за луковым пером к обеду слетай за восемь кэмэ?
В поле жуткий ветер.
Я не знаю, как и быть. На мне фуфайка, трико под брюками, глубокие калоши, мои бумажные и мамины пуховые носки.
Как-то неохота, чтоб просквозило.
Парит.
Гриша подкапывает.
Я выбираю.
Я весь мокрый. Хотел подраздеться.
А Гриша:
– Не смей расчехляться! У меня спина всё время мокрая. Прохладно.
Гриша следит, чтоб я выбирал чисто.
По временам он перекапывает за мной. Нашёл раз картошину, в укоризне шатает головой, цокая языком:
– Это ж на целый суп!
– Лучше б посматривал, как тут сам вчера рвал фасольку. Сколько побросал!
За весь день мы присели лишь минут на десять. На мешках. Когда обедали.
Руки у него, копача, чистые. А у меня, как у чушки.
Перед едой он советует:
– Ты экономно помой два пальца. А на остальные воду не переводи.
У нас воды-то одна бутылка с наклейкой «Мартуни». Бутылка из-под азербайджанского вина.
За компанию вместе с двумя пальцами как-то нечаянно вымыл я ещё три. И вовсе не потому, что вода мешала, а потому, что и остальные пожелали за обедом быть чистёхами.
С непривычки я устал как бобик.
И больше всего я боялся сесть.
Иначе потом каким домкратом меня подымешь?
После обеда над нами без конца кружил, покачивая крыльями, кукурузник.
Пролетит чуть ли не на бреющем с финтифлюшками и скроется за бугор. Через полчаса опять несётся дебил. Лыбится во всю картинку. Совсем унаглел! Или он из шизиловки сбежал и ему не хрена делать? Так хоть керосин не порть!
И когда он в очередной раз с фигурами дребезжал над нами, я в распале погрозил ему кулаком с выставленной чёрной дулей.
И больше жужжало не проявлялось.
В полпятого пришла машина.
Грише это не понравилось:
– Васёк! Чего так рано прискакал? Мы ж договаривались на полшестого!
– Ну Ядрёна Родионовна – Пушкина мать! Я ж, Гришок, плохо переношу конкуренцию. Боюсь, а ну кто другой перехватя, я и останься, как дурёка, тверёзый? Хочу, чтоб во мне постоянно кипела непримиримая гражданская война белых с красными…[247] Жизнь-то тут как?
– Да бьёт по голове и всё буром.
С шофёром увязался ещё один момырь, любитель чужих стаканчиков. Витёк. Слесарь с маслозавода.
И Васёка, и Витёка как-то остервенело хватали огромные чувалы и, раскачав, картинно вбрасывали в кузов. Будто они были с пухом.
– Вишь, – шепчет мне Гриша, – как огнище заставляет вчерняк арабить? Что значит оплата натурой. Водяра правит деревенским миром!
Скоро все одиннадцать мешков покоились на машине.
Закрыли борта.
– Ты, – плутовато подмигнул мне приятка шофёра, – мешочка три прихватизируй в панскую Москву. Как гостинчик.
– Да где он будет её хранить? – возразил Гриша.
– А зачем хранить? Продаст! У нас, в Нижнедевицке, три рубляша за килограммидзе! Жи-ву-ха! Как у тебя жизнёнка? Красивая? Как в «Правде»? Ты сейчас где рисуешь? Не в этой ли «Правдуне»?
– Никогда я там и строчки не опубликовал! И не собираюсь!
– Так-то оно лучше. Как её Боря-бульдозер уделал? Не опомнилась – уже без девиза. Как без пролетарских трусиков. Голенькая кларка целкин. Не зовёт пролетарии в один шалаш. И Ильича посеяла с груди. Обновилась. Тазиком накрылась.
Я еле дополз до нашего чума, до койки. И рухнул.
Во мне болела каждая костонька.
Будто майданутый танк поплясал на мне лезгинку.
4 сентября 1991
Чёрная биография белой кошки
Гриша позвал меня в сени.
Я еле вышел и обомлел.
За ухо он деликатно держал перед собой мышь.
– Укусит же! – в панике крикнул я.
– Оенько! – успокаивает мама. – У Гриши пальцы закоцубели. Ни одна мыша не угрызёт! У нас этих мышей… Ходенём ходять!
– У какой норки ты её подсидел? – впал я в любопытство.
– Вот тут, – показал он глазами на чувал с пшеном для кур, накрытый старой настольной клеёнкой. – Вижу, тряпочка шевелится. Эгеюшки, думаю, мышки в еде разбежались. На месте преступления я её и накрой!
Он толкнул плечом дверь и, не давая ногой ей закрыться, позвал со двора кошку.
Из копёшки сена на пологой крыше погреба под яблоней не сразу показалась наша белая кошка с чёрным нарядным платочком на голове. Шла она вальяжно, вразвалочку. И совсем нехотя. Будто серчала, что осмелились снять её с уютной душистой постельки.
– Мадам Фуфу! Это что? – помахал перед нею Гриша мышью.
Кошка отмахнулась лапой и сонно потянулась.
– Ты чего из себя строишь дурочку? Тут и безо всякого строительства всё ясно. Ты на чьём довольствии королевствуешь? Ты что себе позволяешь? Мыши по нашей юрте под ручку парами фланируют! А тебе хоть бы хны? Ты знаешь, что чипсогрыз Павлов[248] повысил цены на продукты в три-шестнадцать раз!? Тебя это не колышет? Тебе всё до лампадки? Тебе что до Павлова дня наливали консервную банку молока, что сейчас… Когда ж ты соизволишь начать работать?
Гриша приткнул мышь к каштану у порога.
Мышь вцепилась в кору.
– Ну-с, мадам! Извольте пешком по рельсам! – приказал мышке.
И только он отпустил, серая на пуле дёрнула вверх по стволу.
Кошка только тоскливо глянула на неё.
Но погнаться и не подумала.
– Брысь, мымра, отсюда! – с притопом гаркнул Григорий на кошку, и та пометёхала снова к копёшке. – До чего дожила! Я штук тридцать поймал! Давал ей на обеды. Скольких зевнула!
– Может, – думаю я вслух, – надо было поджарить с лучком?
– Я поджарю её хворостиной! На крыше погреба среди яблок спит и спит эта дрыхоня. А ты день на огороде на лопате катаешься, ещё и мышей за неё гоняй! А она!.. Летом взяли два десятка цыплят. Двухнедельников. Посадил в решетчатую огородку до вечера. А сверху не прикрыл. С крыши погреба она с дочурой и прыгни туда. Шестерых слопали! Остальных передушили и сложили в две равные кучки. Это её, это дочуркина!
– Зачем же ты держишь этих бандиток?
– Тут и забурлишь решалкой,[249] – мнётся Гриша. – Что интересно, когда охотится, хороших крыс в сарае берёт. Смотришь – потащила. Положит перед своими ребятами-котятами и пошла обедня… А к мышам в доме не притрагивается. На верёвке в наш шалаш не затащишь.
– Может, мышками, этой мелочью, она гребует? Предпочитает работу по-крупному?
– Пожалуй. И вышла у нас полная специализация. Я гоняю мышей, она – крыс. А крыса не мышь. Трудней взять крысу. Кошка и берёт. А я пока не могу. Только поэтому я её и терплю.
5 сентября 1991
Трещина
«Ленин везде с нами!»
Эта меловая надпись на задней стенке звонилки[250] у автовокзальчика твёрдо подчёркнута толстой чертой, запряжённой в чёрную стрелку.
Стрелка показывала, где искать ленинские места в Нижнедевицке.
И я пошлёпал, куда посылала стрелка.
Я очутился на площади перед райкомом партии.
У Ленина.
Он стоял в излюбленной позе. С протянутой рукой.
В неё никто не подавал. Одни только голуби. И так много наподавали, что щедро осыпали своими подношениями и ладонь, и рукав, и голову, и бантик в петлице.
И экспроприированная троечка повыцвела, поистрепалась. По всему пальтецу на меридиане пупка белая полоса краски. Кто-то из любви ливанул.
И гордо стоит Ильич, не замечает брачка в своём виде.
Стоит и посылает перстом.
Куда?
По пустырю вниз, поверх плаката на развилке улиц «Трудящиеся района! Внесём свой конкретный вклад в перестройку!» на голый, выгоревший лысый бугор. В тупик.
Мёртвый бугор – это горизонт, перспектива.
А по пути к пустому бугру-тупику двуэтажилась районная почта.
А почты вождь любил. Прям подозрительно обожал.
В семнадцатом он прежде всего что себе умкнул?
То-то ж.
Нижнедевицкую почту строители возводили многотрудно.
С коммунистическими боями.
Сдачу всё откладывали да откладывали.
И партия сказала:
– Скоро круглая дата Октября. Сдать к Октябрю! Это будет лучшим подарком Ильичу!
Строители, естественно, традиционно не укладывались.
Райком-рейхстаг, естественно, стандартно напирал.
И лучший двухэтажный подарок оказался инвалидом.
Репнул посерёдке.
Говорят, в целях безопасности приёмную комиссию не пустили в здание. Велено было принимать дорогой объект на почтительном отдалении. Опять же во избежание дорогих жертв в сплочённой команде комиссии.
Ну, отрапортовали.
Ну, даже открыли почту.
А она тут же возьми и лопни ещё больше.
Как раз у входа.
Трещина, будто молния, от самой крыши пронзила здание до самого низу, упрятывая свой тонкий хвост под фиолетовую, как синяк под глазом, вывеску
Нижнедевицкий районный узел связи
И тогда взяли почту в столбы.
Попарно поставили в четырёх окнах второго этажа. Скрепили столбы накрепко досками.
Дивится народ.
– Или война, – спрашивает меня мама, – что окна закиданы столбами-досками? Затянули трещину картиной… Мал дядько Ленин оказался. Даже трещину не хватило им закрыть. Война-а…
– И без войны лопнула почта…
– Тут, сыно, дело покруче. Почта уже лопнула потом. А попервах ляпонулась гнилуха властёха. Скилько жила она, стилько и воевала со своим народом… В голод вогнала… Ка-ак изнущалась? Ско-оль изничтожила путящего миру? Ответит она за это Богу? Ай нет?
И задумалась вседорогая власть.
И додумалась.
Все эти четыре окна, всю эту двухэтажную хрень закрыли с фасада новой гигантской картинкой Ленина. Не той, где он куда-то коллективно якобы несёт брёвнышко. (Мне иногда мерещится, не то несёт, не то сам на брёвнышке висит-катается…) А той, где он в кепочке и так лукаво машет ручкой:
«Правильной дорогой идёте, товарищи!»
Верх трещины не виден. А низ…
Похоже, трещина твёрдо взяла курс дойти до земли. Казалось, трещина выползала как бы из пятки вождя.
Так вот и скрепили узел связи безразмерной ленинской картиной-полотнищем.
Но грянул коммунистический путч.
И партия мужественно добилась своего, к чему решительно рвалась все семьдесят три года.
Райком-рейхстаг закрыли.
И в его белый особняк въехала райстатистика.
«Товарищей считать»?
Справа, над райсоветом, воспарил трёхцветный флаг.
И ленинскую картинищу скинули с почты.
Ляпнулся вождь яйцом в грязь.
Хватит верным нижнедевицким гражданам ленинцам свои ум, честь и совесть прикрывать вождём на полотне.
И всем теперь стало ясно видно, кто есть ху.
И днём, и ночью.
Даже самой тёмной.
Разброд
«Не бойся делать то, что еще не умеешь. Ковчег был построен любителем, «Титаник» строили профессионалы».
С непривычки я так позавчера упахался на картошке, что не то что пальчиком – мыслью не мог шевельнуть.
Пластом вчера лежал. Отходил.
А Грише хоть бы хны.
Сбегал в компрессорную, отбухал свою смену.
Сегодня ему в ночь. День свободный. Значит, снова культпоход на картошку.
Мама поднялась в три ночи.
Торопко подвязывает юбку бечёвочкой.
– Хлопцы! Я с вами побегу на картоху! А то лежу, як коровяка!
А в коровяке всего-то килограммов сорок, не считая зубов в стакане с водой. И восемьдесят один год.
– Михална, отбой! – командует Гриша. – Не знала, где тот наш огород. Не сажала, не окучивала… Не будешь и копать. Спи. Ещё черти не бились на углу на кулачках. А она вскочила!
И выключил свет.
Мама постояла-постояла и на вздохе легла.
Гриша угнездился на полу, на толсто сложенных новых коврах. Поближе к себе пододвинул будильник.
То будильник синел на неработающем холодильнике в кухоньке-прихожей, и я его не слышал. А тут бух-бух-бух над ухом. Как молотом по башне.
Попробуй усни!
Григорий встал в полпятого и убежал с мешками на огород.
На дворе бешеный ветер.
А в поле что? Ураганище?
Не унесло б… Не выдуло б всё из головы…
С моим бронхитом только меня и не хватало на нашем картофельном бугре, расчехлённом всем ветрам.
Гриша не велел мне идти.
Да с какими глазами куковать дома?
Часов в одиннадцать чёрные тучи задёрнули небо.
Наверняка рванёт дождища!
Я не удержался. На попутном дмитриевском автобусе доскочил до Разброда. А там полем почесал к нашей делянке.
Ну…
Удружили ж нам огород у чёрта на куличках.
Рядом с лужком, где Макар пас телят.
Правда, сейчас ни Макара, ни телят не было на лужке. Испугала их непогода, и они не вышли из села.
Только я наклонился выбирать – ливанул дождяра.
У нас по полиэтиленовому плащу. Без рукавов.
Зато есть хоть по капюшону с тесёмочками.
Подвязались под подбородками и сидим на корточках. Чтоб ветер не так рвал.
Сидим на кукуе.[251]
Я вспомнил море, вечное южное солнце и грузын, вечно сидящих от безделья на корточках.
Изнывая от жары, син Капкаса может целыми днями преть на корточках.
Покурил. Поплевал. Вздремнул…
Вздремнул. Поплевал. Покурил…
Покурил. Поплевал. Вздремнул…
Обложил матом проходившую мимо русскую девушку, раз отказалась от его пылкого приглашения присесть на корточки рядом и покурить…
О! Уже вечер. Надо грести дремать уже дома.
В великих трудах и проходил грузинский день…
По приметам, сегодняшний дождь обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год. Д что нам будущий год? Убрать бы то, что этим летом выросло.
Я смотрю, как белыми ядрами дождина обстреливает беззащитные картошины, и мне становится не по себе.
– Гриша! Ну зачем ты сразу пол-огорода выбурхал? Теперь вся картошка наверху. Лежит купается бедная. В земле б она спала сухая…
– Кто ж знал, что так оно крутанётся?
– Я ж тебе и раньше не раз выпевал… Надо… Выкопал с комнату. Подбери. Подобрал – снова копай. А ты? Ты как тот перегретый на солнцежоге грузын. Только познакомился с крутишкой и тут же норовит спустить с себя свои тряпочки, пламенно уговаривая её срочно последовать его горячему примеру. Всё шиворот-набекрень!
Как только дождь чуть сбавлял обороты, мы в судороге втыкались в землю. Три мешка выбрали.
Мы уже не обращали внимания на дождь. Бросили придерживать плащи.
Автоматными очередями палили они на ветру у нас за спинами.
В низу бугра сидели на корточках копальщики, насунув на головы белые цинковые и красные, зелёные пластмассовые вёдра.
– Люди живут кучками, – с тоской глянул Гриша вниз. – А мы по-одному… По-одному. Или мы бирюки?
Брюки на мне мокры до самой развилки.
Ребром ладони я сталкиваю воду с колена.
– Это уже не картошка! – сожалеюще кривится Гриша. – Это уже могила. Давай дуй к мамке в чум!
– Да, может, ещё размечет ветер эту хлябь?
Я смотрю на мутно-светлый клок неба.
Божечко мой! Подай солнышка…
– С-солнце! – распрямившись, варяжно рявкнул Григорий в оружейных хлопках плаща.
Великанистый, могучий, в размётанной по груди былинной бороде, он и впрямь походил на богатыря.
– Страшно! Вся Гусёвка чёрная, – показал он на низ неба. – Все пакости от госпожи Гусёвки! Иди, пока ещё ходится. Я не понимаю, зачем ты прибежал!
Я тоже не понимал. Был ветер. Заходил дождь. Все основания для домашней отсидки.
Но я приплёлся.
Наработал!
Весь мокрый. Потряхивает озноб.
Гриша наступил ногой на куст, к которому я потянулся обирать.
– Командировка выписана. До-мой!
Я не стал противиться. Выписана так выписана.
– Извини, – бормотнул я повинно и побрёл к дороге.
Я шёл с бугра боком, боясь загреметь на осклизлой мокреди.
Глубокие калоши нацепляли пуды грязи, выворачивались, всё норовили сорваться с ног. И срывались.
Тогда я тыкался бумажным носком в сырь.
У большака две милые юницы в лёгких платьицах, мокрые, как вода, сушили на ветру газовые косынки, поднявши их над головами, и беззлобно препирались. Уходить или не уходить?
– Скажите, – обратились они ко мне. – Рассудите нас. Дождь будет?
– Нет! – вызывающе крикнул я.
– Тогда чего ж капитулировали со своего картофельного рубежа?
– Родина приказала!
– А-а, – уважительно покивала головой одна янгица. – А в том приказе не было наших фамилий?
Я сделал вид, что не слышал, и пошёл себе.
– Да айдаюшки и мы! Бу-удет дождь. Ещё какой! Чего?! Картошка не наша…
Я не вытерпел и съехидничал:
– Обязательно будет! Ну раз картошка-то не ваша!
И радостные девичьи ноги в шалости благодарно зашлёпали по грязи у меня за спиной.
Асфальт дороги залила жижа пальца на полтора, и всякая пробегающая машина норовила оплевать тебя с корени до вышки.
Дорога немного разогрела меня. Расхотелось одному плестись, я срезал шаг. Авось нагонят милые улыбашки.
Только я так подумал, как пеструшек окликнул старчик со встречной телеги. В кузовке он стоял на коленях с вожжами в руках. Ноги в кирзовых сапогах держали попиком жёлтое пластмассовое корыто. Казалось, ехал дед в жёлтой нише.
– Дедунюшка! – крикнула одна из девушек, грациозно всплывая на телегу. – Да что ж вы едете, как в стоячем гробу?!
– Ну, – равнодушно махнул рукой старик, – не до разбору. Стоячий там, лежачий… А сыпани дождина, я загодя уже в укрытии. Дождь ноне обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год. Добрый ноне дождь… Айдаеньки, королевишны, заберём, что вы там укопали.
И увёз моих хорошек.
6 сентября 1991







