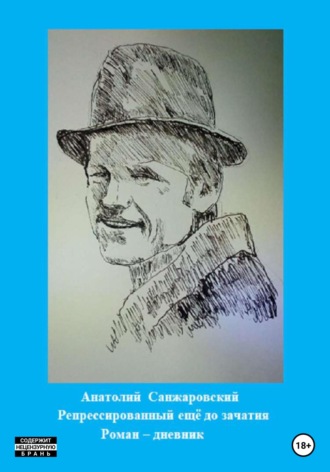
Анатолий Никифорович Санжаровский
Репрессированный ещё до зачатия
Хулиганистый чурбачок
Взял отгул за прогул на выпуске. Вожусь с дверью.
Со стула вправляю хулиганистый чурбачок над дверью. Он вроде вошёл на своё место. Да я не устоял, рухнул со стула. Зацепился за гвоздь в стене. Разодрал ладонь. Плеснул йода и в медпункт.
– Где работаете?
– В ТАССе.
– Это где же?
Медсестра трудно записывает под мою диктовку по аршинной буковке:
– Т… А… С…
Я в нетерпении:
– Добавьте ещё одну С. Больше не будет.
Вернулся в бинтах.
Снова лезу на стул и снова падаю.
Падая, хотел удержаться за бревно в стене. Конечно, не удержался. Только сильно саданул ладонью по бревну и кровь полилась сквозь толщу ваты и бинтов. От боли мне хочется писать. Холодно в животе и жарко в голове.
Да-а… Странно, Анна Ивановна. Чай пила, а живот холодный.
Отключили свет. Соколинка пожарила на керосинке мне сала и принесла пива:
– Пей! Не упирайся! А то услышит!
И кивает на стену, за которой наверняка надставила уши топориком бдительная Кэтрин, она же баба Катя.
Я поел и уснул.
20 апреля
Столетие Ленина
Идти на работу.
Лестницы пока нет.
Первый раз выпрыгнул в свою дверь-окно. Героем смотрю на торжественно окружающий меня мир.
Соколинка подобострастно:
– Соседи тебя хвалят. Молодец! Всё сам!
– Я и девок сам. Не зову на помощь. Универсалище!
В конторе тихо. Как в мавзолее.
Идёт столетнее заседание. Из конференц-зала выходить нельзя. На стене приказ
21, 22 апреля всем сотрудникам ГРСИ, не работающим в Кремле и на главном выпуске, прибыть в редакции к 9.00 и находиться на своих рабочих местах. Выполнение неоперативных заданий, связанных с выходом из здания ТАСС, запрещается.
Сидим. Обхватили пустые столы руками. Не отдадим исторические завоевания Ильича!
Вот и подарок к столетию Ленина.
В 10.00, за десять минут до торжества, в Кремле была коллегия и Лапина кинули на радио.
У нас сменился папа.
Теперь надо любить Замятина. Он заведовал в МИДе отделом печати.
Артёмов кисло:
– А наш новый генеральный – дярёвня! Митрофанович! Так только в деревне могут назвать.
– Теперь, – скребёт Медведев темечко, – и титулы изменит. Заведующие редакциями станут послами, редакторы – посланниками, редакторы в командировке – временными поверенными.
Медведев засиял.
Поглаживает ленинскую медальку на груди:
– Наверху баба из райкома вручала. Сказала: «Ленинскую премию можно когда хочешь получить. Только постарайся. А ленинскую медаль не получишь!»
Влетел малый из спортредакции и к нашему расписанию.
Медведев, поглаживая ленинскую медалишку на груди, с ядовитой усмешкой цедит:
– Это расписание для шпионов. Оно старое. Вот попадёт к нам шпион – введём в заблуждение.
Бузулук воет стих:
– Я видел, как ветер кобылу свалил…
Дальше дело застопорилось.
Он морщится и кричит входившему Молчанову:
– Нахапетов! Сюда!
Он называет Молчанова Нахапетовым.[110] Внешне они похожи слегка.
Валька подходит ближе, и Олег начитывает ему своё горячее свеженькое творение:
– Приходите, тётя Лошадь,
Нашу Лену покачать.
Как гналась за мной злая лестница
Кусково ещё спит. Рань.
А я уже тюкаю молотком на своей веранде. Кладу последние половые доски.
Строю-с дорогую вер-р-рандео!
Моё Кусково спешно рушили.
Кругом прело полно уже покинутых домов и я быстренько натаскал оттуда досок, дверей, брёвен, старой жести для крыши. За апрельские вечера и выходные я слепёхал себе веранду. Какую красотищу залобанил!
Летом вокруг всё зацветёт. Фазенда! Под окном я посажу подсолнухи, фасоль и несколько корней огурцов.
И это ещё не всё моё богатство. Ещё были подобранная бездомная собачка с красным бантом на груди да отражённый в моём окошке чужой сад.
И вот положена последняя доска.
Пол готов!
Он у меня на столбиках высотой так с метр.
Под верандейкой я расквартирую дрова.
Но как входить? Нужна лестница ступенек в десять.
Самому её лепить – штука чумная.
Не проще ли раздобыть где в заброшенном старом вигваме?
Поблизости такой лестницы не попадалось и я побрёл на ту сторону железной дороги.
У дома без окон и без дверей на берегу пруда я наскочил на то, что искал.
Бросовой электропроводкой подхватил за скобу почти новёхонькую лестницу и, сунув топор за пояс, поволок.
Экую махину через бесчисленные пути не протаранить, я и попри свою ненаглядку на мост.
Как по ступенькам встащил на самый верх и не скажу.
Пот лился по всем моим желобкам.
По мосту красиво прожёг.
И остался самый пустяк. Спуститься с моста.
Потянул я по ступенькам вниз, и моя тушистая госпожа Лестница покорно и легко пошла за мной.
Вначале она медленно плыла, но потом вдруг взбесилась и полетела на меня.
Что делать?
Громокипящая громада чертоломит за мной во всю ширь мостовых ступенек. В сторону не стригануть. Но и пластаться впереди всё быстрей бегущей за тобой махины нет сил.
Я до сих пор не знаю, как она не настигла меня на мосту и не срезала с ног.
Уже на земле, сам не свой, подошёл я к своей буйной Лестнице и говорю:
– Милая! Ты что, спятила? Ты чего за мной гналась? Ты ж могла меня раздавить! И думаешь, тебе от этого было б лучше? Чужие люди тебя б раскроили топориками и сгорела б ты в печи. А при мне ты ещё поживёшь. Тебе у меня понравится. Вот увидишь. Ну, пошли домой…
Притащил я её.
Тут же скобами прихватил к своей веранде.
А ну ещё убежит, если отложу на потом. А теперь, когда прихвачена толстенными скобами, от меня ей не улизнуть.
Я ещё и снизу вбил в землю по штырю, чтоб её сдерживали.
– Ну, – смахиваю пот со лба, – нравится тебе, госпожа Лестница, у нас? Молчишь? Сказать нечего? Там ты, у пруда, кисла под открытым небом. Дождь, снег – твои. Невозможное солнце – твоё. А тут тебе рай. Над тобой крыша крыльца. И соседи какие у тебя. С одной стороны огромнющий куст цветущих роз, по другую сторону будет живой подсолнух в цвету… Вон там, чуть поодаль, видишь, будет цвести картошка, по забору будет виться фасоль, огурцы побежат по плетню… Раньше там гнила помойка. Со всего дома несли. А я возьми и разбей тут огородишко! Соседи какие у тебя… Красота всюду теперь какая! Любуйся… Всё равно, милушка, молчишь… Ну, я и сам не люблю байду разводить.[111] Спасибо, что на мосту не нагнала… Мы с тобой мирком да ладком ещё не один годок уживём!
1 Мая
Верандео
И снова продолжение пляски на верандео.
Где что подчистить, где что подогнать… Да мало ль радостных хлопот у подновлённого своего дупла?
Под окном разлился огромный куст роз.
Соколинка говорит:
– Если мешает… Сруби!
– Мне цветы никогда не мешали.
Мы потуже собрали куст, стянули старой бельевой верёвкой. На флоксы – они на полпальчика торчат из земли – поставили перевёрнутые банки. Чтоб никто не наступил.
Баба Катя выпустила из закутка своих двух поросят погулять по солнышку. Пощипали они немного травки и ну по Катиной делянке лихо носиться, весело похрюкивая друг на дружку.
Бабка не надышится на них.
Пёс Байкал вылетел из своей конуры и вдоль соседнего забора носится за ними с диким лаем.
– Ну чего ты, Байкалушка? – лаской успокаивает его бабка. – Иди в свою каюту, – ткнула пальцем на конуру. – Иди. Не шуми. И на мальчишек, – улыбнулась проносящимся мимо поросятам, – не серчай. Они у меня лихачи! Вишь, как носются! Хоть милицию вызывай, чтоб свистела им за завышку скоростёв!
Пёс не унимается.
– Байкалка! Кончай эту злую припевку! А то, – она положила руки на подпояску на животе, – горячих насыпаю! Целый возок!
Напоминание о ремне производит на Байкала впечатление.
Он как-то срезанно авкнул и стих.
– Ну! Вот и молодец! Не серчай на моих ребяток. Они травки покушают, косточки расправют и пойдут к себе баюшки…
Пёс удивлённо уставился на бабку.
– Ты не всё понял? Иль тебе не в понятку, чего они хрюкают? Так они это так смеются! И боль ничего! И не над тобой смеются. А так, промежду собойкой. Играются!
Пёс зевнул и лёг, положил голову на лапы.
Тут поросята, разом оттолкнув носами калитку, побежали к дороге.
– Эй! – кричит им вдогонку бабка. – Вы куда-а? Там машины!
Как ни странно беглецы остановились. Будто задумались: и в самом деле, куда мы летим?
Бабка подошла к большенькому, почесала бок, и он готовно опрокинулся, будто подкошенный. Бабка скребёт ему живот и что-то ласковое говорит, а он тихонько хрюкает и выворачивается весь, подымает живот всё выше, выше. Вот лежит он уже на спине, упираясь ногами в небо.
– Нравится? – улыбается ему бабка и продевает под него бечёвку. Он не чует подвоха и в ответ лишь легонько похрюкивает. Бабка потуже стягивает верёвку, взваливает поросёнка на спину и тащит назад. Сделала шага три и ушастик выскользнул из неплотного кольца бечёвки, побежал к закутку.
Бабка сияет. Роняет ему вослед:
– Ничегошко… Живой…
Я с улыбкой наблюдал за милой идиллией. Бабка это заметила и, проходя мимо, спросила:
– Как дела, Толя? Идут?
– Куда ж они денутся? Что им делать? Идут… Вчера из дома получил посылку. Прислали яйца и кусок сала. Заходите как-нибудь. Угощу.
– Тут меня упрашивать не надо…
Она услышала шаги. Повернулась.
Соколинка несла завтрак Байкалу, и баба Катя сказала ей:
– Мань! Ну когда мы с тобой женим нашего Антолика?
– Это вопрос с задачей…
– И с большой! Ты, – говорит мне баба Катя, – всё ищешь запечатанных.[112] А их тольке в таких и найдёшь, как я. Вот на днях была у врача. Он ясно мне сказал, что всё моё всё при мне. В полной сохранности. Никому чужому ни грамма не дадено. Всё при мне! А у молодых этого добра незнамо. Да и где этих целинок наберёшься для вашего брата?
– А всё мужики виноваты! – шумнула Соколинка. – Норовят перепортить всех девок и невинность в дом привесть.
– А где её взять? – разводит руками баба Катя. – Горбатый вопрос.
2 мая
Персональный гимн
За праздник я так наломался на веранде…
Все костоньки плачут.
Работа. Заметок нет. Чем заняться?
Что вижу, что слышу под интерес – всё тащу в дневник.
По временам мелькает перед носом белая поддёвка – Аккуратова садится, приподымая платье. Уж лучше бы вовсе не видеть эту каравеллу Колумба с кормой[113] шире клумбы!
Медведев читает её заметку и выговаривает:
– Не «Началось сооружение», а «Начато сооружение». Так надо.
– Всё закавыка в -лось. Люди ведь строят! – вскакивает Татьяна. – Я всегда правлю: «не началось», а «начали».
Владимиру Ильичу тоже, глядя на начальство, хочется ввязаться в дискуссию:
– Разве можно сказать «Изготовили 100 тонн стали»? Изготовить можно машину, а сталь плавят.
Бузулук звонит на междугородную телефонную станцию:
– Девочки! С послепраздничком вас! Как нам вытащить на редакцию Кривой Рог?
– Какой лисий голос! – восхищается Артёмов.
Я выстриг из липецкой газеты за 22 апреля на всю страницу две красные строки:
Ты всегда с нами,
Наш дорогой Ильич!
Вырезку отдал нашему Ильичу со словами:
– Это о тебе персональный гимн.
Он лишь довольно хмыкнул.
Бузулук:
– Ну, я понёс заметку Лю Сяо Ци (Люсе Ермаковой на выпуск Б).
Люся пришла с Олегом и спрашивает:
– Где ваш вождь и слегка учитель Новиков? У него моя зарплата.
– Неужели вам, – усмехается Медведев, – почти главному выпускающему, нужны деньги?
Ермакова полуобиженно:
– Зачем так жестоко смеяться? Надо мной уже смеялись.
– Кто?
– Общественность?
– Когда?
– Намедни.
– А у нас Калистратов пропал. Три дня не работал до праздника. Нет его и сегодня. Говорили, что в подмоге у Смирновой. Спросил её. Отвечает: «Никакого Калистратова у меня нет».
Бузулук горько вздыхает:
– Что вы хотите взять с лодыря необученного?
– Его учить дороже обойдётся, – уверяет Медведев. – Такого работника надо уволить.
Артёмов уходит и предупреждает:
– Если позвонит Брежнев или кто из политбюро – я буду через час.
4 мая
Грушевое варенье
Мария Александровна показала из окна на рясную грушу в своём саду:
– Толя! Не дай пропасть экой красе! Я груши не люблю. Все они твои. Рви себе, неси на работу кому. Не дай пропасть.
– Это пожалуйста! Я по грушам умираю!
И разлетелся я наварить на зиму грушевого варенья.
Да на чём варить?
У меня в пенале стоит изразцовая печь без плиты. И готовлю я себе на крохотульке электроплитке. Пока стакан воды вскипятишь – год пройдёт!
На электроплитку я поставил четырёхведёрный котёл, доверху насыпал нарезанных груш и варил двадцать шесть часов. Ночь не спал!
На медленном, сонном огне груши хорошо уварились.
Варенье получилось сказкино.
И через пять лет оно будет смотреться таким, как будто только что сняли его с огня.
12 августа
На картошку!
Меня вызывает Колесов.
Не Таймыр, не Колыма. А именно вот пан Колёскин.
За что на ковёр? Я ж месяц был в отпуске. Грехов ещё не напёк.
Захожу.
У него масляная улыбка до ушей.
– Анатолий Никифорович! Зайдите через пять минут.
Странно… По имени-отчеству…
Я ухожу в кабинет задумчивости[114] и тупо гадаю, что же сейчас со мной будет. Да-а, тучи всё сильнее сгущаются. Снаряды рвутся совсем рядом… Ох… Подождать, когда снаряды начнут точно попадать? Тогда будет уже поздно. Как и где пересидеть эту бурю? Не высовываться отсюда? Ну, ваньзя!
Я выхожу из туалета.
– Где тебя хрен качает? – набросился на меня Иткин. – К главному на одной ноге!
Колесов, Князев, я. Триумвират.
– ЦК КПСС, МК КПСС, Моссовет, – духоподъёмненько затягивает свою лебединую песнь Коляскин, – поставили задачу о завозе продуктов в столицу местными силами в связи со сложившимися трудными обстоятельствами. Вы об этом знаете. Мы обращаемся к вам за помощью. Задача такова: надо организовать сбор и завоз продуктов. Придётся заниматься и переборкой капусты. Это нетрудно. Чтоб отрывать капустные листья, не надо быть Геркулесом.
– Достаточно быть зайцем, – уточнил Князев.
Я обрадовался, что зван не на эшафот, не на ковёрную прокатку, и проблеял:
– Не знаю, какой я руководитель, но сделаю всё, что от меня зависит. Овощи будут! Поверьте моему честному слову. Все силёнки кину! Организую. Вот…
– Там нужен личный пример, – робко подсказал Князев.
– Я и пример подам. Не то подавали.
– Там работать надо, – уточняет он.
– И поработаем!
– Там нужно самому работать.
– А я и не собираюсь перекладывать на чужие плечи.
– Там нужно просто самому убирать картошку.
– Не привыкать… С детства пахал у себя на огороде. Физического труда не боюсь. Вон полдома сам построил. Купил чёрте что и построил.
Колесов крякнул:
– Здесь у вас будет идти стопроцентная зарплата. Плюс то, что заработаете в совхозе.
13 августа
Дадим!
Еду в совхоз «Чулки-Соколово».
Нас битый час наставляли уму-разуму в парткоме.
В автобусе ко мне подсел бочком Шурик, верзила-шкаф из грамзаписи «Мелодия».
– Ну какая от нас польза? Это же порнография! У вас длинные музыкальные пальцы, а у меня любовь к вину и работать на сельской ниве мне противопоказано.
Шурик вернулся к своим на заднее сиденье, и там они шумно разыгрывали на спичках, кто ж выпьет первый халявную лампаду[115] на 101 километре. Выиграл Шурик.
Автобус летел по Зарайску, когда к водителю еле подошёл пьянюга:
– Шеф! Остановились! У нас не стало одного…
– А куда он делся? Я ж нигде в дороге не останавливался…
– Святой! Чудотворец! Вышел сквозь закрытую дверь! – хохотнул Коля. – Открой! Я пойду его искать.
– Не валяй дурочку. Бутылку будешь искать? Мало набрался? Потерпи. До совхоза осталось всего пяток километров. Там и отоваришься!
– Тебе в доклад не пойду. Открывай, ящер печной!
Водила шумнул в салон:
– Ребята! Возьмите этого чумрика…
Но никто не шевельнулся. Никто не хотел связываться с пиянистом.[116] И шофёр, плюнув, открыл дверь.
Коля побрёл по проезжине.
Навстречу лошадь в телеге.
Нашла коса на камень.
Коля мужественно держался на ногах и храбро не уступал дорогу. Лошадь не собиралась обходить поддатика.
Они сошлись лицом к лицу. Мордой к морде.
Коля стал бить лошадь по голове.
Возница не стерпел избиения своей живности. Скрутил Колю и привёз на опохмелку в вытрезвитель.
Коля напоролся, за что боролся, – на штраф в двенадцать рублей и ночь провёл в вытрезвителе.
Наутро он сходил в собор Николая Чудотворца, посмотрел свою икону и на попутке доскакал до нас в Жемово. До места уборки картошки.
– Ну так нашёл ты того, кто вышел из автобуса сквозь дверь?
– Нашёл… Он перед тобой. Не выпивки ради я вылез в Зарайске. Хотелось посмотреть на свою икону. Икону Николая Чудотворца! И я посмотрел. Теперь можно и вожжаться с картошкой.
Вот такая чумная комедия…
И вернусь я к той минуте, когда мы прибыли в совхоз.
Остановились у конторы.
А выходить боязно. Наполаскивал сатанинский дождь. Кругом непролазная грязь по колено.
Так что же делать?
Спускаться на грешную землю!
Выдал комендант нам постельные тряпочки и понеслись мы дальше. В клуб в селе Жемово.
На клубе ветер теребил плакат
Дадим больше овощей Родине!
Ну…
Кому чего…
Родине – овощи.
Нам же – жильё.
В вестибюле на нарах будут спать женщины. Мы же, товарищи мужчины, будем спать в зрительном зале, а избранные – в президиуме (на сцене). Но все на нарах.
Из автобуса мы выскакивали каждый со своим матрасом. Каждый под дождём набивал его тут мокрой соломой, которую подвезли к нашему появлению.
Ночью шёл пар от нас. Мы испарялись.
Дверь между вестибюлем и залом – между женщинами и мужчинами – не была заколочена, и ночью в потёмках публика хаотично мигрировала куда угодно сексу.
В президиуме же жительствовал лукавый народец. Есть там дурка Валера. Он кричит:
– Отбой в двенадцать. Кто опоздал… Я не виноват. Выключаем свет и… и… Опоздунам устроим весёлый бег с барьерами!
В проходе между нарами он ставит поперёк лавки и хохочет.
Входившие по темноте налетали на лавки, падали. Кто-то смеялся, кто-то ругался, а кто-то в то же время уже звонко целовался за сценой.
Там была светлица. Комната на четыре койки. Туда шли девицы, которые не хотели как простолюбинки заводить шашни с мужиками в общем стаде хотя и в потёмках.
У столовой произошла забавная сцена. Коля узнал одного гуся из вытрезвителя. Хлопнул его по плечу:
– Слушай! Почему мне знакома твоя синяя рубаха? Где я тебя видел? Ты на днях не был в райском-зарайском аквариуме?[117]
– Почему не был? Как же вытрезвиловка без меня? Обижа-аешь…
– О-о-о! Обмоем встречку! Устроим себе бенефис! Что мы, хуже артистов?
Скинулись по рублю и в посадку.
И на этом бухенвальде[118] Коля рассказал про свои последние домашние бенефисы.
– Выпили. Наутро воскресенье. Надо похмелиться, а паранджа[119] не даёт на выхлоп.[120] Ладно. Я ей и говорю: дай хоть рассолу! Она молча полезла в погреб за рассолом. Только опустилась в яму – я крышку хлоп! Поставил на крышку шифоньер. Стал я для надёжности на крышку и засылаю ей вниз условие: пока не дашь на отходняк,[121] не выпущу. Сходил к соседу, похмелился. Возвращаюсь, руку к виску и докладываю: «У меня не горит. Буду ждать твоего раскола!» – Она просит выпустить. А я еду на своём козыре: «Не дашь – не выйдешь!». С утра до полдника отсидела и больше нет её терпения. В щёлку люка пропихнула мне горбатого.[122] Чмокнул я благодарно ту люковую щёлку и выпустил на волю послушницу целую и невредимую. Ага… В другой раз выпил её одеколон и в пузырёк налил какой-то солярки. Собираемся в кино. Она перед зеркалом и ну себя хлестать из пузырька во все места. Носом что-то задёргала… Догадалась… Ка-ак пужанёт в меня тот пузырёк! Да промахнулась. Пробила окно. Я выбежал на улицу и забросил тот пузырь в кусты. Вдруг дурь ещё не улеглась, чтоб не повторила свой бросок… Потом как-то напоил не знаю чем мужа своей сестры. Мне ничего, а он в 24 часа облез. Больше в гости ко мне не ходит. А то очень обожал кудряш по гостям слоняться. Я отучил… Е-есть польза от бенефисов…
– А вот я заступлюсь за облезлого! – вдруг замахнулся пустой бутылкой зарайский варяг. – Не смей изнущаться над хорошими людьми!
– Чего ж хорошего? Болтался по гостям…
– Замолчи! Не буди во мне зверя.
– А ведь ты боишься меня.
– Я боюсь тебя? Да убить могу! А у меня семья, щенок!
Обменялись они тоскливыми оплеушинами и уныло расползлись кто куда.
На третий день появился на личной «Волге» МОЩ 69 – 39 запоздалый помогайчик из ТАССа.
Вылез из своей машины и заявил:
– Я покажу, как надо работать не прикладая рук!
И показал.
До уборки картошки и вообще ни до какой работы он не дошёл.
Во все дни не вылезал из машины.
За ним табунились девки. Возил их в город в кино, на танцы, в ресторан. В машину набивалось человек по десять.
Сам он приударял за юнчихой Кланей, которую звал Дрожит Бедро. Кланя собиралась поступать во ВГИК и была похожа на Брижит Бардо.
Но кончилось всё пшиком.
Кланю увезли в больницу.
С чем-то венерическим.
Уборкой картошки и не пахло.
Из шести тассовских мужиков создали бригаду.
На пилораме мы катали брёвна, убирали мусор. Приводили двор в порядок.
Вскоре меня из бригады перекинули в помощники печника.
Бледный, хлипкий мой печник был мне ровесник.
Начали мы с того, что на складе взяли печные плиты. Одну он отвёз знакомому, и тот принёс литр водки.
Мой начальник опорожнил бутылку, окосел, будто его подрубили.
Я его на плечо и отнёс домой. Положил на ступеньках.
После обеда он не пожаловал работать. Я пришёл к нему. Он беспробудно спал на ступеньках.
Я выговор заведующему пилорамой:
– Я сюда приехал работать, а не пьянь разносить.
– Это тоже дело. За это я тебе тоже выведу. И неплохо.
Всё же мы сложили две печки.
– Какие мы стахановцы! – похвалился печник.
– Может, стакановцы?
– Всё у нас может быть. Мы универсалы. Плохо, что ты совсем не пьёшь. Это о-ч-ч-чень большое упущение. Но я тебя исправлю!
– И не пытайся!
– Попытка не пытка. Я всё ж таки мастерец… На прошлой неделе сдал калымных бутылок на тридцать четыре рубля!
За полмесяца я заработал сорок пять рублей. Девчонкам за пятидневку выводили и по тринадцать копеек. Они пололи капусту, собирали помидоры и огурцы.
Питание в столовой было не ахти, и мы ломали грибы, варили и жарили. Хоть нас на уборку картошки и не пустили, но мы всё равно не обегали картофельное поле. Подкапывали под вечер по полсумки и варили. С постным маслом – объедение.
Кто-то на пилораме сделал из дранки меч. Я его взял себе. Хранил на своих на нарах под матрасом. Повешу дома над диваном…
Перед отъездом многие мужики взяли по поллитровке. Чтобы не затосковать в дороге. Ехалось весело. Один мухомор так набрался, что всё просился к девчонкам на колени. Ему уступили. Он всю дорогу спал у девиц на коленях.
Из совхоза я привёз два мешка яблок. Нарвал в заброшенном саду. Этой осенью собирались его вырубать.
Высадили меня у Курского вокзала.
Как добраться до электрички?
Два мешка на один горб не усадишь.
Я тащил один мешок и постоянно оглядывался, чтоб второму мешку не приделал кто ножки.
Метров через пятьдесят возвращался за вторым.
Впеременку нянчил то один мешок, то другой.
Так добирался и от платформы в Кускове до дома.
18 августа







