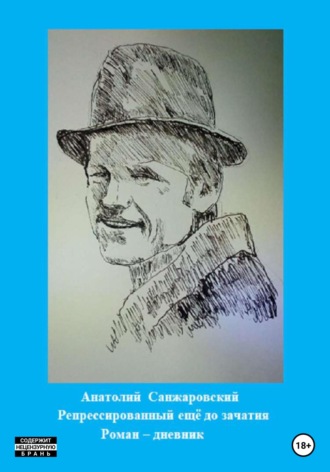
Анатолий Никифорович Санжаровский
Репрессированный ещё до зачатия
Тассовские зюгзаги
Три года прошлёпал я в ТАССе, в центральном аппарате, редактором союзной промышленно-экономической редакции под руководством отставного подполковника Александра Ивановича Медведева, твёрдо считавшего, что тассовцу вполне достаточно для высокопрофессиональной работы всего восьмисот слов.
– Да! Хватит всего восемьсот слов! – крикнул он раз под случай, когда я вдруг вставил в статью незатасканное, незамусоленное словцо. – И восемьсот первое – лишнее!
Три года шуршал я бумажульками в ТАССе – три года уходил…
Да что я?
Обозреватель милый Иван Павлович Артёмов уходил сорок лет! Уходил каждый божий день!
Рассказывал он не без горькой иронии:
– Забила рутина! Всё проверяй! Проверяй!! Проверяй!!! Проверил – на поле посадил галочку. Погасил… Допроверяешься… Во всём сомневаешься… Приходишь домой… На пороге жена. А чёрт его знает, жена или подсадная американская утка! Паспорт её выхватишь из комода. Сверишь, успокоишься… Вроде жена. Галочку даже поставишь мысленно поаккуратнее… Даже против своей подписи под материалом ставишь галочку, когда сверишь с удостоверением…
За три года я опубликовал в тассовских вестниках около двухсот материалов.
Я собрал их все в две фирменные папки. Зелёно-ядовитые. Холодные.
Красным толстым карандашом буквами в локоть я вывел:
«Наши в в в в ТАССе…»
И ниже:
«Рожденный в в в в в ТАССе писать не может!»
«Начато» и я продолжил: со времён товарисча Адама.
«Окончено» с появлением Евы.
Коллекционировать свою тассовскую классику я перестал на материале «Океан – людям, люди – океану». (Вестник ТАСС.) Интервью с заместителем директора ВНИИ морского рыбного хозяйства и океанографии профессором П.А.Моисеевым. Беседа шла под шапкой
«11 РПТ[132] 11 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РЫБАКА»
По вестнику СОЮЗНОЙ информации была передана 9/7, шла за №№ 1-7, состояла из семи частей. Первая часть была передана в 2119, вторая – 2122, третья – 2125, четвёртая – 2129, пятая – 2132, шестая – 2134, – седьмая – 2137.
Камчатская газета «За высокие уловы» напечатала беседу лишь 19 сентября 1971. Через два месяца с хвостиком.
Вестник ТАСС с моим материалом «Океан – людям, люди – океану».
Отличился «Московский комсомолец» за 11 июля.
Дал вовремя, с красной рубрикой «Сегодня – День рыбака». Но в концовку посадил дикий ляп:
(Корр. ТАСС.)
ВОРКУТА.
В вестнике моя фамилия была в середине беседы.
ВНИИ морской кильки из окна «МК», конечно, не видать.
А с крыши, если хорошо постараться, – пожалуйста!
Или редактор «МК» с моторчиком?
Почему он всё из Москвы перекинул в Воркуту?
Может, в «МК» считали, что только в Воркуте, в шахтах, разводят-то рыбу? И там весь Мировой океан?
Я в тысячный раз твёрдо решил уйти из ТАССа.
Но ноги по старой привычке всё приносили и приносили мою умную, как валенок, бестолковку (голову) каждое утро на Тверской, десять-двенадцать.
Однако…
Всегда найдутся доброжелатели, помогут сделать то, чего тебе так хочется.
В ТАССе, повторяю, я сидел на геологии, лесе, бумаге и рыбе.
Как-то я не смог пойти в килькино министерство ну на очень высокое совещание. Дал пятистрочную информашку со слов вроде надёжного бывшего тассовца Цапка. Сидел этот Цапко со мной в одной комнате. Вроде серьёзный пострел. Но одной серьёзности оказалось маловато, и с этим Цапом[133] наше начальство распростилось. Прилип он в рыбном министерстве. По телефону он меня заверил, что на совещании никого из высоких цэковских чинов не было. Я и поверь. И напрасно. Был всё-таки на совещании член политбюро Кириленко. Как потом выяснилось, блин горелый, до совещания мой дятел[134] так и не доплыл, застрял то ли в министерском буфете, то ли ещё где.
Информушка проскочила в «Правде».
Скандалюга!
Главный редактор редакции союзной информации незабвенный Николай Владимирович Колесов в минуту наметал целый вагон чёрной икры, уже расфасованной в баночки. Ещё бы! В информации пропустили самого Кириленку!!!
Совещание, может, только и затевалось ради Кириленки, а по тассовской информации его нету! Уволили?!
Совещание чадило два дня, и назавтра «Правда» повторила тассовскую заметку. Теперь уже как надо.
С классической лебединой концовкой:
«В работе совещания принял участие член Политбюро ЦК КПСС А.П.Кириленко».
Ну, день прополз тихо…
Отхромал второй…
Вроде обошлось…
Ан нетоньки.
Наш ио Бузулук лалакал по телефону с Киевом:
– … Да, сам товарищ Бузулук. Ты Колю не обзывай Ваней. Коля золотой парень, только не насквозь. Я остался один на хозяйстве. Если не дойдёт честное слово, пошлю служебочку Горкуну….
На столе у Бузулука зазвонил красный колесовский телефон.
Все оцепенели.
По чьей горькой головушке затосковал тупой колесовский топор?
На цыпочках Молчанов подбежал к ревущему телефону и припадочно затряс над ним руками.
– Что ты делаешь? – хмыкнула Татьяна.
– Призываю всех святых духов образумить его, – ткнул Валька в телефон пальцем, – и забыть все злые намерения.
Олег торопливо положил киевский телефон, со вздохом взял колесовский:
– Слушаю, Николай Владимирович! Что?.. А… – Олег глянул нам меня. – На месте. Ладно. – И мне: – Иди. Знай, краснознамённые тылы постоят и полежат за тебя! Если что, не спеши кидать ему красивую бумажку об уходе.
Тут вошла секретарь Лида, наклонилась ко мне:
– Труба зовёт…
Я вздыхаю и встаю идти за нею.
Аккуратова:
– За что тебя, Толь, на колесовский ковёр?
– Родина знает.
Меня догнал Молчанов, положил руку на плечо:
– Таки кликнул тебя твой лучший друг… Толик, возьми меня с собой.
– Не примазывайся.
На ватных ногах вхожу к Колесову.
На стенных часах 17.00.
Колесов снимает пиджак, вешает на спинку стула. Закатывает рукава рубашки.
Я забиваюсь в угол дивана как зверёк, готовый к травле.
Колесов орёт с полуоборота:
– В информации пропустить члена Политбюро! Это!.. Это… Вы были на совещании или нет?! Да или нет?? Да или нет??? Почему вы со мной не говорите? Да или нет?
Я еле слышно:
– Не орите… Я не буду вам отвечать, пока вы не станете говорить нормально. Вы кричите, и я не слышу вас…
– Мда! – хлопает он себя по ляжкам. – Вы журналист средней квалификации. Пишете медленно, редактируете неважно! Я ошибся. Медведев вами недоволен.
– А я что-то этого не заметил, – буркнул я. – Да Медведева давно уже и нет в нашей редакции… На выпуске он…
– Выкручиваетесь!? – орёт Коляскин и обессиленно падает в кресло.
Отдохнул Колёскин и снова по-новой в ор. И ну катать по персидскому! Зря ли кликнул на свой дорогой ковёр?
– Пиши по-собственному! – притопнул он принципиальной цэковской ножкой. – Не артачься… Кончай морочить яйца! Не отрулишь самоходом, выдавлю статьёй! А так… Отличную письменную харакиристику нарисую! Укажу, что у вас аналитический склад ума, склонность к большим работам. И тассовская мелочь вовсе не про вас… И не покривлю душой! Да! У вас же золотущее перо! Переводите ещё!.. «Литературка», «Известия», «Наш современник»… Все вас со свистом дают! Я долго думал… Все мозги сломал! У тебя ж, друже, писательский дар! Не зарывай сей божий клад в землю, чтоб потом не пришлось откапывать… Да поздно будет… Разве я не дело говорю? Ну а что вы тут будете гнуться перед трёхстрочными огрызками?! Мне прямо жалко, что вы здесь попросту пропадаете!.. Соглашайтесь. И нашей разладице конец! Есть такое мнение… Я настрогаю ах характеристочку!.. Ну да чего вы кривитесь? У вас что, кукушка поехала? Я ж не собираюсь ляпать такую, что вас сразу в тюрягу загребут и заставят на нарах мыть бруснику![135] Я выдам оттяжную, угарную ораторию, и тебя, простодушка, даже в рай примут без испытательного срока! Я напишу, а генерал-кадровик Герман без звучика подпишет! Ну? По рукам!?
Я промолчал.
– Можете не продолжать! – кисло махнул он рукой и тут же навалился рисовать мне характеристику.
И через час он снова вызвал меня и отдал характеристику.
Я начал читать.
А он в нетерпении заёрзал в красном кресле:
– Да с такой характеристикой в рай со свистом примут!
– Что за мадридские страсти!?[136] Что-то вы слишком рьяно забеспокоились о моём трудоустройстве в раю… Лучше… Не грех, если б так пеклись о моих днях земных…
– А разве хоть разок я в чём-то подрезал вас?
– Вспомните историю с комнатой… Как вы с самим-то императором?!
– Это вы-то император?
– Кто ж кроме меня? В переводе с арабского имя Санжар означает император. И как вы с императором-то?!
– О!.. Дорогуша!.. – Он покаянно поднёс сложенные ладони к груди, молитвенно посмотрел на белый пустой потолок. – Видит Бог и вы тоже, это не я! Это всё сверху!
– Я снимал на окраине ржавую койку в сарае у несчастного дяди Коли в Бусинове. Не хоромы просил. Я просил клетуху за выездом. Бросовую! Ходатайство в райисполком вы сами подписали. Но через три дня тоже сами туда же позвонили! Услышав мою фамилию, вам сказали: «Ордер Санжаровскому подписан. Может приехать получить». А вы что ответили? «Если у вас напряжёнка с туалетной бумагой, то сходите с этим ордером в одно место. А жилищное дело Санжаровского аннулируйте. Наше ходатайство отзывается!» Этот телефонный разговор был при мне в вашем кабинете. Вот и все ваши земные хлопоты обо мне… Ну да…
Кое-что в характеристике было не совсем верно, но я не стал возражать.
Надоело… Я ж все три года уходил! Чтоб заняться только прозой. Чего тянуть дальше?
И я согласился.
Колесов сразу заулыбался.
– Вот и отлично! Всё равно ж уходить. Я не стал сразу говорить, что с первого января мы сокращаемся. Слухи циркулировали давно, а официальное распоряжение поступило лишь на этой неделе. Под это ординарное сокращение ТАСС выхлопотал себе индульгенцию – суды не имеют право восстанавливать уволенных. И вы мудро поступили, что подали сейчас заявление по-собственному. Ведь уволенным ещё в этом году, легче устроиться на новом месте. Уже завтра вы можете идти искать. Говорите, что вам надоело дежурить по ночам. Кто там знает, что работаете вы ночью или нет… А если уволят по сокращению после нового года, тогда трудней устроиться. Ведь все знают, что лучших не сокращают.
– Возможно. Но не всегда уходят худшие.
В коридоре столкнулся с Севой. Он на больничном. Завтра выходит на работу. Я сказал ему, что ухожу.
– Заявление не неси.
– Так я уже только что отдал.
– О Господи! Ну никакой гибкости![137] Беги забери. Скажи: перепишу получше. Забери и дуй к мамке домой.
– Куда бежать? С верёвки рваться – только туже затягивать петлю.
– Есть куда уходить?
– Пока нет. Завтра пойду с утра искать… Пойду по Москве рекламировать себя.
Вхожу в редакцию. Аккуратова в тревоге:
– Ну что там?
– Где?
– У Колесова?
– Колесов.
– А ещё?
– Кабинет.
– За что тебя так?
– Ещё и этак будет. Уж эти партласки…
– Орал Колесов?
– Орал.
– Не огорчайся. Он на всех орёт. Все темнилы[138] дураки.
– Но до такого дурака надо дорасти… Ухожу я…
– Жалко… Вывалился ты из ТАССа, как дитя из коляски…
– И к лучшему. Гром не грянет – мужик не догадается перекреститься. Гром был. Я перекрестился. Дым идёт, ишак ползёт. Всё путём. Мне не жалко себя. В душе я ликую. Наконец-то займусь чем хочу.
Молчанов припечалился:
– Опять этот гусь[139] приставал к тебе?
– Прямо домогался.
– Отбился заявлением… Молоточек! Иди теперь пей и пой. Свобода!.. Да… Гм… У верхов денег куры не клюют, а у низов на водку не хватает!
Марутов позвал меня в коридор и в углу вшёпот горячечно выпалил:
– К вам это сокращение не имеет отношения! Колесовская грязь вам по барабану! «Танки грязи не боятся»! Я говорил с большим человеком, он знает всё о сокращении. Предполагается сокращать технический персонал, а не творческий. Надо подраться, Толя!
– Я по натуре колючий. Я бы подрался…. Но… Этот уход мне в руку. Пора всерьёз заняться прозой. Это поважней, чем охранять тассовские столы с девяти до шести.
– Надоело… Я ж все три года уходил! Чтоб заняться только прозой. Чего тянуть дальше?
Мне отдали мою трудовую.
Я отбыл из ТАССа.
Но по каналам ТАСС сообщения об этом почему-то не было.
Я искренне благодарю Колёскина, что помог решиться на уход.
В чужой важной карете скакал я три года.
Скакал куда-то не туда.
Как стало известно позже, моё место в ТАССе занял сыночек одного цэковца, приближённого к самому «бровеносцу в потёмках».
В зарубежных поездках «бровеносца» сопровождал наш Колесов. Сопровождал и квакал о том на весь Союз. Освещал же все генсековские визиты.
И вот однажды он подузнал об одной закулисной цэковской сшибке, после которой, казалось, ему больше не светит сопровождать. Генсеком мог стать другой.
И Колёскин, как всегда, досрочно дунул поперёд батьки в раскалённое пекло.
То ли с горячих глаз до поры встал на трудовую вахту в честь очередной годовщины Великого Октября, то ли ещё какое крутое дело замыслил, только он до времени влетел в тот свет.
В одно прекрасное майское воскресенье подался он прогуляться по скверику и прескверно обошёлся с собой.
Зачем-то второпях натощак выкушал, амкнул ампулу с ядом.
«Правда» в некрологе доложила:
«Скоропостижно скончался Николай Владимирович Колесов – заместитель Генерального директора ТАСС, верный сын Коммунистической партии, талантливый журналист».
А «бровеносец» потешал плачущую страну в потёмках ещё семь лет.
Компенсация
В голове теперь полный порядок: все тараканы чисто выбриты, пронумерованы и покрашены.
Н.Богомолов
Нужда выпихнула меня в тоскливую февральскую командировку. От журнала «Турист».
Заявился я в Брянск к первому секретарю обкома с температурой, без голоса. Я не мог говорить, и свои вопросы я задавал Крахмалёву по бумажке.
Эта беседа потрясла меня. Какой вопрос ни подсунь…
В ответ самодовольная, сытая и тупейшая идиотская ухмылочка, разнос рук в стороны:
– Про это вам лучше спросить в таком-то отделе у такого-то…
Лезешь с новым вопросом.
– А по этому вопросу вам лучше выехать в такой-то район к первому секретарю…
Какой же Крахмалёв председатель комитета по Десне, какой же он защитничек малых брянских рек, если он обо всём этом имел смутное представление?
Неделю я скакал по области, собрал нужный материал и написал беседу с первым «Возрождаемая красота».
О чинопочитающий задолиз Хомут[140] весь гонорар выписал персеку.[141]
Я бегом к Хомуту:
– Что же вы весь гонорар махнули в Брянск?
– А ка иначе? – хохотнул Хомут. – Что ты тут расходился, как квочка перед бурей? Вспомни, интервью кто тебе давал?!
– А писал-то кто? Крахмалёв? Да ну если по большому счёту, он и понятия не имеет о том, что было в беседе! Кадриль простенькая. Я придумывал ему вопросы и сам же отвечал за него. У него ответов не было. Я неделю кружил по всей Брянщине, копил фактуру. Его великие труды состояли лишь в том, что он завизировал присланную ему по почте уже готовую беседу: «С изложенным согласен». Вот и весь его вклад! В конце полосы была строка: «Беседу записал А.Санжаровский». Зачем вы её похерили? Чтоб спокойней оставить меня без гонорара и угодить партбоссу? Так?.. Молчите?.. Да и потом, ему, члену ЦК КПСС! первому секретарю обкома партии! очень ли нужны мои тоскливые восемьдесят четыре копейки?
– Не заговаривайся! Песнь не о копейках. А о рублях!
– Какая разница? У меня и этих копеек нет на хлеб сегодня! Вам ли объяснять… После ТАССа я у вас вольный художник. Еду только на проклятой гонорее![142] Месяц я провалялся в больнице. Мне даже больничный не оплачивается!
– А как ты хотел? Положение о вольных художниках для всех одно. Не оплачивается больничный, зато капает исправно производственный стаж. Можешь бегать в вольных казаках до самой счастливой старости! Все девятьсот лет! Как библейский Адам!
– Да на какие шиши? В следующие два месяца у меня ничего не идёт в журнале.
– Чтобы не прерывался стаж, ответишь авторам на триисьма – трояк в кармане!
– Трояк на месяц! До сблёва много? Воробью-то хоть на пшено хватит? Но я-то не птичка! И вы подкинули номерок. Весь гонорар ахнули в Брянск!
– И что? Как я могу оставить члена ЦК без гонорара!? Тогда я останусь без красного кресла под задом! Перекрутись как-нибудь… Мы тебе компенсируем…
– Что? Когда? Мне сегодня нужны эти копейки на корку хлеба. Се-год-ня!
Он театрально развёл руки.
– Странный ты гусь… Хочешь кучу свободного времени для сочинения своей классики и полные карманы шуршалок.[143] Так не бывает…
– Ну, Толя, – просипел я себе, на нервах вылетая из кабинета Хомута, – никто тебе ничего и никогда не компенсирует, если сам себе не компенсируешь… Учись у курочки. Разгребай да подбирай! Поднажми, если так покупалки тебе нужны!
И обо всей этой дичи я вбег настрочил Крахмалю. Попросил вернуть мне мой гонорар. Чтоб ему проще было расставаться с халявными рублейками, я привёл в пример секретаря ЦК ВЛКСМ Куценко. Один из журналистов написал от её имени статью в «Комсомолке». Гонорар пришёл к Куценко. Она до копейки вернула в редакцию, заявив: «Получать должен подлинный автор статьи, а не тот, чья фамилия стоит под нею».
Брянский член оказался нормальным. Вернул семьдесят четыре тугрика. Десятка уплыла на почтовый прохладный променаж моих горьких юаней[144] до Брянска и обратно.
Февраль-сентябрь 1972.
Белореченск
Чаква под Батумом.
Слева горы в тумане, справа море.
Пальмы…
Ах, Чаква… Ах, Чаква…
Ещё раз ах!..
Я приезжал туда в командировку к академику Ксении Ермолаевне Бахтадзе.
Мы сидели у неё на веранде и пили один из двадцати пяти чаёв, выведенных этой удивительной хрупкой женщиной.
Пили чай. Говорили о чае.
О прочем здесь не говорят.
Среди беседы меня вдруг вогнала в панику, намертво скрутила чёрная революция в животе. Боли – нет спасу.
Я кое-как дожал интервью и бочком, бочком посыпал к автобусной остановке.
В Батуме я сразу к врачам.
Дебелая тетёха с полубудённовскими усищами, столкнув на затылок богатырский белый колпак, плеснула:
– Резить тэбья надо, дорогои…
И почикала указательным и средним пальцами, как ножничками, проведя с низа живота моего до его верха. Вскрыла вроде.
Эта перспектива меня не согрела.
– А что болит-то? – буркнул я.
– Откроэм твои животики и пасмотрим-аба, чито там болит, чёрт эго маму знаэт! И чито болит – отрэзи и кинь к чёртовой бабушке собачкам!
Она лениво махнула рукой на окно, за которым под черешней дремал бомжеватый цуцык в ожидании чего-нибудь вкусненького.
Я и вовсе скис:
«Будут тут ещё разбрасываться мной…»
Я двадцать лет прожил в Грузии и знаю, какие там отличные медики с покупными дипломами.
Нет! Не дамся!
Я к авиакассе.
На стекляшке, отделявшей кассиршу от прочего мира, бумажка:
Правоз цитруси катэгорически заприщион Законом!
– Что бы это значило? – спросил я кассиршу, кивнув на это объявление.
– Это значит, дорогои, ни один мандаринка нэ улэтит на самолёт от Батуми.
– А у меня их десятка три. Гостил у друга детства. Подарил. Из своего сада…
– Хо! На мандаринка нэ пишут, где он вирос-да. На совхоз-плантации или у друга в саду. Эщё не виполнен государственни план, ни один мандаринк нэ убэжит налэво или направу. Кажди мандаринка одэнут в хорош бумаг с гэрбом Грузии и отправят-да куда надо.
– Я жертвую подарок друга. На сегодня один билет!
– На сэгодня ничаво нэту. Толко на послезавра!
Не сидеть же тут ждать. На поезд! Мне бы только добраться до первой русской берёзки….
В вагоне я попросил проводницу, чтоб она сдала меня медикам на первой же русской остановушке, и, корчась от боли, сжался в комок на нижней полке.
– Я скажу начальнику поезда, и он даст телеграмму на ближайшую станцию, чтоб вас встретили медики, – заверила проводница.
Ничего. Перетерплю. Выскочу на поезде за грузинскую границу и у первого же русского столба сойду. Пускай русский скальпель вершит мою долю!
Но Русская Поляна – первая русская остановка – как-то не заинтересовалась мной и прохладно проводила меня дальше.
Да что Русская Поляна?
И Адлер, и сам Сочи, и Туапсе отмахнулись от меня!
Уже десять часов в пути. Вот и Белореченск.
Простояли четырнадцать минут.
Вернулся из буфета с кульком яблок сосед с верхней полки.
– Да вас так и не сняли? – подивился он. – А проводница флиртует на перроне с усатыми грузинами. Без билетов везут в тамбуре гору мандаринов в ящиках до Ростова. Ой, да вон и медсестра прохаживается в скуке под нашим окном.
Парень побежал в тамбур. Слышу его голос:
– Доктор! Доктор! У нас больной. Идите к нам в тринадцатый!
И через минуту в вагон ворвалась крепкая, гренадерская деваха в халате поверх фуфайки и, набатно стуча коваными кирзовыми сапожищами, державно прошагала сразу ко мне и карающе наставила на меня пистолетом толстый ответственный указательный палец:
– Выходим!
– Да знаете… Мне лучше… Доживу до Москвы…
– Так мы выходим? – строго заинтересовалась она.
– Мы – нет, – на вздохе неуверенно пискнул я из своего угла.
– Тогда рисуем художественную расписку.
Я не любил раскидывать свои автографы и, подхватив портфелишко, поплёлся, кривясь от боли, за гордым белым халатом.
Из вагона я выходил при красном флажке, поднятом проводницей. Держала весь поезд.
В районной больничке меня расквартировали на коридорном диване.
Тут же ко мне подсела на круглом табурете с дыркой весёлая старушка и кокетливо кинула мне на грудь тёплое белое облачко мыльной пены.
– Что вы вытворяете? – проявил я слабый интерес к облачку.
– Я не вытворяю… А на работе служу… Я, сынку, буду брыть твою бледную грудинку.
Я торопливо накрыл свою грудь ладонями.
– Не трогайте мою родную шерсть! Не для вас растили.
– Валадимир Артёмович, – поворотилась она к проходившему мимо хирургу Толмачёву, – оне дужэ брыкаються. Ну нипочёмушки не даються брытысь!
– Больной! В чём затор? У вас язва желудка. Этот диагноз поставил вам и хирург из привокзального медпункта Не тяните время. Перед операцией и секунда дорога.
– Доктор! – взмолился я. – Да зачем мне брить грудь? Да мой желудок!.. Никогда не болел! Я и не знал, что он у меня есть. Глотал ржавые кривые гвозди – выскакивали блестящие ровненькие! Что хотите! А желудок я не дам вам раскроить!
Владимир Артёмович сильно нажал мне на живот и резко отнял палец:
– Куда болька побежала?
– Вниз нырнула… Вправо…
Он ещё несколько раз нажимал и отпускал, и я всякий раз разбито бормотал:
– Вниз… Вправо…
– Гм… – принципиально нахмурился Владимир Артёмович. – Будем считать условно, что вы безусловно правы.
И нянечке:
– Брейте низ!
Трудная операция длилась больше часа.
Не в силах сдерживать себя я безбожно стонал от боли.
– Доктор, вы обещали показать, что там у меня…
Из ведра он брезгливо достал отросток. Местами чёрный, местами ярко-красный.
– Вот такой собашник. Пройди ещё час, и он лопнул бы. И тогда никакая операция вас не спасла б.
У меня убрали гнойный аппендицит.
Протяни я с операцией ещё капельку, я б мог повторить кислую судьбу заместителя генерального директора ТАСС, того самого, который вмазал мне выговор. У того зама, у Ошеверова, тоже спёкся аппендицитушка.
Все мы по одним стёжкам бегаем с одними и теми же медальками…
Придя в себя, я стал лёжа писать на коленке Жене Волкову. Тому самому, который был редактором областной газеты в Туле. А теперь рулил отделом в столичном журнале «Турист». Тесен мир!
Женя!
Материал я взял. Но 3 декабря при возвращении в Москву меня сняли с поезда Батуми-Москва в городке Белореченске. Через 20 минут операция. Аппендицит.
Говорят, выпишут дней через семь.
Но это пока говорят. А на самом деле?
Когда вернусь, не знаю.
Как у всякого оказавшегося на операционном столе, у меня есть последнее на сегодня желание: чтобы в марте у меня не было прокола-прочерка в ведомости, давайте вернёмся к повторной публикации зарисовки о Штарасе. Всё же обидно. Я написал четыре страницы, а дали полстранички.
И ещё маленький привесок.
Чтобы и в феврале не выскочил прочерк, выпишите мне ответы на три письма. А я вернусь, отработаю сполна.
С уважением Анатолий.
Адрес:
Краснодарский край, Белореченск, райбольница, палата № 9.
Надо немножко пояснить.
Уйдя из ТАССа, я вплотную засел за свою трилогию «Мёртвым друзья не нужны».
Официально я нигде не числился на службе, и меня могли за тунеядство выслать из Москвы.
Нужна хоть какая фиговая крыша.
И меня взяли в случайно подвернувшийся «Турист» на должность вольного художника. Я получал только за публикации. Тем и жил. Но чтобы не было перерыва в трудовом стаже, я должен был иметь заработок каждый месяц. Я обязан был постоянно ковать монету. Хоть три рубля в месяц.
Публиковаться каждый месяц невозможно.
И когда у меня не было публикации, мне поручали подготовить три ответа на читательские письма. За три ответа я получал три рубля, спасая тем самым непрерывность стажа.
Такие были тогда порядки.
Будто на три рубля человек мог прожить месяц.
Как воробей.
В больнице мне было не до бритья. Отросли рыжие усы. Понравились. Я без колебаний принял их на свой баланс, с тех пор и таскаю. Как орден.
Не знаю, как я и выжил в Белореченске.
Передач мне носить было некому. Я питался лишь тем, что давали в больнице. Да помогли слегка друговы мандарины.
Кто ж не знает, как скудны больничные обеды? В больнице кормёжка человека обходится в сорок, в тюрьме на против – 69 копеек.
Вышел я из лечебки полуживой.
Я настолько ослаб, что не мог донести даже своего портфеля. Я снял с себя ремень, продел под ручку портфеля и волоком тащил его.
Щель в боку затягивалась трудно.
Под Восьмое марта я приплёлся в Москве в свою поликлинику, и хирург весело подмигнул:
– Там у тебя уже почти ничего нет. Помоги перенести подарки нашим дорогушам женщинам в другую комнату.
Простецкая душа, я помог.
И мой шов разъехался. Образовался свищ.
Я боком потрусил в Мосгорздрав.
Дежурный врач, принимавший меня, расхохотался, когда узнал, с чем я припожаловал.
– Как же велики завоевания столичной медицины, что обычный аппендицит не могут за полгода скрутить! – огрызнулся я.
Меня направили в Первую Градскую.
Первая Градская перекинула в шестьдесят восьмую больницу. И только там умница врач так посекла мой свищ, что мои аппендицитные муки скоропостижно скончались.
А я уцелел.
1972 – 1973







