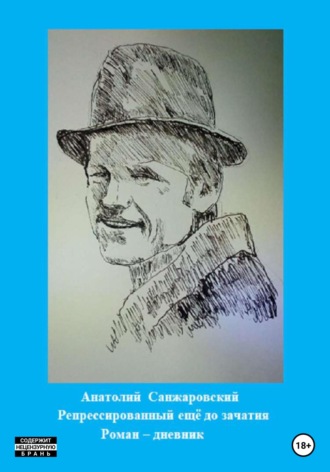
Анатолий Никифорович Санжаровский
Репрессированный ещё до зачатия
Девочка-праздник
От поцелуев от твоих
И вызревают в поле маки.
Благое Вуйисич
Одиннадцатое января. 1976
Понедельник.
Холодное тоскливое утро.
Ещё темно.
В автобусе, что летел по быковскому полю к самолёту на Орск, я увидел её.
И в автобусе сразу стало светлей, теплей.
«Тольчик! Покуда живой не отпускай эту русалочку из виду!», – приказал я себе и подошёл к ней поближе.
Юна, обворожительна… Девочка-праздник! Спецпосланница с небес! Божья розочка!
Отороченная розовым мехом шубка с расшитыми алыми розами на груди и на карманах чётко облегала талию, за которую я бы не пожалел Нобелевскую премию.
«И талия, и премия будут наши! В комплексе!» – успокоил я себя и как истинный делибаш[145] стал зорко следить, чтоб к ней не прикопался кто из юных поскакунов.
Я всё время бдительно припухал возле и, неотступно подымаясь уже по трапу за ней, больше не мог скрывать своих намерений.
Хоть самолёт и был полупустой, я сел рядом с нею.
На всякий случай глянул в билет – и по билетам наши места были рядом! Эта судьба.
Конечно, мы познакомились.
Познакомились за облаками, на небесах.
Мы летели в страну Камня.[146]
При знакомстве с хорошенькими меня всегда заносит на чересчур умное.
– Знаете, – сказал я, – мы живём в век искр.
– Что вы говорите! – восхитилась она, как и подобает в таких случаях девушкам.
– Да! В век искр… Посмотрите только вокруг…
Она посмотрела. Половина салона была пуста, другая половина дремала, запрокинув головы.
– Не туда смотрите.
Она глянула в иллюминатор. Под нами стлались комки облаков на снежном поле.
– И не туда.
Она вопросительно уставилась на меня.
– Вообще-то и не сюда… Вот сегодня добирался до аэропортовской электрички троллейбусом. Тащился, как… Обгоняет грузовик – из-под колёс искры! Через минуту обгоняет нас трамвай – опять из-под колёс искры. Влетаю на платформу – электричка без меня с места рванула, из-под колёс одни искры…
– Это и все искры?
– На сегодня, может, и все… А может, и не все…
Ой не зря на этот Новый год мне первым встретился мужчина с полным ведром воды. Получи, друже, счастья полных два ведра!
Последний Новый год я не встречал.
Не на что и не с кем…
Ровно в полночь я мылся дома. В тазике. Нагрел полный чайник воды. Изо рта поливал себе…
Встал в девять. В ведре ни водинки. Нечем и умыться. Хвать ведро и побежал к колонке. А навстречу мне шёл мужчина с двумя полными вёдрами воды. Это добрая примета. Первый человек, встреченный в новом году с вёдрами воды, – это к радости. Я его не знал. Но я с поклоном сказал ему:
– Здравствуйте!
Сказал в благодарность за полные вёдра обещаемого счастья.
И сегодня я его получил.
Галинка!
Прошлой весной она с отличием закончила в Оренбурге техникум механизации учёта и выбрала Одессу.
Приезжает. А там кислыми ручками разводят:
– Работа вас ждёт. Но жить вам пока негде. Женское общежитие на капитальном ремонте. Эта канитель почти на год. Поищите что-нибудь в частном секторе.
Галинка избегала пол-Одессы.
На свой угол так и не набежала.
И ещё Одесса запомнилась круглым железнодорожным вокзалом, где без сна провела две ночи.
Назад, в Оренбург, она ехала через Москву.
Раз Москва оказалась на её жизненном пути, она в окошко между пересадками сбегала в своё министерство, выложила одесскую катавасию.
И Москва с извинениями за одесскую юморину дала ей на выбор Балашиху и Ленинград.
– Балашиха – это Подмосковье?
– Оно самое.
– А Ленинград?.. Сам Ленинград?
– Сам.
– Давайте в сам!
Она насобирала отгулов и вот летит в Гай к маме.
Соскучилась.
– Вы один раз уже легкомысленно проскочили мимо этого дара Небес,[147] – подолбил я себя большим пальцем в грудь. – Такого больше не будет.
– Это как мимо?
– А так. Автобусы в Балашиху бегают в ста метрах от моего пятиэтажного вигвама.
В Орске мы трудно расстались.
Она поехала автобусом в Гай, а я поплёлся в гостиницу.
Взял место и дунул по делам командировочным. Но почему-то меня снесло к Галинке под окно. В гайской хомутке[148] узнал адрес и прибежал.
На ураганном ледяном ветру я ждал и час, и два, и три, всё надеялся, что она за чем-нибудь выскочит, и мы невзначай столкнёмся.
До столкновения дело так и не добежало.
А вломиться незваным гостем я постеснялся.
И в то самое время, когда я бдительно нёс караул под её окнами, она была в орской гостинице «Урал». Спросила меня. Сказали, что вышел по делам командировки. Она и сядь в вестибюле ждать.
Моя царская лилия ждала меня в Орске – я ждал её в Гаю под её окнами.
Мы не встретились ни в Орске, ни в Гаю.
А встретились на миг, может быть, в пути во встречных автобусах, развозящих нас по своим кочкам…
От Орска до Гая всего-то километров сорок…
Так началась наша любовь на лету. В космосе.
Спустя десять дней она летела назад в Ленинград.
Через Москву.
Ну разве могли мы не встретиться?
И вечный жених, как представляли меня в дружеских шаржах на редакционных вечеринках, пал.
А потом была переписка.
Мы кидали друг дружке письма если не через день, так каждый день.
А то и на день по два.
27 февраля. Тайный вклад
Вторую неделю у меня в Москве гостит милая моя мамушка.
Все дни гастролируем в мыле как две савраски по магазинам. Список заказов у неё длинный. Что-то надо взять сынам, сношеньке, кривой ноженьке, внучкам… А самое горячее в этом списке – четыре кило муки.
В Нижнедевицке, в Воронеже нельзя купить в магазине муки. Нету! Это-то на Воронежье – русской житнице!
Сегодня мы вернулись из бегов с мукой.
– Сколько в Москве миру! – удивляется мама. – Сколько миру надо накормить. Страшное дело сказать. А вишь – на всех муки хватило. Даже на нашу долю!
Мама сияет. Присела на диван. В восторге посматривает на стены.
– Не нагляжусь… Не нарадуюсь на твою квартирушку. Все угольчики по сотне раз продывылась… Эхэ-хэ-э… Живи, живи, щэ и помирать треба. Вот хлопоты яки придвигаються… Умру… Некому будет ездить. Привета того не будет, когда чужие…
– Что это Вы на чёрные мысли заехали?
– А на светлые уже не выносит. Шесть десятков и семь. Цэ дужэ богато. Дело колыхнулось под откос… Торба с годами уже тяжёлая, сынок… Еле таскаю… Вас три у меня. За Митьку я спокойна. Механик при заводе. Пускай малая бугринка на равнинке. А всё ж одно какой-никакой начальнишко. Ты в самой Москви шо-то по газетам мажешь. А Гриша у нас самый горький невдаха. Компрессорщик… Глотае аммиак… Мне он жалкишь ото всех вас. Как могла денежку собирала. То чесночёк-лучок на базарчике продашь, то яйца… Прошлой осенью одних подсолнуховых семечек на сотню рубляков насобирала на колхозном поле. Убрал колхоз техникой – старушки бегут подчищать… Принесу с поля, Гриша жарит. Пока семьдесят стаканов нажарит, чуб нагреет. Ругался он на меня. Не бегай, не кочуй по тем полям! Да… Чисто не проходишь, ласо[149] не поешь, праздно не проживёшь… Век прожить не рукавом тряхнуть… Деньжатками я трохи окупорилась… Как ехать сюда, колыхнула, положила ему три тыщи на книжку. Под три процента. Случаем приедет он к тебе, не говори ему про книжку. Я всё тайком… Всю пенсию берегла на своей койке под матрасом. А ну шо случись?.. Лучше я сыночку положу… А книжку я сунула в гардеробе в рукав кофты, в которой наказала Грише хоронить меня. Снимет он кофту и наткнётся на книжку. Не пропадёт моя пенсия… И сыночок добром меня воспомнит… Памятью будет ему эта книжка… Не думала рассказувать, да всё и рассказала… Ну ничего. Что было бачили, шо будэ побачим. На веку як на довгой ниве.
На память мама взяла мне жёлтую вельветовую куртку и двуспальное тёплое одеяло.
Брала мама при мне. И одна баба была у нас непрошеным консультантом. Говорила маме:
– Молодожёнам надо брать односпальное. Им и так жарко. А разведённым бери только двуспальное. Поодиночке трудно согреться.
А мама ответила, кивнув на меня:
– Он ещё неженатый, а возьму я всё равно двуспальное. Надёжней. Господи, благослови…
Консультантша возразила:
– Молодой. И так согреется… Что он у тебя, какой великокуйский фельдмаршал?
Мама улыбнулась:
– Он у нас выще твоего начальника.
На маме был старенький платок. Я купил ей тёплый нарядный платок. Мама поблагодарила и сказала:
– Твой платок будет у меня выходным. В астроном там сходить, в церкву, на источник, просто на люди куда… А старенький будет со мной патешествовать во всякий след.
Судорога
Скрипнул диван, на котором спала мама, и я проснулся. Было часа три.
– Ма, Вы не спите?
– Нет.
– А что такое?
– Обычно я сплю як вбита. А тут… Судорога ноги сводит… Пальцы подымаются, жилы по-под коленками понадувались, сделались толщиной как палка.
– И как Вы обходитесь?
– Погладишь рукой… Покряхтишь, покряхтишь и всё обхождение.
– У врачей были?
– А шо знають те врачи? Не ходила я к ним.
Хлеб
Пластинку заплесневелого хлеба я бросил в мусорное ведро.
Мама тут же на нервах выхватила хлеб из ведра:
– Ты шо бросаешь хлеб в поганое ведро? Мы ни одной крошки не стоим, а хлеб… Мы ничто. Мы из земли пришли и в землю уйдём.
– Почему мы из земли пришли? По-моему, Вы меня родили.
– Ну не знаю… Кажуть так… А хлеб… Я лучше отнесу птичкам.
– Так и я не хотел выбрасывать его на помойку. Выносил бы вёдро и хлеб бросил бы в ящик для пищевых отходов. Понаставили на каждом лестничном марше. Это вумный дядя Лёня Брежнёв взялся задушить нас изобилием. Нечем кормить скот, так он решил поднять животноводство отходами с голодного московского стола.
Мама завернула хлеб в газету и пошла на улицу.
Лавра
Чтобы не проспать сегодня, я оставил вчера включённым репродуктор на стене. Под бой кремлёвских курантов мы с мамой и вскочили.
Быстренько я напёк блинцов, вскипятил пакет молока.
– Ну, мам, садитесь. Перед дальней дорожкой надо прочно подкрепиться.
– Не, сынок. Я не буду…
– Не станете есть – не поедем в Лавру.
– Шо хошь говори, а йисты я не буду.
– Это что, забастовка?
– Яка тут бастовка? Вранци на службу идуть не едят.
– Вчера мы были на службе в Елоховской церкви. Утром Вы ели…
– Так то учора. Службу правили вечером…
Ел я свои блинцы один.
Взяли мы с собой в газету колбасы, хлеба и в путь.
Электричка.
Загорск.
Чудный день. Солнце яркое слепит.
– И где Ваши девятнадцать мороза с метелью? – подначиваю я.
– Радиво сбрехало, сбрехала и я…
А день празднично разгорался.
Идём по городу. Звонят в колокола. Настойчивый, неброский, мягкий звон звал к себе. Отовсюду была видна многолуковая, блестящая Троице-Сергиева Лавра. Всюду стоял звон, и мы в радости шли к нему.
Божий рай на земле…
– О-о сынок!.. Это будет память до самой смерти, – восхищённо прошептала мама.
В Лавре народу было невпроход.
Вот пробирается вперёд молодая тетёха, поталкивая перед собой мальчишку лет пяти. Она говорит:
– Пропустите. Не видите, я с ребёнком?
На неё сердито глянула старуха и прошептала:
– Ну и веди его в детсад.
– Мы причащаться пришли, – отвечает тетёха и пытается пройти вперёд.
– Куда прёшь? – зло шепчет старуха.
– В Ленинград.
– Я сейчас как долбану, так ты перескочишь Ленинград и окажешься на Шпицбергене.
– Дурь свою оставьте при себе. Она ж вам необходима для поддержания своей обычной формы. Таким злым никогда ничего не достанется.
Тетёха с минуту думает и благоразумно обходит стороной сердитую старуху.
Началась служба.
Я снова услышал тот неземной голос, который стоял у меня в сердце с той самой поры, как я лет пять назад был здесь при возвращении из ярославской командировки. Я снова увидел того мужчину с тем неземным голосом. Как он выводил это «Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас!» Наверное, под это пение радостно умереть.
Евангелие читал сам патриарх Московский и всея Руси Пимен.
По временам я взглядывал на маму. Она с тихим усердием молилась, в глазах её дрожали слезинки.
Служба кончилась и мама неохотно, медленно пошла на улицу, говоря:
– Хорошо службу правили. Я б голодный день тут стояла…
Ярко светило солнце. Боже, как много солнца!
На порожках трапезной старухи разложили на газете хлеб и ели.
– Я оголодала – на лавку не взлезу. И всё ж таки в голод хорошо службу нести – легко, – говорила одна старуха.
Другая ей возразила:
– С твоей лёгкости я чуть не упала в обморок.
Мама достала из сумки две пластинки хлеба и одну отдала какой-то рядом стоявшей бабке.
У проходившего мимо парня с длинными волосами старичок спросил:
– Не подскажите, где тут продают лампадное мало?
– Я лампадное масло не ем, – ядовито хохотнул длинноволосик. – Предпочитаю постное. Перепадает иногда сливочное.
Старичок обиделся и упрекнул парня:
– В церкви надо шутить умеренно.
Не спеша мы с мамой пошли к электричке.
Навстречу шла молодка лет тридцати. Указывая на меня пальцем, прошептала мальчику, держала за руку:
– Это батюшка!
Я сказал:
– Не верь, мальчик, маме. Она говорит неправду. Я матушка.
Молодка насупилась и спросила меня:
– Вы всё же батюшка?
– Я сказал, я – матушка, – и усмехнулся.
Мама просияла:
– Цэ гарно, шо тебя хоть из-за бороды принимают за батюшку. Батюшка – святой человек!
Не спеша мы с мамой побрели к электричке.
На переходе мама бойко помолотила на красный. Я в два прыжка догнал её и за руку вернул назад:
– Ма! Куда Вас несёт нечистая? Что Вы забыли под колёсами?
– Дурость, – покаянно улыбается мама. – Шо ж ещё?
– В метре от вас уже была машина…
– Спасибо метру. Подай Боже ему здоровьячка.
И мы рассмеялись.
1 марта. В сумерках
Принёс в свою районную библиотеку книги.
Старушка из читательниц подошла ко мне:
– Вы про шпионов принесли? Я только про шпионов ищу книжки.
– Я сам шпион.
Библиотекарша уточнила:
– Был бы шпион, молчал бы.
Она повертела мой формуляр, сморщилась:
– Вы зачитали книжку за 66 копеек. Умножаем на пять. С вас три тридцать штрафных.
– А почему умножаете-то только на пять? Вас научили умножать лишь до пяти? А если б одолели таблицу умножения до тысячи?
Я отдал три тридцать и бегом домой.
В тепло.
Мама варит борщ. Переживает:
– Як одна баба жалилась: «Ой, диду, я борщ дужэ кислый сварила – аж за ухами кисло!» А дед отвечает: «Не журись, бабо! Поедим. То ему и всё будет». У меня такой не должен бы выйти…
Я налил ей полную корчажку с ушками.
– Съедите?
– Раз налил, съем. – И скоро доложила: – Ну, два раза зажмурилась[150] – управилась с борщом. Хорошая погода сегодня будет.
Подошло тесто.
– Ну, хорошее ж, – сияет мама. – Как вата. Бачь, вчера выходилось, выгрелось, выигралось хороше. Надо ж такому получиться! Пирожки там хорошие – хоть на продажу продавай! – На ладошку положила пирожок. Любуется: – Не пирожок – вот ком золота!
Последний лист с пирожками мама вытащила из духовки рано. Сыроватые вышли пирожки. Пригорюнилась и улыбнулась. Вспомнила:
– Одна баба хвалилась: «Кума, кума, какой я хлеб хороший испекла. Як пух, як дух, як милое счастье!» А как мужик взял, ударил тем хлебом в спину – сукин сын, як каменюкой!
Она озирается:
– Толька, а где нож?
– У меня в кармане. Пощупайте! – И подставляю ей бок трико, в котором нет карманов.
Вечер. Сидим без света. Сумерничаем.
– Жила одиноко одна бабка, – говорит мама. – Продала хату, начала с конца… У неё было семеро сыновей. Пошла проситься жить к одному. Дали поесть. Она заплакала. Говорит: дом, корову продала – всё украли. Сынок и говорит: «У меня дети. Тесно. Пойди к Ивану или к Петьке». Всех сынов обошла, нигде ей нет места. Пришла к зятю. У него семеро детей. Плачет старуха: продала хату, корову. Все деньги украли…
– Не беда! – смеётся зять. – Не украли б голову!
И командует жене:
– Выкупай мать, покорми и пусть лезет к ребяткам на печку греться. – И тёще: – Будешь, мать, с ребятами сидеть. А жена пойдёт работать. Двое будем работать. Так и заживём.
Поела старуха, выкупалась и отдала зятю узел с деньгами.
Узнали про такой оборот дела её сыны и обиделись: продала дом и корову, а нам, родным сыновьям, и по рублю не дала. Всё зятю колыхнула!
– Бачишь, сынок, – сказала мне мама, – як оно бывает. Один последний кусок разломит пополамки, а у другого и жменю снега зимой не выпросишь.
История с намёком? Мне почему-то стало неловко и я сказал:
– Ма! А чего б Вам не остаться жить у меня?
– Не, сынок. Тут у тебя скучно. Все дни сиди одна у окна? Жди тебя? Вчера вечером тебя нету. Одна… Страшноватонько…
4 марта. «Всегда встрену тёплыми руками»
– Нас птички будят, – говорит мама, потягиваясь после сна и показывая на дверь, ведущую на балкон, откуда слышались птичьи голоса. – У тебя есть своя молитва «Живые помощи»?
– Есть.
– Перепиши мне. А то я свою потеряла.
– А Вы текст знаете?
– Нет. И читать не могу. Гриша переписал мне молитву буквами в локоть. Как куда еду, иду… Беру с собой. С молитвой в дороге надёжнишь. Молитва была у меня в жукетке. Этой весной сажали в поле гарбузы. Як выпинаются всходы, грачи их дёргают. Гриша в охрану определил мою жукетку. Распял на палках над лунками с гарбузами. Стереги! Скотина прошла, палки посбивала и жукетка сгнила.
На машинке я отпечатал молитву под копирку.
– Ну вот, – легко вздохнула мама и перекрестилась. – Один листок будет со мной везде патишествовать, а другой будет пока в хате отдыхать.
Идёт крупный снег. Мама смуро смотрит в окно:
– Сегодня метелица за все дни. То сыпал реденько да меленько, а теперь какие лопаты летят…
Мама посадила рядом две латки на мои штаны.
– Два глаза получилось. Глядят.
– Ну наденьте на них очки! – подсуетился я с советом.
Мама улыбнулась и взялась ремонтировать простыню.
– Оцэ латку подкидаю и начнемо собиратысь в поход на вокзалий.
Вечером мы уже толклись в ростовском поезде «Тихий Дон». Вскинул я мамин чемодан на третью полку. Обнялись, поцеловались.
По динамику приглушённо лилась моцартовская «Волшебная флейта».
У мамы слёзы на глазах, дрожит голос:
– Приезжай, сынок, пока я жива. Не обижайся, где так… где не так… Живём мы неплохо. Лук, морква и вся ерунда своя. А в городе борщ сварить – из рубля вылезет. Приезжай в ночь, в полночь… Всегда встрену тёплыми руками. Холодные года мои на отходе… Перекинусь… Тогда не к кому будет ехать…
5 марта. Условие
«Не напишешь хоть одно слово – не приеду на Восьмое!»
Вот так фантик!
Я кидаю своей Мёдочке письма почти каждый день а до неё они не доходят? Иначе разве она написала б такое?
Настучал на машинке целых две страницы, бегом на почту. Отправил самолетом. Послал и телеграмму в одно слово «Приезжай!»
Пришёл с почты, прямо из пакета попил молока с чёрствой булкой и задремал. Приснилось… Какая-то драка. Лома ломались о головы, как сухие хворостинки… Буран перевернул пятиэтажку и столкнул в яр. Я стукнул ногтем в окно пятого этажа и спросил:
– Откуда принесло?
– С Диксона!
Я куда-то бежал по льду. Зацепил нечаянно девицу и она заорала вдогон:
– Перехватите его и дайте ему пятнадцать суток!
Я очнулся. Нетерпение сжигало меня.
«Может, уже пришла от Галинки ответная телеграмма? А почтари не спешат мне её нести? Схожу-ка я сам за нею».
На трамвае поехал на свою почту.
В проходе пьяный мужик подбивал клинья к одной озорнушке. Она на вздохе лениво махнула на него рукой:
– Поищите других… Посвободней кто. А то у меня муж, два любовника… И так полный перебор…
Телеграммы мне не было. Я заказал телефонный разговор с Питером и присел у стеночки. Рядом парень слушал приглушённый диктофон. Передавали спектакль «Всё остаётся людям».
Да-а, всё достаётся людям, только не мне…
Скоро дали Питер.
– На Восьмое я не смогу приехать, – сказала Галинка. – Буду работать за двойные отгулы… Могут сгодиться…
– А чего голос кислый?
– Ты прокислил.
– Когда это я и успел? Может, тут вклинился помидорянин первого плана? А я на втором плане? В запасе? Я вторых ролей не терплю. Или… Может, ты Восьмого работаешь?
– Ну-у… Самая запарка… Отчёты…
– Какие отчёты на праздник? Я тебя не понимаю!
– Так получается. Я приеду числа десятого-одиннадцатого.
– Ты писала, что у тебя набежали отгулы. Бери все и кровь из носу обязательно приезжай!
О вернейшая из вернейших!
О нежнейшая из нежнейших!
О несравненная из несравненных!
О мудрейшая из мудрейших!
О…………шая из ………ших!
О ……….шая из …………ших!
Приезжай! Ты не на танцы – на государево дело едешь!
– Только ты не подымай на меня свой вокал. Не кричи.
– Да это от радости поднялся у меня голос. Значит, мёдочка, такое распределение. За тобой приезд, а за мной твой любимый мутьфатлар![151]
– Нет… За тобой ещё и… Ты обещал, что не будешь сутулиться. Как, продвигаются дела на этом фронте?
– О Боже! Что это за экзекуция!? Сегодня убери живот, убери сутулые плечи, а завтра убирайся сам? Ты этого добиваешься?
– Ни в коем случае. Просто я хочу, чтоб ты был ровненький и стройный, как тополёк…
– Будет тебе тополёк! Будь терпимей к чужим недостаткам. Я ж не требую, чтоб ты свою короткую юбку, которую ты называешь «Смерть мужчинам!», удлинила до пят…
– Потому и не требуешь, что такая она тебе нравится.
Я отмолчался.
И всё же Восьмое меня не отпускало. Почему она не сможет приехать? Между нами втесался клином кто-то третий?
Я не находил себе места. За что ни возьмусь – всё валится из рук. Восьмого засел за Астафьева. Не читалось. И чтением не перебить дум о ней.
А с другой забежать стороны… Разница в семнадцать лет. Есть о чём подумать. И так ли уж интересен я ей? Да и знаю ли я её? Чтобы узнать человека, надо, по народной молве, съесть пуд соли. Вместе? Порознь? Да и долговатушко есть. Я съедаю в год один килограмм соли. Значит, вдвоём мы доползём до мечты через восемь лет. Гм… Тогда мне надо будет покупать уже белые тапочки для гробного уюта, а не свадебный смокинг.
Так кто этот третий? С кем она ставит мне рога?
Я пялюсь в круглое зеркальце на подставке, перед которым я обычно бреюсь, трогаю лоб. Даже маленьких рожков не чувствую. Гм…
Да и что рога? Если мужчины носят перья на шляпах, то почему не пофестивалить с рогами как украшениями?
Хватит свистеть в никуда![152] Хватит этих досужих домыслов! Счастье – это риск. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского!
А дело к тому мажется.
Телеграммой она сообщила, что прилетит ко мне одиннадцатого на десять дней. Рейс 2424.
Десять дней подряд и все праздники!
Одиннадцатого по пути в аэропорт я заскочил в «Турист» оставить свой материал. Балагур Левченко, увидев меня, бухнул:
– Ну, достославный житель Новогонореева,[153] то бишь Новогвинеева плюс Новогероинова, ты чего это сегодня в таком ах наряде? Скажи, на какие олимпийские половые игрища до потери родного пульса собрался?
– Мели, Емеля, твоя неделя! Да ну тебя к Богу в рай! Нуты чего несёшь? Думал бы хоть через раз…
В загсе у нас приняли заявку на 23 апреля. На канун Пасхи. В этот день отмечаются именины Анатолия и память мучеников Анатолия.
Вчера я загодя снял с книжки сто рублей.
– Ну что, – говорю Галинке, – настал черёд взяться за обмундирование невесты?
Она робко кивнула и, неловко прикрывая ладошкой сиротливый бахромчатый рукав жёлтой изношенной кофтёнки, сказала:
– По примете, у девушки на свадьбе должно быть три новых вещи…
– Начнём наряжать нашу гаечку сверху или снизу? От земли? По-моему, надо идти от земли. Начнём со шлёпанцев.
– Ну ты наглый, как танк…Обижаешь… Назвать свадебные белые туфли на высоком каблуке шлёпанцами…
– Как ни называй… Главное, чтоб были красивые.
В салоны для новобрачных пускали только парами.
У магазина на Щёлковской из толпы выскочил один закопчёный кавказец и к Галинке:
– Можно, я с вами пройду?
– Опоздал, генацвале, – сочувствующе сказал я. – Как думаешь, я при ней для чего?
Взяли мы и туфли, и кой-что из белья, и кольца, и нежно-розовую ткань. Платье Галинка будет шить сама в Питере.
Вот и кончился мой десятитдневный праздник. Проводил я её до самолёта и вернулся домой уже в 18.05. И сразу сел писать ей письмо, в которое вложил нежно-розовые лепестки примулы: в них было всё, что было у меня к ней.







