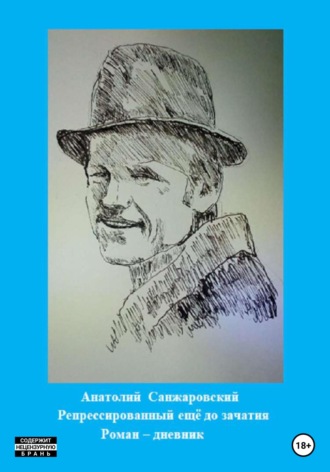
Анатолий Никифорович Санжаровский
Репрессированный ещё до зачатия
14 сентября. Пятница
Вкалывали.
15 сентября. Суббота
Откалывали шишки.
На работу не пошли.
Загорали.
Купались в одном обществе с гаркушинскими гусынями и гусаками и слушали их мудрые, степенные беседы.
16 сентября. Воскресенье
Весь вчерашний день и часть сегодняшней ночи нас мучила совесть, являющаяся, по выражению гаркушинцев, роскошью: мы не работали вчера весь день. Нас слегка успокаивало лишь то, что была всё-таки субботея.
Попили воды, то есть позавтракали, и, забросав чуточку воду в желудке редкими виноградинками, ринулись потемну на заработки.
Собралось полбригады.
Поделились с Татьянкой своими переживаниями.
– Глупости! – сказала она. – Не на ту тему переживаете.
И выговорила:
– Вы вообще зачем сегодня пришли? Только распшикали выходной. Могли ж и не выходить!
– Да неудобно как-то. Погода…
– Ну и что? Всё равно в двенадцать по домам.
Работали рядом с легендарными личностями. С парторгом в тёплом синем лыжном костюме и с Николай Иванычем, главным финансистом, самым уважаемым человеком в «Заливе».
На жене ничего не было, если не считать на грешных бёдрах слегка грешных поплавков, то есть плавок. Было там что-то и на груди по мелочи. Я был лишь в закатанном до колен трико. Голодранцы!
Партия и экономика страны Советов не могли на это безобразие спокойно смотреть, и они с нами принципиально не разговаривали.
И вот мы перешли на новые рядки.
– Спина загорела сегодня здорово. Стотонно! А на лицо ни одного солнышка не пало! – вздохнула жена и намахнула на себя шорты и маечку с короткими рукавами.
Наши рядки снова выскочили рядом с легендарными гражданами.
Теперь они с нами заговорили.
Парторг хвалился, что он купил модное пальто. Однажды его оплевала лужа, не глядя на то, что пальто-то партийное.
Стирать нужно было только целиком.
А этого ему делать не хотелось.
Так оно и висит в уважаемом шкафу.
Целиком в комплекте с грязью.
Потом он ещё охотно рассказывал, что его племянник учится в Анапе в техникуме, и в этом году свободен от винограда. Парторг купил ему за двести рублонов джинсы:
– Кто не имеет таких джинсов, тот не пользуется популярностью, авторитетом.
Мы всё это с прилежанием выслушали и оставили рядок хорошего винограда на тёмный отъездной денёк.
Самим пригодится!
Гнули позвонки до двенадцати.
Полдень. Солнце.
Плантация пустеет.
Мы потащились на море.
Рядом с нами на берегу торчал красный «жигуль». Две девы и два мужика гасили водку. Они тоже загорали.
Мы набирали градусов от солнышка, они – от водяры.
17 сентября. Понедельник
Всю ночь за стенкой то пели, то плясали, то визжали.
Веселье было комплексное.
Это наши невинные столичные фрикадельки Алла и Оленька прощались с гаркушатами.
Следы прощания были обнаружены утром у калитки. Четыре бутылки из-под «Столичной».
Только слиняли каркалыги – заявляется какой-то помятый чмырь.
– А где запивалы соседушки? – спрашивает меня.
– Так уехали…
– Срыгнули!.. Обещанный опохмелион срубили… Скоммуниздили… Ну абсирантки![184] Поголливудили и ушуршали по-чёрному… Даже вшегонялку[185] одну на двоих забыли у меня… Хотел отдать…
Как бы в отместку за то, что вчера, в погожий день, совхоз почти не работал, с утра посыпал дождь.
Сыро. Холодно.
Нерабочий день.
Решаем уехать.
Больше года искали мы хозяйство, которое приняло бы нас на время отпуска.
Ты рвёшься на гору, а оно тебя за ногу.
Намеревались помогать «Заливу» с месяц – пробыли полторы недели.
Почему?
Не вынесли труда на земле?
Ничего подобного!
Ежедневно давали больше нормы.
Испугались непогоды. Холода?
И у моря можно дождаться погоды.
Не вынесли мы равнодушия, безразличия к себе.
Изо дня в день давиться одним и тем же, не иметь возможности вскипятить стакана воды, спать на подставленных стульях, не видеть книг, не слышать даже радио – не в пещерный же век мы вляпались!
Надоел нам этот ёперный гаркушинский театришко.
И потом…
Работали неделю.
А четыре дня устраивались-рассчитывались.
Не слишком ли в «Заливе» разбрасывались нашим отпуском?
Требовать же к себе внимания мы не осмеливались.
Нас никто не приглашал. Сами напросились!
В бегунок надо было накопить с десяток закорючек и от людей, которых мы никогда не видели. Надо было, чтоб все расписались, подтвердили, что мы ничего у «Залива» не спионерили.
Утром расписалась комендантша. Подивилась:
– Три дня работали! А обходной подписывай!
Нужна подпись управляющего Кретова.
Одна женщина позвонила на первое отделение.
У телефона сам управляющий!
Я говорю ему:
– Наши обходные ждут не дождутся вашей подписи. Уже соскучились по вашему автографу. Где вас найти? Вы ж носитесь на своей мотайке[186] туда-сюда. Нигде не поймаешь. Случайно, вы в контору в Гаркуше не заскочите?
– Кто вы такой?
– Рабочий. Уезжаю.
– А вы знаете, что не гора, а Магомет идёт к горе?
– А где гора?
– Куда звоните. В конторе первого отделения!
По слякотине мы пошлёпали за километры.
В конторке Кретов один.
Я докладываю:
– Магомет пришёл к горе!
– Пожалуйста.
И он расписался, не глядя в бумагу. В тот момент он будто впервые увидел стену своей халупной резиденции и не мог оторвать глаз от стены.
Пришлось нам и к мамке в панамке плыть домой по такой сыри.
Я пихнул нос в приоткрытую дверь.
Медленно проговорил в сумрак:
– Тук-тук-тук! Кто дома?
– Я да кошка, да собачка, – радостно плеснула Татьянка.
Она получила квартиру и сидела с ногами на койке у окна. Подбивала штору.
Мелкая чёрная собачка вертелась рядом.
Увидев нас, собачка стала гордо бегать взад-вперёд по дерюжной дорожке, словно похвалялась гостям, какая ж у неё, богатейки, есть невозможная красота.
– Таня! А чем ты занимаешься в свободное время?
– Слушаю «Америку»[187] под утюг.
– Это как?
– Да втыкаю утюг в приёмник вместо антенны.
– Ты откуда сюда приехала?
– Из-под Калуги. Там люди проще, сердечнее. Тут у каждого по машине и по десятку бочек вина, хотя своего винограда ни корня. Их оправдание: совесть – непозволительная роскошь в наше время.
– Тань! А как нам быть? Ты не закрыла нам наряды за одиннадцатое и за шестнадцатое.
– Нетоньки и тени вопроса! Сложное делаем сразу. Невозможное – чуть позже!.. Оставьте адрес, доверенность на меня и я вышлю вам заработок за эти два дня.
О святые деревенские лень и простота!
– Таня, – говорю я вежливо. – В бухгалтерии нам шукнули: «Если она не оформит наряды, скажите, что вынужденный простой ей придётся оплачивать из её карманчика. Посмо́трите, как крутанётся карусель».
Я замолчал. Смотрю.
Таня молча отложила штору.
Молча выписала наряды и молча отдала нам.
Все и проблемы! И мы молча вышли.
И вот отъезд.
Уехать надо без следов.
Вечер. Поели одного винограда с хлебом и легли.
Условие: как кто проснётся первым, тут же и выходим.
Я проснулся первым. Оделись.
Побрели потемну к остановке.
Остановкой называется столб, к которому приколочена ржавая погнутая жестянка с расписанием автобусов.
Первый автобус в пять.
Сколько же сейчас?
Мимо по колдобинам проползала легковушка.
Из неё шумнули:
– Панове! Где тут дорога на Темрюк?
– Сюда! – махнул я рукой в темноту, чуть отступила от света фар. – Вы время не скажете?
– Полпервого вас устроит?
Что же делать? Не возвращаться же!
Мы утащились в ближние кусты, где были припрятаны два ящичка с виноградом, сами под вечер собирали.
Переложили виноград в сумку, напялили на себя всю одежонку, что была у нас. На голову себе поверх солнцезащитной кепки приладил я своё трико, в котором собирал виноград, подпоясался жениным халатом. Был он тесен мне и надеть его не удавалось.
– Мы похожи, – смеюсь, – на отступающих немцев зимой.
Поблизости за деревом под навесом размыто выступали столик и щербатая скамейка.
И мы кинули свои очугунелые головы на столик.
На ладошках не спится сидя.
Холодно. Прыгаем.
Нас сильно согревала мысль, что мы первые будем в очереди на автобус! Ни за что не проспим!
Вот так мы!
И кончилась ночь!
Утро пригожее, грустное.
Мы уезжали.
Говорила мама… Повесть в житейских бывальщинах
Русская женщина – самый красивый цветок в мире.
А.Санжаровский
Всё, что было в судьбе,
Будет помниться вечно,
Вот и снова я дома,
В родимом краю,
Замирает сердечко,
Когда старая речка
Простирает мне руку
Худую свою.
Иван Семенихин
Как свят уют родного очага,
Привычно всё – от звёзд и до росинки…
Здесь чувствуешь, насколько дорога
Родительская каждая морщинка.
Иван Семенихин(село Вязноватовка Нижнедевицкого района.)
В Нижнедевицке у мамушки
Нижнедевицк…
Это уютное степное районное сельцо в шестидесяти километрах к северо-западу от Воронежа.
Сюда в шестидесятые перевели из Евдакова старшего брата Дмитрия. В Евдакове он бегал механиком на маслозаводе. И в Нижнедевицке тоже механничал. Одно время покняжил директором маслозавода. Не уякорился. И нерасторопность спихнула его снова в механики.
Вскоре после переезда Дмитрий женился и зажил отдельно своей семьёй в новом доме через три двора от наших.
А мама и брат Гриша – он работал на маслозаводе компрессорщиком – куликали в аварийном заводском бараке-сарае. Мама мучилась в нём тридцать пять лет, Гриша – тридцать семь. Мыкали горе в этом пролетарском баракко до самой смерти.
Все эти долгие годы строители «счастья на века» горячо обещали им квартиру в доме-новостройке. Только дальше жарких обещаний дело не пробегало. И получили мама и брат жильё лишь на кладбище.
Правда, уже после смерти мамы, в 1996-ом, Гриша дождался-таки уже от новой власти ордера на новую квартиру.
Счастливый, он основательно ухорашивал свой уголок.
Да переехать так и не успел.
Судьба распорядилась по-своему.
Смерть…
Двери их ветхой хилушки были так узки и малы, что в них нельзя было вынести гроб с покойником.
И гроб с телом мамы, и гроб с телом Гриши пришлось выносить в окно.
Очки, футляр положили Грише в гроб. Были у брата пухлые ноги. Их обули в тапочки. А хорошие новые туфли тоже положили. Одну туфлю под левый локоть, другую под правый. Захочет, там возьмёт и переобуется. Мама встретит его ещё на дороге.
Их могилки рядом. За одной оградкой.
И верный Гришин друг посадил в изножье печальную берёзку…
Каждый год я наезжал к своим в отпуск.
То огород поможешь вскопать или убрать картошку.
То погреб подремонтируешь.
То дровец на всю зиму нарубишь…
Всё какая-никакая подмога.
У мамушки мне всегда было добро.
Я был влюблён в её образную простую речь. Не запиши сразу – не запомнишь всё в точности. Пропадёт такая радость.
И стал я записывать за мамой.
Однажды она это заметила и очень расстроилась.
– Толька, сынок… Ты к чему мои слова кидаешь на бомагу? Потом шо, сдашь меня у милицию?
– Боже упаси! Да как Вы такое могли подумать? Я просто так… Нравится, как Вы говорите…
– А и наравится, всё одно не хватай на карандаш, шо я там ляпаю… Да мало ль шо я бегмя ляпону!?
– Успокойтесь… Не буду…
И всё же я тайком записывал.
Набежало тридцать три тетрадки.
Когда я их читаю, вижу и ясно слышу свою маму.
У неграмотной мамы я неосознанно учился писать свои книги – шестнадцать томов собрания сочинений.
Бомба
В школу я пошёл в девять лет без десяти дней.
Безграмотной маме нравилось слушать, как я усердно терзал букварь.[188]
Сама она училась в школе с месяц. По чернотропу бегала. А как похолодало, как пали снега в воронежском хуторке Собацком, учёба и стань.
Не в чем было ходить в школу.
На троих у неё с братьями Петром и Егором метались в служках одни сапоги. Сапоги понадобились братьям.
Как-то мама готовила на плите вечерю.
В тот день я выучил уроки до её возвращения с чайной плантации, и мама попросила:
– Почитай мне трошки.
Я раскрыл букварь и торжественно прокричал по слогам:
– Бом-ба!
– Неправильно! – стукнула мама ложкой по кастрюле на плите. – Бон – ба!!! Ны! Ны посерёдушки воеводиха! А не твоя мыкалка мы!
– Но в букварике – «бомба»!
– Ой да ну-у!.. Ой-ёй-ёюшки-и!.. Та шо ж они там у той Москви понимають!? Негодный твий букварюха! Вкрай неправильный! Выкинь ото!
– А уроки по чём делать?
– Тогда не выкидывай.
И больше мама не спорила с учебниками.
1947
«Махновец»
У нас в девятом классе двадцать пять гавриков состояли в комсомоле и пятеро не состояли.
Я был несостоятельный.
И вот после новогодних каникул всех несостоятельных согнали в директорскую яму.[189] На эшафот.
Нас выстроили вдоль стены.
Звероватый дирюга молча прохаживался мимо нас по своей боевой цитадели и не сводил с нас жестоких глаз. Не мог налюбоваться, что ли?
Дуректор прохаживался, а наша очкаристая классная комсоргиня Женечка Логинова торжественно тараторила из-за его стола:
– Владимир Иванович! Наш класс борется за звание образцово-показательного. Если б эта пятёрка вступила в комсомол, мы б могли выскочить на первое место по школе! Но честь класса им недорога! Какие-то упёртые махновцы!
Тощий дирик примёр посреди кабинета со сложенными на груди руками и – взбежал он под потолочек ростом – с высоты хищневато уставился на нас поверх очков, будто собирался с нами брухаться:
– Ну! Чито будэм дэлат, уважяемие господа махновци? – распалённо вопросил он с родным грузинским акцентом. – На честь класса вам напиливать? А ми можэм на вас на всэх напиливать! Вот ти! – кровожадно ткнул в мою сторону мохнатым чёрным пальцем. – Как ти смээшь писат на комсомолск газэт, эсли сама не камсомолец? Тожа мнэ юни каресподэнт! Нэ будэшь ти юни, эсли нэ паидёшь на комсомол! Вступай аба бэгом! А то я позвоню на редакция «Молодой сталинец», и ни один строчк твой не побэжит болша на газэт!
Я промолчал.
И через полчаса нас табунком пригнали в райком комсомола в грузинском городке Махарадзе (сейчас Озургети). Райком куковал в десяти минутах ходьбы от нашей школы.
А вечером я вприхвалку доложил маме:
– Ма! А я сегодня в комсомол вступил.
Мама горестно покачала головой:
– Оха-а, сыне-сыноче… Везёт же тоби як куцему на перелазе… То в коровью лепёшку ступишь, то в кансомол той…
1956
Кто живёт под полом
Мама гостила у меня в Москве.
Сидела у окна, смотрела во двор и как-то насторожённо стала вслушиваться в голоса снизу. Из-под пола.
Лицо её смяло недоумение:
– Иль тамочки люди балакають под полом?
– Люди.
– Цэ як?.. У нас под полом бессовистни гражданки мыши живуть-панствують… А у вас люди? О столица! В метро спустишься… Дух такый, як лук перегорит! Под полом живуть…
– А чего Вы удивляетесь? Мы на четвёртом этаже. Под нами третий.
Мама покачала головой и ничего не сказала.
Паляница
Рассказывала мама…
– Идуть двое. Дорога довга. Подморились. Бредуть голодняком.
«Вот бы… – замечтался один. – Найди мы паляницу, я б ку-у-усь!..»
Другой прокричал торопливо:
«А я бы ку-усь! Ку-у-усь!!!»
И первый шмальнул кулаком второго:
«Ты чего два раза кусаешь?»
Бешеный пух
Года три мама собирала куриный пух мне на подушку. Собрала и понесла на почту посылку.
Не принимают.
– Может, – говорят, – у вас куры бешеные и пух весь бешеный. Справку неси, бабка, от ветврача.
– И шо в той справке докладать?
– Что куры нормальные и пух нормальный.
С такой справкой у мамы приняли посылочку.
– Бачь, – говорила она потом мне, – как на той почте маракуют. Бешеные куры! Чего им беситься? Или дурочки какие?
Мумиё
Летом мы с Галинкой были в Нижнедевицке.
А в конце сентября снова я приехал. Только один.
Заболела мама.
Сразу за задами нашего огородчика тоскливо, чахоточно желтела новая районная больница.
Но маму туда не положили.
Сказали:
– Нам в первую очередь надо лечить советских тружеников. А дорогушам пенсионерам – славная краснознамённая орденоносная Ольшанка!
И отвезли её за двадцать километров от дома.
Три недели, что пробыла мама в Ольшанке, я возил ей передачи, помогал брату Грише вести дом.
И вот уже под вечер маму привезли.
Гриша только-только закончил белить печку.
Я тем временем домыл пол.
Приготовились к встрече мамушки.
Прошла мама от машины к порожку. Счищает палочкой с сапог грязь. Переобувается в тапочки:
– А то щэ наведу вам в хату грязюки…
За ужином она грустно роняет:
– Шо-то, хлопцы, не хочеться йисты… Думаю, йисты ли свеклý? Вводить ли вас в растрату?
– Смело вводите! – с апломбом бухнул я. – Только сначала выпейте пять капелек мумиё. Я вам привёз…
Гриша подшкиливает:
– Маме он привёз! А ты докажи, что не туфту привёз. Выпей сперва сам.
Я выпил. За еду не берусь.
– Что интересно, Толя сегодня у нас говеет. Праздник у него религиозный, – вприсмешку кидает Гриша.
– После мумиё нельзя сразу есть.
– Мужественный товарищ… Да! Все великие свои новые препараты испытывали на себе! – подпускает он важного туману.
Я тихонько говорю маме:
– А Гриша всё ждал, когда я начну от мумиё зевать.
– Станешь ты зевать, – отбивается Григорий, – когда полсковороды курятины умял!.. Ма! Как Вы себя чувствуете?
– Голова болит и в виски постукивае. Сердце разом ничё. А разом як застукае по ребрах…
– Ма! Когда насмелитесь? – кивнул я на стаканчик с мумиё.
– А шо? Надо зараз начинать пьянку? Потом як-нэбудь.
– Я ж выпил. Цел. И от Вас ничего не отвалится.
Григорий:
– Ну к чему липнуть каждую минуту? Пристал банный лист… Будет пить!
Мама перекрестилась и опустошила рюмочку с мумиё.
– А приятнэ на вкус… И к еде навроде просится…
Впервые за три недели поела с аппетитом.
И вспомнила:
– Ещё до войны мне цыганка нагадала. Если, говорила, в сорок пять переболеешь хорошо, то будешь жить восемьдесят три года…
– А мы не согласные на цыганские восемьдесят три. Наш поезд летит до станции СтоИДалееВезде! – пальнул Григорий.
– Охоюшки, Гриша… Расхороша ж твоя станция. Да не про нас. На старых людей зараз всплошь пришло гонение. Районный главврач Комаров як мне сказанул? Напрямо вот так и фукни в глаза: «В районной больнице нам предписано свыше ударно лечить тех, кто даёт молоко, мясо, хлеб. А ты что даёшь? Пенсию тянешь… В Ольшанку тебе столбовая дорога красными коврами уже выстлана…» А Ольшанкой заздря пужали. Вернулась же жива та ходячая. Про шо ще мечтать?
Бабунюшка Фрося
Наутро я проснулся в пять.
– Чего не спишь? – щёлкнул меня указательным пальцем по руке Григорий.
– Да собираться в столицу надо…
Он подсмеивается:
– Я устрою тебе тёмную прощальную… Надо мне остальное достирать мамино. А то, что я вчера стирал, уже высохло. Ты погладишь… Если думаешь гладить, вставай гладь. Сейчас под раз нужное напряжение. Всё равно не спишь…
Я включил утюг.
– Ма! – хвалюсь я. – А я глажу с обеих сторон. Следов чтоб не было.
Григорий уточняет:
– Следы заметает-заглаживает.
И понёс он завтрак поросёнку.
Мама вздыхает:
– Толька гладит. Гриша побежал на поклон в гости к кабану. А шо ж мне делать? Не лежать же, як коровя? Так я у вас ничего и не буду делать. Разучусь…
– Полежите… Придите в себя от Ольшанки.
Возвращается Григорий и сразу швырь камешек в мой огородишко:
– Ма! Что интересно, за целый час Толька выгладил только сорочку, наволочку и плащ!
– Это он от зависти, – говорю я маме. – Я основательно всё делаю. А он так не может.
– Да, – улыбается Григорий. – Так не могу. Лучше делаю!
Ещё толком не раскидало ночь, когда припостучалась к нам бабунюшка Фрося. Мамина товарка.
– Игде туте наша ольшанска геройша? – шумит гостья и подслеповато пялится за печку, где на койке лежит мама.
– На старом боевом посту! – усмешливо откликается мама.
– Я не разулась…
– Ну и не разувайтесь.
– Хлопцив аж двое. Помоють.
Бабушка подсела на табуретке к маме.
– Ну!? Кто к кому, а я к вам уявилась… Не померли? Хвалитесь! Докладуйте мне и моей тубаретке!
– Та жива ж! Сами бачите! Ну чего его ото шо здря греметь крышкой? В одно слово, раздумала помирать…
– Тако оно способней. Ты у нас крепкая, как жила… А я туточки сама то ли полужива, то ли полумертва… Не пойму… На уколах катаюсь втору неделю! Дуже понаравилось старой дурейке…
– Ну, чего у вас уколами сшивають?
– Кроводавление штопають. Тыкають ну кажный божечкин денёшек! Оно у меня бешеное. Заниженное.
– А у меня завышенное. А обом нам кислувато…
– Да ну его в транду это давленье!.. Оё… – Она прикрыла рот кулачком. – Як же нехорошо ругаться… – Она посмотрела на печку. – Эта божья ладонь всё слышит!.. Нельзяшко при ней ругаться… И штобушки нэ було дуже кисло, вот вам сумочку яблок. Не покупные. Из свого сада.
– Да я ль не знаюшки? Спасибко за подаренье!
– Как раз подгадали вернуться домой к свому дню…
Гриша уставился на бабушку Фросю:
– А что сегодня за день?
– Трифона-Палагеи, – ответила гостья и покачала головой на вздохе: – С Трифона-Палагеи всё холоднее и холоднее. Всё чаще донимають ознобицы, зябуша, ознобуха… Трифон шубу чинит. Палагея рукавички шьёт барановые.
– Цэ так, – соглашается мама.
– Михална! – с подкриком говорит бабушка Фрося. – Чи вы забулы, шо бабака я с глушью на обе пятки? Посадила вам голосок Ольшанка. Кричить мне сильнишь.
– Цэ привсегда пожалуста!
– Слухайте, шо я, глухня, вам расскажу… Тилько воспомнила. Цэ у Россоши було. Женився один. А жинка не всхотела, шоб мать его з ними жила. Он и говорит матери: «Пошли я тебя покатаю». Посадил в машину. Поехали. Стал раз. Поковырялся в моторе. Стал ещё. «Мам, выйди. Я подыму твой бок». Она вышла, он и толкни её в ров. Три дня лежала без сознательности! Потом стала кричать: «Спасите, кто верует в Бога!» Мимо ехал один. Услыхал крик и привёз её у Россошь. Напрямко в трибуналий![190] Вызвали молодых… А у сына уже спрашували соседи, где мать. А он отвечал одно: «Уехала в своё село». И дядько, спаситель матери, сказал сыну: «Ты выбросил мать. А мы подобрали». Посадили тех молодых… А то ещё… Сунули родители пятилетишку дочку на санки и повезли. «Поедем зайчиков ловить!» Привезли в лес, раздели, привязали к дереву и пошли… Ехал один шофёр, услыхал детский плач. Тут подъехал второй шофёр. Один снял с себя фуфайку. Укутал девочку. Едут. Видят мужика и бабу. Девочка и докладае: «А вонь мои злюка мамрыгла и папычка. Они у меня часто напиваются, а потом закрываются от меня на крючок в своей комнате и мучаются.[191] Стонут и кричат». Первый шофёр стал. Сказал второму: «Я прямиком дую в крокодильню.[192] А ты подбери их и тарань туда же». Второй взял их. Везёт. Они шумлять: не туда прёшь, агрессор! А шофёр: «Я знаю, где вы живёте. Но мне надо заскочить на моментушко в одно местынько. А там я вас доправлю до вашего дупла». Их домом оказалась теперь тюряжка. Сталинска дачка… Отака спеклась история. Коли брешу, так дай Бог хоть печкой подавиться!
Бабушку Фросю мёдом не корми.
Стой у печи да не приставай к чужой речи!
Только слушай.
Ей и самой тоже хочется услышать что-нибудь необычное. Мама это знает и расписывает свой случай:
– А цэ чертевьё в Нижнедевицке скрутилось… Молодые не хотели его мать. Там пара… Она тонка, як щука. Ноги-палки рогачиком. Стоит, як на дрогалях. А шо злая… Хоть у кого вырежет и мозг, и позвоночник… У него мордяка с ведро! Губищи, як лопаты!.. Вот сын вывел мать в лес. Снимает с плеча ружьё. Свете божий… Мать перекрестилась и просит: «Не стреляй меня у спину, сынок. Стреляй у грудь». Он застрелил себя.
21 октября 1977







