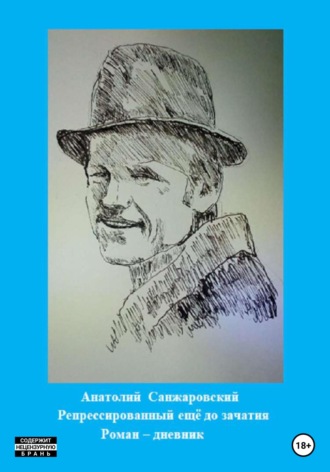
Анатолий Никифорович Санжаровский
Репрессированный ещё до зачатия
Розовая улыбка Ларисы
Дома я напился настоянного на смородиновом листу горячего чаю с малиновым вареньем, попарил ноги и шнырь под одеяло. Имею полное законное право! Как тяжёлый пострадалец на славном трудовом фронте.
За окном озверело буянил ливень. И до того разошёлся, что его тонкий пристанывающий рык стоит и в нашей курюшке: нитяные белые струи, не прерываясь, монотонно льются в ведро посреди комнаты.
Два тазика по углам.
Второе ведро торчит в сенях.
И эти четыре водолпада с тоскливой ненавистью бандитничают в нашем бурдее,[252] наглюще поют, когда хотят. Хоть день на дворе, хоть ночь. Они – хозяева!
Боже! Боже!
В какой дырявой пещере мы кукуем?
Эта маслозаводская сарайная засыпушка была рассчитана на тридцать лет. Срок ей давно вышел. А она стоит.
Обмазка на внешней стороне стен отстала. Сильно постучи ночью вернувшийся со смены Гриша, чтоб разбудить мать, – завалит наш «государев дом», дающий течь при первых дождевых каплях.
«Государев дом»…
Приделанные Гришей сенцы, кухонька и одна жилая комнатка. Двенадцать метров. На двоих.
Двое на двенадцати квадратах четвёртый десяток лет!
Мать и сын – в одной комнате.
В какой Африке так живут?
Законом нельзя взрослым разных полов жить в одной комнате. Законом нельзя. А – живут!
Мамина койка на кухне почти вприжим к плите.
Гришина койка в комнате.
А приехал гость – уже и положить негде.
Разве что на пол.
Пока я тут, великодушный Гриша сам всё время спит на полу, на двух вчетверо сложенных коврах. Ковры наши не расстилают, ждут, что раскинут в новой юрте. В один шкаф всё не воткнёшь. Горы тряпок горбятся на стульях по углам. Ждут новоселья.
Маме 81, Грише 56.
Куда ждать? Чего ждать? Новоселья на том свете?
Обо всей этой квартирной катавасии я писал президиуму первого съезда народных депутатов СССР.
Поставили в общую очередь. Наш номер очереди 178.
В прошлом году я добыл недостающие бумаги о погибшем на фронте отце – вжались третьими в первый льготный список.
Неужели за год не сдали три квартиры?
Надо сбегать спросить.
И тепло под одеялом, уютно.
Да каково слушать разбойничьи песни дождя над вёдрами-тазами-корытами в этих графских апартаментах?
В райисполкоме жилищную комиссию вела зампред Лопатина. На её двери нет уже таблички с её фамилией.
Проходила мимо женщина.
Я спросил, где искать Лопатину.
– В загсе теперь она женит-хоронит. А на её место… Я и не знаю, кого теперь греет её кресло… Весь же несчастный райисполком оккупировало парткомарьё. Ондатровые гвардюки!
– Какие страхи под вечер…
– Да… Гвардейцы эти сидели во-он в том белом фикваме, – показала в окно влево на бывший райком. – Они, пайковые гвардейцы, – славные строительцы коммунизма! Дом у них – белый. Вот этих неусыпных строителей светленького будущего у нас и звали кто белой гвардией, кто белогвардейцами. Себе и своим эти ондатры под горло понахапали до трёхтысячного года. Слава Богу, Ельцин расшурудил это осиное коммунистическое гнездо. Думаешь, похватали тяпки и побежали ухорашивать колхозную свёклу? Утаились! Ждут-с. Выхватывают последние сладкие кусочки. Даве царевал тут первым в райкоме-рейхстаге Шульженко. Мотанул в ёбласть. В Воронеж. Не то в агропроме, не то в облисполкоме прижух. Сам ксёндз[253] удрапал. А свою квартиру-дворец, думаешь, сдал? Там мозгодуй оставил своего резидента. Какого-то ветхого хренка. Не то тесть, не то ещё какой родич. Спрашивают Шульженку, что ж ты его не забираешь? Он же тебе люб и дорог? Молчит. Видать, даровая квартира дороже. Они ж подыхать будут, а не отдадут. Я слышала, какая-то гадость размножается делением. Так и эти гвардейцы. Учалил нельзяин[254] – остался старец. Как чеховский Фирс. И эта квартира теперь будет у Шульженки вроде как дача, что ли? Откинь лапоточки старчик – сунет эту юрту какой-нибудь своей жучке-сучке или кошке, или мышке. Зато людям – ни за что! Это ж ещё те комгвардюки!.. До Шульженки тут рулил в рейхстаге Сяглов Витюшок по батюшке Сёмка. Во-о ворюга! Из ворюг ворюга!!! Классман! Как говорит моя внучка. Полмешка бриллиантов нагрёб! Народ-ушляк и бахни в обком. Принципиальный обком этого дела так не оставил. Снял Витюшу с повышением! Из нашего района пересадил его в рейстаг другого района. Покрупней. Побогаче. Партия своих сыночков не топит!.. Так бы и купался Витюня в бриллиантах… Да, на беду, Ельцин ухватил власть. Витюня тут и пал. Повесился у себя в бунгале, как уверяют, на лампочке дорогого товарища Ильича… На проводке… Никто не помогал… Сам дотумкал… Мда-а… В каждом дурдоме свои сумасшедшие… Витяни уже нетушки, а он, – женщина кивнула в окно на памятник вождю, – всё торчит с гордо протянутой рукой, облитый краской. Чего выжидает? Падёт Союз… И кого винить? Дым без огня не живёт. И тянется этот дымок из огня двадцатых. Россия, Украина, Закавказье, Срединная Азия – везде в гражданской войне на штыках да на крови скидывали до кучи Союз. А что удержится на крови? Семьдесят три года проскрипели в муках… Рухнет такая держава… И кто первей всех виноват? Не он ли? – ткнула на Ленина пальцем. – Разве на крови да на штыках жизнь замешивается? А не он ли на крови подымал Союз? И смахнут все вождёвы памятники. А на оставшиеся из-под Ленина постаменты чего не нашлёпнуть памятники репрессированным? Репрессии – ленинский кнут. Разве репрессии проросли не из ленинской нереальной жестокости?
Я всё же раскопал одну янгицу из жилищной шарашки. Лариса Глебова. С розово-красными височками. Мода такая. Верх щёк красить. Вроде намёк: у нас и мысли все розовые, да и те не все дома. Вообще никого нет на фазенде!
Я спросил, почему за год очередь не продвинулась ни на одного человека.
– А мы ничего не сдали. Заложили фундамент на семнадцать квартир. Блочный. Может, к следующему августу поспеет…
– А я боюсь, к той поре и в нашем шале[255] может кто-нибудь поспеть. Восемьдесят один год не восемнадцать лет. Неужели новоселье только на том свете коммунисты гарантируют?
Лариса розово улыбнулась.
6 сентября 1991
Крик в ночи
В шесть я прискакал из райисполкома.
Гриши не было.
Как так?
Я на маслозавод. В компрессорную. К Максимычу, кого Гриша сменит по графику в восемь вечера. Сразу с вопросом:
– Вы не слышали, Васёк уехал к Грише за картошкой? Должен был в пять приехать!
– Эв-ва! С каким дерьмом связался отец Григорио! Да твой Васёка этот Ковалёв уже твёрдо наконвертировался!
– Чуть поясней…
– Сразу видать, несельский ты жилок… Водка в селе – конвертируемая валюта. За водку тебе что хошь сделают. Хоть картошку привезут, хоть голову срежут, хоть чужую приставют! Даве наконвертировался этот пиянист и враскачку еле уполз к себе в кривой соломенный недоскрёб.
– Не может быть! Он позавчера привозил нам картошку. Давайте посмотрим, тут ли его машина 21 – 87 ВВ.
Обрыскали весь заводской двор – нету.
Значит, всё-таки уехал!
В состоянии готовальни!!!
С неспокойным сердцем побежал я по Нижнедевицку.
Думал их встретить.
А нарвался на весёлую семейку Дмитрия, старшего брата. Он с женой Лидией, с дочкой Еленой и с её сынишкой в коляске возвращались из магазина.
Молча проскочить мимо неудобно. Скажут, бегает, как бес от грома. И я не стал их обегать, взял и покатил коляску.
Пока везла мамхен Ленушка, парень сидел на улыбках ровно.
А как я повёз, склонил головку.
– Леонид Юрьевич! – заглянул я парню в кисловатое лицо. – Что, стариковская усыпила езда?
Дома Ленка стала кипятить ему молоко.
Плеснула чуток в кастрюльку и на газ.
– Бог даёт! Бог даёт! – запричитала она, увидев, как сердито подымался в кастрюльке белый шатёр.
Глазами плясуля аврально искала тряпку и не находила.
А когда подлетела с тряпкой снять, шатёр выбило на плиту.
И Ленушка разогорчённо проронила:
– Боженька дал. Боженька и взял… Обнулил…
Пока тары-бары на три пары – уже девять.
Я на стреле домой.
Григория – нету!
Маточка моя! Это беда!
Я переоделся в фуфайку, в старые Гришины штаны.
Натягиваю мамины резиновые сапоги.
Мама причитает:
– Та Толька!.. Та сынок!.. Та куда ты ото у ночь побежишь?! Шо ты в том поле зараз знайдэшь?
– Он мне брат и Вам сын или слепой лишний щенок, которого Вы собираетесь утопить? – рявкнул я. – С пьянчугой усвистал! Сырые бугры… Может, навернулись! Валяются где в овраге. А Вы – ночь! Дождь! Оё!..
Не знаю, зачем я сунул в карман ножичек с палец и на завод. Сейчас как раз везут молоко с ферм. С какой попуткой и увеюсь.
И я умчался на молоковозе с першинским шофёром Мацневым.
Подъезжаем к Разброду.
Я сказал, как ехать к нашей делянке, и он поехал.
Я боялся, что мы не доедем.
На удивление, сырь нас нигде не усадила.
Одно дело день, другое дело ночь.
Как ты на убранном поле сыщешь свой клин?
Летели мы наугад и всё же не промахнулись.
Выскочил я из кабинки. Ладони рупором ко рту:
– Гри-иша!.. Гри-и-иша!!.. Гри-и-и-и-иша!!!..
Никакого ответа.
Только обломный чёрный ветер валил с ног.
Мол, кончай орать!
Рядом с нашим огородом кисла деляночка плохо скошенного овса. Осыпался овёс. Пророс.
Поднялся редкой белой полоской.
Овёс утвердил меня в мысли, что я на своём клину. И стал я вскидывать ботву… И нашёл. Вот пять мешков с картошкой! Мы с Гришей собирали!
Я и заплакал, и засмеялся.
Живой Гриша! Живой!! Живой!!!
Этот стакановец Васёка не приехал!
И развеликое спасибушко!
– Иван Николав! – подбежал я к шофёру. – Милушка! Роднулечка! Золотко! Тут всегошеньки-то пяток мешков! Ну давайте заберём и вся комедь!
– Да нет. Комедия отменяется. Ну молоковозка! Куда я суну мешки? Бортов нету. В цистерну насыпом?
– Ну в прошлом годе привозили точно на такой молоканке. Десять привозили! Ну! По бокам привязывали!
– Как вы там возили, я не видел…
Этому гофрированному вавуле[256] интересней му-му валять. Неохота отрывать свой худой банкомат от тёплого сиденья. Ну и хрен с тобой!
Главное, Гриша цел, невредим и готов к новым боям-баталиям!
Мы выскочили на асфальт и горшок об горшок.
Мацнев дунул к себе в Першино.
Я пожёг в противоположную сторону.
По пути забежал на завод.
Гриши не было.
Максимыч стоял за него вторую смену подряд.
– Так Григория вы видели?
– Да. Договорились. Я его ночь отстою. Он завтра погасит должок. Примерно часов в пять уехал на молоканке.
Я подхожу к нашему вигваму.
Два красных огня. Молоковозка. Поверху между цистерной и поручнями громоздятся горушками мешки.
Какой-то мужик с машины помогает Грише усадить мешок на горб.
– Здравствуйте, что ли! – в радости крикнул я.
– Здоровьица вам!
По голосу я узнал Алексея Даниловича Вострикова.
Душа человек!
Мы вечеряли в два ночи.
Гриша кипел гневом.
– Вот Востриков! До пенсии докувыркался! А с водярой незнаком! А Ковалёв, эта косопузая шаламань, как проснулся, одна сила выворачивает его наизнанку. Где кирнуть? Как рухнуть в запой? И шуршит[257] до первой бутылки. Как дорвался – песец! Трудовой день окончен! Пошла драка с унитазом, ригалетто…[258] Я ж с ним по-людски договаривался… Значит, перехватили. Кто-то раньше поднёс… Тупой, как веник… Не водись на свете водка, он бы и на работу не ходил. Этому мало по заднице настучать. Будь моя воля, я б дал шороху. Такие бухачи гнут всю Россию. Их надо выстраивать и отстреливать через одного. Потом выстроить, кто остался, и снова стрелять. Пока ни одного не останется. Иначе пьяная Русь сама падёт-сгинет.
6 сентября 1991
Слушай сюда. Я тебе устно скажу
Утром мама внесла с огорода помидорную веточку.
– Не попадэшь, шо оно и творится… Там иля где морозяка учесал?.. Холодюга!.. Ой-оеньки… То листья на помидорах висели. А то стоять дыбарём. Як коляки! На, глянь.
Я взял веточку. Стылые закаменелые листья как-то оцепенело топорщились в стороны.
– Насунуло кругом. Должно, дождь возьмётся навспрашки полоскать, – добавила мама тихо, боясь разбудить на полу Гришу. – Спыть наш герой-генерал. Хай поспыть…
– Хай! Хай! – подал голос Гриша. – Все дни как конь занузданный… Будто штамп на лбу: паши, паши, паши, саврасушка! А сегодня я барин. Хочу, полежу хоть час, хоть до ночной смены и ни одна бяка в меня пальцем не шильнёт!
Мама грустно постояла у окна на кухне, потом вошла в комнату к Грише, откинула занавеску. Усмехнулась:
– О дела! В соседнем дворе бабка с дедом разодрались… Иль печку на зиму делят?.. Да-а… К снегу едем… В одном окне сонце. В другом дождь схватился с крупой хлобыстать… Листьё на дереве не держится… Летит… Листопадник последний гриб растит… Да… Ненастное бабье лето – погожая осень будэ. Сонце щэ погреет…
– В сентябре? Говорят, трудолюбцы япошики сажнем точно измерили Солнце. Его диаметр 1392020 километров. Диаметр Земли – 12757 километров. Солнце в 110 раз больше Земли. А толком согревает Землю только летом…
Скорбная моя статистика припечалила-таки маму, и она, вздохнув, тихонько побрела в сенцы к газовой плите.
Гриша игриво поманил меня к себе пальцем:
– Слушай, пане, сюда, что я тебе устно скажу… А ловко мы… Разными дорожками скакали с тобой вчера ночью. Вы с Мацневым покатили с огорода вниз. А мы с Востриком подъезжали сверху. Видели ваш хвост… Всё до картошеньки в погребе! Ай да мы! Ай да мы! Налетел холод уже утром. И что нам с того? Никакие морозы нам теперь не указ. Наша барынька Картошечка с комфортом переехала на зимнее житие в погреб!!! В свои царские покои… Могу я до самой смены спать?
– Можешь.
7 сентября 1991
Батько
В полночь позвонил старший брат Дмитрий.
– Толик! Приезжай. С матерью плохо.
– У меня сыну нет месяца. Сейчас он с Галей в больнице.
Но я приеду.
Галинка выставила условие:
– Ехать всю ночь. Отпускаю в том случае, если возьмёшь в вагоне постель.
– За двадцать пять? Когда-то ж стоила рублёху всего… За двадцать пять я хорошо высплюсь на откидном столике. Кепку под умнявую головку и дави хорька…[259]
Постель стоила двенадцать. Я немного поколебался. Пожалел себя и взял.
Уже в Воронеже в аптеке у вокзала купил ундевида, аминалона. Всё не с пустыми руками…
Я вошёл.
Мамина койка в прихожей у печки пуста.
Гриша в своей комнате торчит растерянным столбом.
– Привет, начальник, – вяло промямлил я.
Мы молча обнялись.
– Где мама?
– В больнице… Только что я оттуда. Положили. Надо своё полотенце, свою ложку, свою миску, свою кружку, свой стакан. Сейчас понесём.
– Как она себя чувствует?
– Туго… И как получилось… В пятницу встала весёлая. Говорит, будем суп-воду готовить. Начала резать лук. Я побежал, – он посмотрел в окно на сарай напротив, – я побежал в куриный кабинет подкормить кур. Прихожу. Она расшибленно крутится вокруг себя, опало бормочет: «Как же так оно получилось, что пропала память?..» Я спрашиваю: что Вы ищете? Оказывается, нож. Уронила. И пальцем стучит по луковице. Режет пальцем… Я испугался. Уложил её и позвал соседку Шурочку. Она медсестра. «Шур, иди на секунду. Посмотри на мать». – «Или лечить я стану?» – «Лечить не надо. Ты просто войди. Как она среагирует на постороннего человека?» Шура вошла. Мама забеспокоилась. На локте привстала на койке: «Вы что хотите со мной делать?» – «Да ничего мы с тобой, бабушка, не собираемся делать… Брёвна раскатились. Прибегла Гришу дозвать, чтоб собрать помог». Шура ушла. Я вызвал скорую. Скорая сказала, надо на приём к невропатологу. А уже ночь. Мама молчит. А вдруг что случится? Ты всегда наказывал: звони в тяжёлых случаях. Как знаешь, телефона у меня нет. Я к Мите. Митя и позвони тебе. А когда он пришёл, мама его не узнала. Минут десять не узнавала. Оно и неново. Хоть Митя в своих хоромах и живёт-княжит в ста шагах от нас, а к нам редко заскакивает… В субботу невропатолога не было. Вызвали в Острянку. В понедельник собираемся в поликлинику. Вон, – ткнул он рукой в окошко, – на наших задах. Говорю, давай отвезу. Нет! Пошли пешком! Я упросил очередь разрешить пройти нам сразу. Так мама упирается: «Не! Люди прийшли под перёд нас. Да як это мы пойдём зараньше всех?» Вот какая у нас мамушка. В очередь! А сама на ногах еле держится. Ей же уже восемьдесят два! Врач Белозёрцев увидал её – кладём!
Бочком мы вжались к маме в тесную четыреста четырнадцатую палату. Её койка у двери.
Меня мама узнала сразу.
Я поклонился, поцеловал её.
И мама загоревала:
– Толенька, сынок-розочка, приихав… А я барыней царюю в больнице! Это дела? Така беда скрутилась, така беда… Ну шо поделаешь? Беда на всякого живёт… Толька, ты теперь батько?
– Батько? – не сразу сообразил я.
– Ну что ж он, маленький, робэ? Ростэ хоть чуть-чуть?
– Баклуши не сбивает! Некогда! Знай растёт колокольчик наш с шелковистыми русыми волосами!
– Хай ростэ великим! Хороше вы его назвали… Гриша…
– В честь этого дорогого товарисча, – пожал я Грише локоть. – Мы своего маленького ещё ни разу не снимали на карточку. Поэтому я привёз показать Вам метрику нашего Гришика. Нате посмотрите.
Мама тихонько погладила метрику. Прошептала:
– Хай ростэ великим!..
Мы стали выкладывать, что принесли, и выбежало, мы с Гришей забыли взять кружку и миску.
Я сбегал принёс.
– Гриша, – сказала мама, – не сидите голодняком. Зарубайте петуха.
– Сегодня же отсобачу Вашему петрунчику башню! – на вспыхе пламенно пальнул Григорий.
А мама, вздохнув, запечалилась:
– Как же так беда случилась?.. Человек полный день невменяемый!
Потом она заговорила неясно.
Слова вязкие, непонятные.
Я поддакивал и боялся смотреть ей в лицо.
Дома мы с Гришей сварили петуха.
Банку с горячим бульоном я укутал в полотенце, сунул под полу плаща – шёл дождь – и побежал к маме.
Есть она не стала. Говорит, не хочется.
– Мам, – спросил я осторожно, – а что у Вас болит?
– Голова. Одна сторона, левая, молчит. А другая, – приложила руку к правому виску, – лаеться…
Я по все дни ходил к маме, пока её не выписали из больницы.
Июнь-июль 1992
Банда
– Взовсим, сынок, дни утеряла. Ну раз головешка, – пальцем мама стучит себя по лбу, – не робэ! Сёгодни шо будэ?
– Четверг.
– Совсем в словах запутлялась… И в словах, и в годах… Воспоминается… Горбачёв людей размотал. А теперь кочуе по заграничью… Какие мы у них рабы… Той проклятущий чай… Вскакувалы летом вдосвита у четыре и в устали приползали домой не знай когда. Когда того погибельного, каторжанского чая уже не видать. В одиннадцатом часу ночи! И… Тилько первый свет подал день в окно, знову вскакуй…
– Помню, помню преотлично то проклятое рабское времечко… – припечалился я. – Как же Вы допекали по воскресеньям… Темь на дворе. А Вы будите… Да как! Вырывали подушку из-под головы, молили со слезами в голосе: «Уставай, сынок… То не сон, як шапку в головах шукають…». Я сел на койке, протираю кулаками глаза. Вы: «Просыпайся скоришь. На выходной бригадир припас гарный участок. Постараемось, нарвэмо богато чаю. Шо, гляди, и заробымо…». – «Ну… Вырвали подушку… Шапку-то нашли?» – «Найшла! Просыпайся, просыпайся, шапочка… Лева ножка, права ножка просыпайся понемножку…».
Мама повинно тихонько улыбнулась мне:
– Прости, сыно, за те давни проклятущи утрешни побудки…
– Да при чём тут Вы!? То не Вы, мам… То нищета будила!
– Оно-то так… По семнадцать часов у кажный день гнулись раком на том проклятом чаю! Без выходных… Жара под сорок… То дожди… Все твои… С плантации не уйди… Клеёнкой обмоталась и рви той чай… Разве то жизня? Рабская каторга… На минуту с чем в хате завозюкаешься – бригадир бах палкой в окно: Полиа! Аба бэгом на чай!.. Цэ людская живуха? То и пожили по-людски, шо до колхоза… Летять года… Летять… Не остановишь и на секунд. Ну это надо? Налетела целая чёрная шайка коршунов. Восемь десятков да ещё два! Целая банда. И как же они меня мучат. И шо я одна-то сделаю с этой злой бандой? От своих годов не убежишь… Их не отгонишь от себя… Снежком не прикроешь… Боюсь я их. Голова не свалилась бы… Мно-ого годов ко мне содвинулось. Но никто не видел, как они днями и ночами шли-летели ко мне… Только мелькают зима – лето, зима – лето…
– А поют, мои года – моё богатство.
– Да петь шо хошь можно. А года – это полный разор. И чем большь их, тем звероватей они. Ну шо ж… Старое вянет, молодое на подходе… У маленького малютки Гриши личико худенькое или полненькое?
– По-олненькое.
– Молочко пье живое? А не то, шо с завода? Гнатое-перегнатое?[260]
– Со своим молочком не получилось… Тут история темноватая… Рожала Галинка в первомайские праздники. Роддомовские коновальцы с перепою сразу запретили кормить грудью. А потом выяснилось, напрасно запретили. Да поздно уже было. Молоко пропало… Вот она наша бесценная бесплатная медицина… Тот-то мы и кормим парня смесью Nan.
– Это той, в банках? Как молоко или чуть получше? Ребёнку плохэ не дадуть… Он у вас в кроватке спит? А как подрастёт, где будэ спать?
– Кроватку растянем.
– Ещё не бегает?
– Тренируется.
– Не ленится расти?
– Да вроде старается…
– Хай с Богом ростэ. И подальше туда. Подальше от моих годов…
– Он у нас крепенькой.
– Цэ самое главное. Здоровье – всё золото наше! Здоровье никто нигде не подаст за твои же денежки. Здоровьюшко не украдёшь, не найдёшь и не купишь.
27 августа 1992







