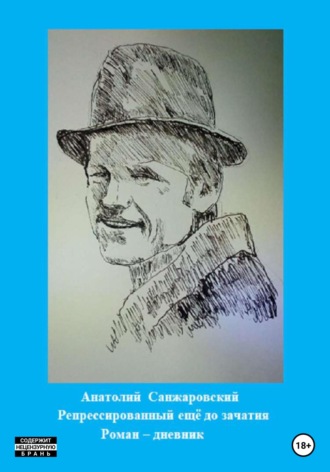
Анатолий Никифорович Санжаровский
Репрессированный ещё до зачатия
Бабка канючит с платформы:
– Детки… Вы ж пожмитесь… Молодые…
Хмельной мужик:
– Граждане! Подвиньтесь на полчеловечка. Пускай милиционер войдёт.
Створки сохлопнулись. Из щели между ними торчит рука милицейская и пол-лычки.
Двери открылись. К первому вагону снова вальнулась толпа. Волосатый мужик просит машинисточку:
– Пусти к себе, любушка ах и голубушка ух!
– Пусти одного… Всё стадо тут будет!
Поезд тихонько трогается.
Одной рукой я держусь за поручень. Вежливо бегу рядом.
Мне кричат:
– Брось, шальной!
Машинистка ловит меня за полу пальто – одной ногой я стою уже на её территории.
– Ну вот, – улыбается она. – Входи, входи, бледненький. Это из-за тебя пришлось второй раз открывать двери?
– Из-за лычки.
Она внимательно посмотрела на платформу и впустила меня из своей кабины в головной вагон.
В Бусинове мело.
Было холодно. Я бежал. Ветер подхалимно поталкивал меня в спину.
На заледенелой горке я поплыл. И тут же боком поплыл на меня грузовик. Колёса не крутятся, а махина надвигается на меня. Я прыгнул в канаву. Еле уцелел.
На мостике я нагнал пьяную дебелую старуху. Пальто полурасстёгнуто, волосы выбились из-под платка.
Ударит ветер в спину – пробежит чуток. Ветер стих – на месте замерла старуха. Стоит ждёт толчка ветра. Самой ей и шагу не сделать.
Но в пенье ей помощи от ветра не надо.
– Г-улял по Уралу к-казак молодой…
– Да не казак молодой, – поправляю её, – а Чапаев-герой!
Старуха обрадовалась подсказке и схватила меня за рукав:
– Из школы, сынок! Ой и дура же я?.. Ну скаж-жи…
– Вам видней.
– Сестра дала одну стопку, другую… Я и зареви на неё тигрюхой: «Что ты напёрстком дражнишь?» – И хлоп водяру[96] в гранёный. Надралась… А ведь никогда не пила…
Она крепко держится за мой локоть и просит довести её до церкви.
– Ты чейный будешь?
– Я ничейный.
– Ой же ж и хор-рошо! Поплыли ко мне… Что я буровлю? Ты и вправдешке ничей?
– Инкубаторский я.
– Ну айдаюшки ко мнешке в инкубатор! У меня ой же и тепло-о…
Мы вместе дошли до анохинского сераля. Дальше старуха, пошатываясь, побрела одна.
Я вхожу в наш чум. Щёлкнул выключателем – света нет. Наверно, ветер оборвал провода.
– Тут живой кто-нибудь есть? – спрашиваю я темноту коридора. – Отвечайте! Боитесь? Ну не бойтесь. Я сам боюсь!
Хочется есть.
С выступа над хлипкой коридорной дверкой – там мой холодильник – ощупью натыкаюсь на две варёные картофелины со вчера, хлеб в целлофановом мешочке и кусок селёдки. Есть чем отужинать.
Пошарил вправо от своего холодильника – наткнулся на военную фуражку на гвоздке. Летом один солдат стоял у Анохина. За неуплату отдал с головы фуражку.
Я быстренько умял картошку с селёдкой и завалился спать. Под одеялом всё же теплей.
Не успел я заснуть, дали свет.
Я вскочил, намешал в железной миске с ушками блинов, напёк на электроплитке.
Блины со сметаной согрели меня, и я вспомнил, что мне бы не мешало заняться стиркой.
Я притащил бидон воды из колонки.
Влил кастрюльки три в чистое ведро, нагрел на электроплитке и уже в горячую воду плеснул «друга» (моющее средство). Простирнул белье в горячей воде, потом пополоскал в холодной и развесил всё своё приданое сушиться где придётся. Трико накрутил на трубу, пододеяльник повесил на спинки двух стульев. Примерещилось мне почему-то, что на стульях стоит гроб и его прикрыли белым. Простыню я раскинул по этажерке, а наволочку для подушки определил на зелёный металлический абажур настольной лампы на приёмнике. Лампа включена. Наволочка быстро сохнет.
Дело сделано. Можно и передохнуть.
Я включил приёмник. Шла опера Моцарта «Свадьба Фигаро». Включаю на всю. Чтобы праздничного Моцарта слышали все. Даже мыши под полом. Слушайте и плачьте от радости приобщения к великой музыке!
Я не заметил, как меня понесло подирижировать. Не знаю, откуда у меня взялся в одной руке бледно-розовый пакет с блинной мукой, а в другой – чашка, из которой я пью чай.
Музыка нарастала, надвигалась лавиной, сминающей всё…
Руки затрепетали над головой. Утверждение торжества могущества, красоты!
На последнем высоком аккорде пакет выпорхнул у меня из руки и полетел вверх, ударился о потолок, лопнул и рассыпался мучной пылью по всей комнате.
Опера кончилась.
Слышу, кто-то вошёл.
Оглядываюсь – загазованный Николай Григорьевич, покачиваясь, трудно поднимает два пальца и делает широкий шест с поклоном:
– Здоровэньки булы! Ч-что здесь д-дают? Аустерлиц? Сталинград? Курскую дугу?
– Моцарта! – выкрикиваю я.
– Хорошо! Сегодня Фигаро здесь, – показал он рукой на диван и подался к нему всем корпусом, а завтра – там, – ткнул пальцем в пол. – А ты тут валяешь дурака?
– Предпочитаю валять дурочку.
– Я хотел сейчас свалить свою, а она меня под ручки и айнс, цвай, драй – за дверь. Цоб-цобе! Не дозволила сбросить давление. Говорит, иди пробздись! Ох же с солькой у меня масштабиха![97] А ка-ак я хотел вертухнуться. Не вышло! Ну да ладно. Всё это пустота, схоластика. Во-от же скотобаза… Я фальстаф, обманутый, Толя, муж. По девять месяцев она где-то в Химках каталась на радостных каруселях. С кем? А я перебивался всякой падалью. Потом подлезла… Развелись… Четыре года как я развёлся. А вон какая каруселя. Накануне получки такая добрейка… Накормит. Спать уложит. По-всякски перед тобой вертится. И так, и через эдак. Везде Анохин достанет. Со всех фалангов. А вот сегодня желал. Хотел её вдоль по Питерской. Не дала. Получка нескоро. Я не верю этим крестоносицам. Не будет сегодня малёвки…. Да не в этот методика. Всё это туфта.
– А в чём нетуфта?
– Заниматься трепачевским не хочу. Прожил 53 года. Пытаюсь понять и никак не пойму, что за сила в женщинах. Женщина убивает мужчину влётку одним взглядом!
– А мужчина её одним ударом?
– Я не дерусь. Мужчина не может так сильно на неё влиять. Вот в чём разница между мужчиной и женщиной. Вот в чём вопрос.
– Вы её любите?.. Чего молчите? Так живите!
– Она требует: брось пить. – Анохин покаянно усмехнулся. – А я рака боюсь. Я пью, чтоб не было рака желудка. Это так… Резюме. Вроде комплимента себе. Оттедева – отседева, как говорит один у нас в мастерской. Когда я переходил в сельское министерство, мне устроили экзамен. «Водку пьёшь?» – «Нет». – «Четыреста грамм без отрыва от горлышка можешь?» – «Где же водка? Бесконечно могу пить, глядя за чей счёт».
Он помолчал и продолжал:
– Я дам тебе тему. А ты напиши. Капитал на двоих. Мне платишь по рублю за строчку.
– Давайте тему.
– Завтра Сергей с левого берега приглашает меня на свадьбу. На Любке женится. Девка-плотняжь! Студентка института культуры. Есть на что глянуть. А он до армии в девятнадцать лет чуть не женился на горбунье. Жил с матерью. Одна комната. Комнату перегородили шкафом и взяли на постой двух студентушек. Одна, Аня, горбатая. Поиграли разок в буёк.[98] Она – у, какой вертушок под ним! Понравилось. Жениться! И конец! Жил с нею у меня. Оттартали заявку в загс. Вот завтра расписка. Знакомка его матери спрятала его паспорт. Какой ёперный театр открылся! Лезвием Аня порезала себе вену. Спускала кровь в тёплую воду. В таз. Позвали мильта. Он только ручки раскинул: «Горбунья! А бесится!» Полежала Аня три дня и уехала к себе в Курск. Писала Серёге, что там её любят. Сергей столяр. Уже отсолдапёрил армию. Всё! Я сливаюсь с палубы!
Николай Григорьевич устало повалился на свой жёлтый потёртый диван.
Раньше этот диван служил в министерстве. Потом Николай Григорьевич перевёз его сюда. Диван прожжён в нескольких местах папиросой. У изголовья с гвоздя свисают по стене выгоревшие анохинские брюки.
Уже через минуту Николай Григорьевич угрозливо захрапел.
– Эту песню прекратить! – шумнул я с напускной сердитостью.
Николай Григорьевич извинительно улыбнулся и затих.
Мы с ним жительствуем в одной тесной келье. Размером она примерно метров пять на четыре. Между анохинским диваном и моей койкой вжат маленький столик. У этажерки, у кровати – книги мои на полу. Стул у меня служит вешалкой. На спинке его собрано всё, что я ношу. Два пиджака, брюки, свитер, три рубашки. За этажеркой на полу два бумажных пакета с картошкой, кулёк с луком, сетка с морковкой. За спинкой койки, на гвозде в стене, – выходной чёрный костюм и нейлоновая рубашка. Мама подарила.
Под койкой стоит электроплитка. На ней я всё себе варю, жарю.
Почти во всю стену шишкинская картина «Рожь». Копировал сам Николай Григорьевич. Засыпая, я всегда последней вижу эту картину.
Вот и весь мой обычный день.
Сколько таких в жизни?
Все!
У стаканохватов
Анохинские холода допекли. Полетел я на Банный, 13. Здесь толкутся те, кому надо снять, сдать, обменять жильё.
Ищу, к кому бы пристроиться на коечку в добротном доме. Чтобы в новую зиму не мёрзнуть.
Одна тётечка взялась меня приютить.
Еду с нею в Красногорск.
Новая башня. Капитальная.
Подымаемся в лифте на девятый этаж.
Входим.
И настроение у меня покатилось к нулю.
Жуткая алкашная семейка!
Отец, мать, дочь, зять – все стаканохваты.
Папанька уже отхватался.
В состоянии готовальни[99] полез ночью гулять на пруду по первому зыбкому льду. Был один. Провалился, вмёрз в лёд. Три дня провёл на свежем воздухе в пруду. Вмёрз крепонько, еле вырвали у льда.
Мать молчит.
19-летняя дочка с малышкой на руках жалуется:
– Муж у меня бык с задвигами. Если спросишь, с чего он начинает день, отбомбит коротко: «С безделья!» Всего-то и забот – керосинит да давит подушку.[100] Дольше трёх месяцев нигде не задерживался на работе. Вечно сыпит лапшу! Свои частые прогулы объяснял начальству только похоронами родни. Он три раза похоронил мать, восемь раз отца и двенадцать раз меня, жену. Мы с ним не расписаны. Ты не пугайся… Если надо, – смотрит на дочку, – я её покормлю и она у меня надолго отрубается. Мешать нам не будет…
И тут она наливает в бутылочку вина, надевает на бутылочку соску и «кормит». При этом пританцовывает и поёт, гонит веселуху:
– Мы смело в бой пойдём
На суп с картошкой
И повара убьём
Столовой ложкой.
Я плюнул и ушёл.
25 марта
Полёты китайской грамоты
Эта забавка спеклась в те дни, когда наши отношения с Китаем были как ни досадно далеко не сладкие.
Тассовские аппараты в китайском посольстве были отключены.
А в посольство надо было передать важную бумагу.
И поручили это сделать обозревателю ТАСС Николаю Железнову. Молодому провористому кряжику.
Поехал важный Коляк в посольство – дальше проходной не пускают и послание не принимают.
Что делать?
Отошёл Коля от проходной метра два и, уныло-философски глядя в сторону, небрежно так, тайком метнул через плечо за забор пакет.
Тут же через тот же поименованный забор тот же пакет прибыл назад, ответно посланный уже каким-нибудь бдительным Ху Дзыньдзыньдзынем, и жабой плюхнулся у Колиных ножек.
Но Коля из тех, кто не допускает, чтобушки кто-то его обошёл.
Коля негордый. Нагнулся.
Взял пакет за уголок и швырнул ещё сильней…
И летал пакетино белой загнанной птичкой туда-сюда, туда-сюда…
Минут десять летал.
Уже выработался ритм. На полёт пакета за забор и из-за забора нужно всего четыре секунды.
И Коля подразинул рот, когда пакет не уложился в четыре секунды.
Нет уже пять…
Нет уже шесть…
Коля в спешке запахнул рот и пошёл-побежал прочь.
И не знает Коля, приняли ли китайцы пакет, или пакет заблудился где, когда летел на чужую территорию через суровый забор московский.
14 апреля
Кто мы
В конференц-зале я был на встрече с Генеральным директором ТАСС Лапиным. Говорил Сергей Георгиевич об информации.
– Разовый тираж газет 138 миллионов экземпляров, журналов – 120 миллионов. Вот наша аудитория. За рубежом у ТАСС сто отделений. В ТАСС работает около двух тысяч профессионалов. Нет определения информации, которое было бы утверждено… Это война слов. Правдивая информация не самоцель, а средство достижения цели. К сожалению, не обходится без казусов. Мы выдали речь Сергея Михалкова на пленуме детских писателей. А выступление перенесли. Сообщили об этом газетам. Однако «Московская правда» всё-таки напечатала речь до её произнесения. Или такое. Звонит мне Промыслов[101] и говорит: «По «Правде», сессия Моссовета закончилась, а мы её и не начинали». А информация в «Правде» – то наша.
Сказал Лапин и о «большом Дубчеке» Михалкове:
– Если воспитывает Михалков, то уцепится за пуговицу вашего пальто и будет крутить до тех пор, пока не открутит.
12 июня
Шашлык для генералитета
Сегодня открылась какая-то армянская выставка на ВДНХ.
По этому случаю устраивался обед.
Бузулук на правах почти хозяина – ВДНХ – его объект-вотчина – захватил почётное место для Колесова.
Раздавали шашлыки. Бузулук цапнул аж две шпаги.
Сглотнул он свой шашлык, а хоря[102] всё нет. Задерживался пан Колёскин!
Подвыпившие гости стали нападать на Бузулука. Хотели его обезоружить, конфисковать у него начальничью шпагу с мясом, поскольку нечем стало заедать армянский коньяк.
– Не отнимайте, клизмоиды![103] Вы что! Это шашлык для генералитета!
Еле отмахался шпагой с мясом для начальства.
С этим шашлыком на подносе Олег выбежал к воротам Выставки встречать своего патрона.
По словам Олега, Колесов схомячил шашлык по пути, придя к столу лишь с одной голой масляной шпажкой.
Надурняк Олег решил подкормить Новикова. Позвонил ему. Владимир Ильич прихватил с собой и голодный желудок Надежды Константиновны, ой, пардонушко, Лидии Ивановны. В минуты они уже бежали по Выставке. Но Владимиру Ильичу и его верной спутнице не повезло. Досталось им лишь по одной синеглазой котлетке.
Лидушка пошла к замминистра Армении и жалконько заныла:
– Подайте, пожалуйста, несколько яблочков для голодающего Поволжья…
– Если так – берите!
Она сгоряча и явно по ошибке вместо одного яблочка цапнула всю полную яблок вазу.
Дали пальчик, отхватила руку.
С обеда на халтай все вернулись довольные и пьяные. Не надо идти в столовую!
Подобревший с сытного армянского стола Колесов даже ответил на мое приветствие:
– Здравствуй, Анатолий!
И заулыбался, обнажив стальной рот.
Увидев меня, Николай Григорий трудно поднимает над головой указательный палец:
– Вот скотобаз-за!..
– А точнее?
– Никифырч! Без трепачевского… Дура эта Лидка… Купила диплом масштаба в войну за шматок сала… Эта хохлушка… Стараюсь для неё же… Я ж кенгуру, тащу в сумке всё домой! В субботу сбегал в ГУМ…
– На Красной площади?
– На Красной… На Зелёной… За Бусиновом! Свалку мы так называем. В нашем ГУМе больше товару, чем на Красной! Рылся целый день. Принёс двенадцать пар туфель. Тамарке одни такие хорошие отдал… Обул… Вчера с Володькой десять пар отнёс на Преображенский рынок. Продали по вшивику за пару. Купил себе брюки за три рэ, рубашку за полтора. Володьке купил часы за три. А ей – я не забываю про дамские нагрузки – большой кочан капусты! И недовольна! Натравляет на меня ребят. Володька ей стеганул: «Я б с таким мужем, как папка, не жил». Хотел по шее ему съездить, да сдержался. Учит, как жить. Ну… Выпил… Так не на мозолистые ж вшивики… На гумовские…
28 июля
Стахановцы
Доброму почину – крепкие крылья!
Под таким девизом трудятся в поте лица доблестные стахановцы РПЭИ.
Воодушевлённый примером орденоносного Бузулука сегодня разродился сыном и Петрухин.
Под вечер он принёс две бутылки.
Наша редакция фестивалит.
Хором запела:
– Петрухин Саша – гордость наша!
Прыткий
Звонили от Миля, генерального конструктора вертолётов. Просили взять готовую заметку.
Я сказал об этом Медведеву, зажав микрофон ладонью.
Он кивнул:
– Благословляю в добрый путь!
И Татьяна не забыла подсуетиться с советом:
– Не надо ссориться с Милем.
Я заартачился и ответил в трубку милевскому заму Ремизову:
– У нас некому ехать.
– Тогда я отдам материал «Красной звезде». Рвут!
– Вам же хуже! Вы не учли одного. «Красная» напечатает, а другие газеты не станут. Мы же даём сразу всем газетам.
Ремизов сам привёз информашку «Рекорды в небе».
У Аккуратовой глаза по семь копеек. Шары на лбу.
Медведев доволен моей прытью. И разметил мне редактирование заметки.
Я покружил красным карандашом в уголке листка – срочно! – и в машбюро.
– Опять ты красным уляпал заметку? – выговаривают там мне. – Мы не индюшки. Что ты нас дразнишь? Придёт время и так отпечатаем! И без красных пометок по сорок раз перепечатываем вашу бессмертную классику!
– Не всё потеряно. За сороковым идёт сорок первый.
– Мы скажем, чтоб не давали вам красный карандаш.
– Я куплю новый. Вот тогда была беда, если б вы в Совете Министров потребовали прекратить выпуск красных карандашей.
– Мы управимся и без твоего Совета Министров.
И действительно…
Через несколько минут Тамара, жена Медведева, принесла ему вне графика яблоко. Обычно она приносила яблоко в конце трудового дня. Мол, заработал – получи. А тут… Ещё утро.
Возвращаясь, она остановилась у моего стола и игриво спросила:
– Ты назовёшь по памяти все цвета радуги по порядку?
– Н-нет, – растерянно промямлил я.
– Так слушай. Внимательно слушай! Маленький ликбез… К(красный)аждый О(оранжевый)хотник Ж(жёлтый)елает З(зелёный)нать, Г(голубой)де С(синий)идит Ф(фиолетовый)азан. Первая буква каждого слова в прибаске начинает название цвета. Как ловко придумано!
Мы посмеялись и расстались.
После её ухода со мной тайно расстался и мой красный карандаш. Я и не заметил, как Тамарушка его увела.
Пришлось покупать новый.
13 августа
Колесов
С задания возвращаюсь в контору трамваем. Взял билет. 743158. Счастливый!
Неужто что-то и прибудет от этого счастья?
Последние месяцы я хлопочу о выделении мне комнаты за выездом. Моё заявление в Ленинградский райисполком подписали заместитель Генерального директора ТАСС Постников и заместитель председателя месткома ТАСС Шабанов.
В коридоре наткнулся на Шабанова.
Он печально мне улыбнулся:
– А комнатка-то ваша сгорела?
– Райисполком спалил?
– Если бы…
– Кто подставил ножку?
– Ваше низовое начальство. Серов… Колесов…
Я в редакцию международных связей. К Серову.
– Володь! Это что же такое?
У этого понтовоза[104] вид порядочно напакостившей сучонки.
– Это не я, – отбрёхивается он. – Это Колесов.
– Да вы садитесь, – предлагает мне из-за соседнего стола масляный партайгеноссе Шишков, вчера вернулся из ГДР. Как обычно, он сиял приторной улыбкой, в которую переложили сахару. – Садитесь. Правды в ногах нет.
– Нет её и в верхах. Где же мне жить? Поставить койку на Красной площади?
– Заявление недействительно без треугольника, – говорит Шишков. – Нужна подпись парторга. Я поговорю с Пименовым. – И к Серову: – Володь, к тебе Анатолий обращался?
– Официально нет.
– Зачем ты врёшь? – резанул я. – Моё заявление лежит у тебя. Я с тобой трижды говорил. Ты обещал помочь.
– А почему ты не хочешь зайти к Колесову?
– Только в этом и загвоздка? Так я уже одной ногой у него в кабинете.
– Николай Владимирович, – с порога обращаюсь к Колесову, – тут такая карусель с жильём…
– А при чём тут ТАСС? Правительственная организация?
Он брызжет ядовитой слюной из стального цельно-металлического рта. Лицо – жевал верблюд да выплюнул – стакановца. Глазки бегают…
– Помочь бы не грех…
– А почему мы должны вам помогать? Вы здесь год. Но разве сравнить вас с Димой Дмитриевым. Специалист!
Жить тоже негде. Хоть в сарай иди живи.
– Так я уже живу в сарае! Я ж за выездом прошу…
– Люди по пятнадцать лет ждут за выездом.
– Им есть где жить.
– Ну почему я должен отдавать вам квартиру?
– Да про какую вы квартиру? Всего-то надо подписать заявление в райисполком.
– Ну… Раз вы пошли через голову…
Оказывается, вон где собака зарыта. Сам гневается, что его обошли.
– Давний тассовец Петрухин, – мямлю я, – посоветовал идти сразу к Шабанову.
– Подумаешь! Петрухин тут фигура!
И в его гневе я слышу подтекст: здесь фигура я!
– Я письма в райисполком не задерживал, – гремит он. – Это массы. Местком. Партком. Скажите Серову, пусть он на собрании разберёт ваше заявление и будет ли разбор в вашу пользу? Попросите! – прищурил он холод в глазах.
Он так быстро говорит, что два ряда стальных зубов постоянно обнажены, вразбег мечутся навстречу друг к другу и сливаются в один ряд высоких блестящих бивней.
– Ха! – выпалил он. – Дайте ему! А чем хуже Дмитриев?!
– Это вы уже говорили.
– Я в «Правде» проработал шесть лет! Даже в «Правде» только через пять лет дают за выездом, если ЦК вас приглашал на работу. Вас ЦК не приглашал! У меня, – смотрит на часы на стене, – в три планёрка у Лапина. Хоть пойдите к самому Сергею Георгиевичу… Не даст!
Снова грести к Серову…
Как-то я должен был делать с ним материал с актива станкостроителей. Он заболел. А в авторы я всё равно сунул и его. Угрёб он халявную десятку. Сейчас и я получил от него. Только не той монетой он мне отблагодарил, ой, не той…
23 сентября







