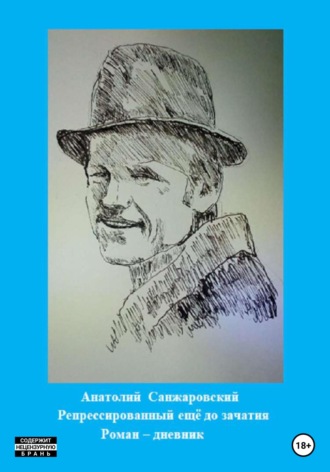
Анатолий Никифорович Санжаровский
Репрессированный ещё до зачатия
Своя хата
Нотариальная контора на Кирова, 8.
Рань.
Я первый в очереди на приём.
И чего я тут забыл?
Свою хату.
В ТАССе вроде побежали мне навстречу. Партайгеноссе Шишков вторично отдал мне мои бумажки по жилью со словами:
– Ну, Толя, теперь всё у нас в порядке. Подписал треугольник. Как положено. Беги в райисполком. Добивайся!
Прибежал. Добиваюсь у зама Азарова.
– Для порядка, – сказал он, – мы можем принять у вас документы. Да толку… У нас десять тысяч очередников. Вы в Москве чуть больше года. Ну подумайте, когда вам улыбнётся ваша комната за выездом?
– По-моему, никогда, – выразил я предположение.
Он вздохнул… Я вздохнул…
Обменялись мы глубокими вздохами и расстались.
Послушал я Азарова и склеил крылышки.
Что же делать? Ныть-скулить на всех углах о несчастной доле?
Ныть нас не учи. Сами тут академики!
На ТАСС никакой теперь надежды. Надо самому крутиться!
И я закрутился.
По объявлениям изрыскал пол-Москвы.
И наскочил на своё.
На стене Казанского вокзала увидал замытый дождями сиротливый клочок бумажки. Трепеща на ветру, клочок с улыбкой сказал мне, что в Кускове продаётся комнатка.
И набежал на ловца зверь.
Я покупаю сегодня!
Покупаю у брата и сестры Соколовых. Они вместе со мной преют сейчас под чёрной нотариальной дверью.
Всё бы оно и ничего. Да дёргает меня какая-то обида.
– Всё ж таки дороговато, – говорю я. – Восемьсот! Сбрасывайте сотню…
– Чего торговаться!? – пыхнул Николай Александрович. – Это несерьёзно. Договорились же!
– В том-то и дело, что договорились! Вы уверяли меня, что дверь будете делать вы. Двери-то нет. Не в окно же ходить?
– Да, Толя, комнатка глухая, – печалится Мария Александровна. – Ходить через мою комнату. – И озоровато усмехнулась: – Вход через перёд хозяйки!
– Вход через старушкин перёд меня не утешает. Сбрасывайте…
– Ну куда сбрасывать?! – крикнул Николай Александрович. – Ты хоть представляешь, в какие хоромы ты въезжаешь почти за спасибо!? Кус-ко-во![105] Русский Версаль! К нам на увеселительные затеи езживала сама Екатеринушка!
Мария Александровна весело поддела:
– И на тех балах-приёмах не ты ли, Колюшок, плясывал с самой императрицей?
Николай Александрович отходчиво хлопнул себя по ляжкам:
– Ну кто ж кроме меня…
Я упираюсь на своём:
– Вы так мёртво стоите за ценой, будто я сымаю себе хоромы в самом шереметовском дворце.
– В том дворце ты можешь снять себе хоромы. Да лишь на карточку! А жить будешь в моей-то комнате!
Голос из-за двери:
– Входим!
Я не шелохнулся. Пропустил очередь.
– Что вы делаете!? – в панике заорал Николай Александрович.
– Сбрасывайте.
Засуетилась и Мария Александровна:
– Колька, уступи ж… И в сам деле, ты ссыпаешь клетуху без дверей в сакле Соколовых, а не во дворце графов Шереметевых…
– Ну… Чёрт с ним! Уступаю четвертную.
Мы вошли к нотариусу. И уже через минуту вышли.
Оказывается, договоры купли-продажи сегодня не оформляются.
Соколов, генерал в отставке, приказал мне:
– Приходи в понедельник.
– Я суеверный. Увидимся во вторник.
Во вторник я сказал Медведеву, что иду в килькино (рыбное) министерство за комментарием к информации, и прибежал к нотариусу.
Чин чином подписали мы все бумажки, и сияющий генерал протягивает ко мне руку:
– Давай!
– Чего?
– Тугрики.
– А их у меня нет!
Зеленея, генерал хватается за сердце.
– Вы так сильно не переживайте, – успокаиваю я Сокола. – Денежки будут через полчаса. Ждите. Я пошёл за деньгами.
Соколовы немо уставились на меня, слова не могут сказать.
А я убегаю вниз по Кузнецкому.
Не мог же я при нотариусе им объявить, что такую большую сумму при моём кочевье я не таскаю в кармане на булавке. Я храню их в надёжной сберкассе на Центральном телеграфе, в виду Кремля.
При нотариусе я отдал соколам деньги, и мы счастливо разошлись.
Только на этом не кончились квартирные напасти.
Уже на работе любуюсь купчей и обнаруживаю дикий ляп. Ну нотариальные хмыри! Напечатали, что деньги я вручил, и я же их получил. Пришлось тут же бежать к нотариусу исправлять.
На прописку надо представить в милицию разрешение райисполкома на продажу. Разрешение у генерала. Пришлось ехать к нему домой, в двенадцатиэтажную башню.
Подгулявший на мои денежки генерал был настроен благодушно. Стал расспрашивать о моём житье-битье.
Наслушавшись о моих мытарствах, он искренне припечалился:
– Да… Жизнь прожить да не крякнуть… Какой ты, право, бухенвальдский крепыш, стойкий. Ни жены, ни жилья, зарплату на работе урезали ого как! Крепенький ты орешек… Другой на твоём месте не устоял бы…
– А я закалённый. Спасибо жизни за большие трудности… Я с семи лет зарабатываю на хлеб… Отец погиб в сорок втором. Мать не умеет расписаться. Троих подымала одна. Мы тонкие. Мы жилистые.
– Ничего, ничего…
– Конечно, во всём этом нет ничего хорошего…
25 октября, суббота
Счастье
Кусково. Рассветная аллея, 56.
Адрес моего счастья.
У меня – свой угол!
Фу-у-у-у-у!!!
И радостно вздохнули народы мира. В том числе и я.
Свой пенал четыре на двенадцать. Шагов. Но – свой! Пускай он не графский дворец, видный мне из вечернего окна.
Свой маленький бревенчатый сераль без отдельной входной двери!
Пускай такой. Но – свой!
В нём я готов каждому таракану воздвигнуть памятник нерукотворный. И если моя хозяйка хоть только косо взглянет на одного моего таракашика, я ей…
Моего таракана не трожь!
Правда, я сам пока ни одного таракана не видел, но первое притеснение мне было высочайше пожаловано.
Вчера я вечером слушал свой маленький хриплый приёмничек, и в 22.30 слушание прервалось. Преподобная Мария Александровна безо всякого предупреждения выкрутила пробки. Приёмничек замолчал.
Что бы это значило?
Посмотрим, куда ветерок подует и чего надует.
В шесть утра старуха пыталась сама вкрутить пробки.
Не получилось.
В семь одеваюсь без света.
Старуха из-за своей двери шумит:
– Толь! Ты в пробках не понимаешь?
– И вам понимать не надо. Просто вверните, как вчера вывернули…
Невинное удивление:
– Я вывернула?
– Ну не я же.
Она зажигает керосинку, вносит в мою комнату:
– Всё видней будет.
Давясь смехом, я ухожу.
Оказывается, она не может уснуть при работе приёмничка. Так скажи. Разве я не выключил бы?
1 декабря
По пути в Сандуны
Вечер.
Иду в Сандуны. В баню.
У телеграфа улица перегорожена.
Битком народу. В Доме Союзов – прощание с Ворошиловым.
Я сунул ментозавру[106] удостоверение. Он буркнул:
– Понятно. Проходите.
На углу я взял двести граммов колбасы и втесался в толпу.
В Колонном зале лились два людских ручья. Один – на смотрины, второй – уже со смотрин.
Гроб стоит метрах в семи от русла потока. Останавливаться нельзя.
Впереди меня шла старуха. Она вдруг, распахнув рот, остановилась напротив катафалка и поднялась на цыпочки, чтоб получше рассмотреть покойника.
– Проходите, проходите, – прошептал я ей. – Только язык не уроните.
– Так и нельзя поглядеть на человека, – проворчала она и двинулась дальше.
Мой рассказ о том, как по пути в баню я простился с вождём, припечалил Марию Александровну.
– Опять мне работа, – развела она руками у раскрытого гардероба. – Умер любимый мой маршал. Уж как я искала его на белом коне. Картина такая есть. Так и не нашла… Ну что за контры? Дворничиха ходила и наказывала, чтоб завтра вывесили на доме красный флаг, а послезавтра – в день похорон Ворошилова – чёрный. Что ж мне за чёрное повесить? Разве вот это? – выдернула она из гардероба брошенные съехавшим квартирантом чёрные плавки с красными полосками по бокам. – Не-е… Это не гожается…
Она вывалила из гардероба всё чёрное сукно.
Перебирает:
– Для Ворошилова мне ничего не жалко. Моя любовь! Всё сукно, что подарил мне на юбку старик, повешу. Хоть проветрится от нафталина. Купил лет пять тому будет. Самого схоронила четыре зимы назад… Всё на меня!.. Флаг вешать от всего дома – мне! Лампочка освещает номер дома – моя!..
– Это, Мария Александровна, высокое доверие масс. Ценить надо!
4 декабря, среда
Дрова для бедной махи
Да Бог с ним, с раем, раз шалаш остался.
Н. Хозяинова
Сегодня минус двадцать.
Мария Александровна протопила печь. Тепло.
Весёлая у нас изразцовая печка. Одна согревает четыре комнаты. В каждой комнате есть её бок. И у хозяйки Махи, и у Дуськи, и у меня, и у бабы Кати, которую муж Марьи Александровны навеличивал Кэти.
– Зачем он меня так? – обижалась баба Катя.
– А он на французский макарий! – пояснила Марья Александровна.
– А-а! Это почтение!
У нас печка одна на четыре хозяина. Каждый может топить из своей комнаты. Тепло же будет идти и в остальные три.
На электроплитке я пеку блины и сразу транзитом в рот. Ни одной перевалочной базы.
– Тебе надо прикупить дровишек, – советует Марья Александровна, любившая называть себя обнаженной Махой.
В молодости она была неотразимо хороша. За всю жизнь ни одного дня не работала. У неё даже не было трудовой книжки. Ехала на своей красоте.
Наша кусковская Маха приоделась. Похвалилась:
– Ухожу на заработки.
– Вот на дрова и подзаработаете.
– Ну да, пекарь Пикэ, задница в муке!
Вернулась Маха что-то очень вскорую.
Запыхалась от быстрой ходьбы.
Стучит в фанерную стенку соседке:
– Кать! Ты совсем легла?
– Совсем.
– А у меня происшествие…
– Сейчас встану.
Пришла Катя. Шушукались долго.
Через стенку всё слыхать.
Из обрывков их шёпота я понял, что Маха, она же Марья Александровна, ходила к своему воздыхателю. Спросил он, который час. И цап её за руку – часов нет.
Еле отбомбила свои часы и не бегом ли домой.
При таких кадревичах где тут Махе заработать на дрова?
21 декабря, воскресенье
Витька ушёл!
Вчера под вечер был в килькином министерстве. Там готовили материал для «Правды». А отдали мне. И попросили:
– Обставь «Правдуню»: А то она нас задолбала своей критикой.
Сегодня в восемь я был уже на работе. Отпечатал материал. Кинул на стол Медведеву.
Вышел в коридор размяться и наткнулся на некролог.
Виктор Иванович Китаев.
Милый человечко… Ходячий островок чистоты…
В прошлый четверг он не пошёл на поминки матери нашей сотрудницы. А наутро, в пятницу, позвонил и сказал, что у него грипп, на работу чуть опоздает. Вечером жена приходит со службы и видит: пол залит горячей водой. Виктор Иванович лежит в ванне, кипяток льётся на него.
Со слов врачей о смерти говорят так:
– С мороза человек влетел в кипяток. Клапан сердца не сработал. Потерял сознание, захлебнулся. Диагноз: утонутие.
И вот сегодня кремация.
Автобус от ТАССа отходит в 15.30.
До отхода осталось пять минут.
Я мечусь со своим рыбным материалом. Медведев сбегал выпил чаю, дочитал мой материал и велит:
– Кинь материал на машинку и пойдём отдадим свой гражданский долг.
По пути я заношу материал в машбюро, дальше идём с ним вместе. Садимся в автобусе рядом.
Из тассовской двери выходят трое.
– Смотри! – толкает меня Медведев в локоть. – А одетый по-зимнему Князев похож на Лаврентия Павловича Берия. Ему может не поздоровиться.
Трое проходят мимо открытой передней двери автобуса. Красовитая секретарша Лидушка подивилась:
– Хо! Все трое в очках. А не видят нас!
Впереди рядом с Лидой восседает, расклячившись, громоздкий рохля Беляев.
Беляев медведем облапил её. Хвалится Медведеву:
– Вот у меня подчинённые! Одни молодые дамы! Ну как руку не приложить?
Судя по её выражению лица, она б готова оформить его в нокаут.[107] Да как дашь хамоватому начальничку по балде? И она, притворно улыбаясь, молчит.
Минус двадцать. Холод – это рассыпавший своё тепло зной. Медведев держится петушком, не опускает уши шапки. Она ему большая. В ней он выглядит смешно. Кажется, вот-вот она прикроет его тонкое лицо. Выглядит он мальчишкой-забиякой. Шапка надвинулась на брови, из-под которых насторожённый взгляд так и стрижёт всякого, на кого ни посмотрит.
Вошли Бузулук и Молчанов.
Медведев уставился на Молчанова:
– Что, наш жених без шапки?
Кто-то хохотнул:
– Он её в руке держит. Бережёт. Боится, на голове она застудится!
Последним вскочил в автобус преподобный Терентьев. Стандартно вскинул руку:
– Здравствуйте, борцы за народное дело!
Мы отъехали.
Весь автобус молчал. Лишь временами раздавалось лошадиное ржание Беляева. Чувствовалось, что едет он по принудиловке.
Сразу после кончины Китаева зам Генерального Сергиенко подписал приказ: похоронить на средства ТАСС. Работавшие с Виктором Ивановичем должны были как обычно взять на себя похоронные хлопоты.
Начальник Китаева балагур Беляев наотруб лупанул:
– Мне некогда! Я не могу!
Глядя на Беляева, открестился от похорон и его зам подхалимный лукавка Терентьев.
Тогда Сергиенко звонит Колесову и требует, чтоб тот создал комиссию по похоронам. И потребовал, чтоб именно Беляев возглавил эту комиссию.
Вот теперь он по приказу сверху и «возглавляет» дурачась, как бы показывая: я не хотел – вы заставили. Вот и получайте в ответ.
Первый медицинский институт.
Покойницкая. Высокая и узкая.
В приоткрытую боковую дверь я вижу, как студенты-мясорубы четвертуют тела. Практикуются.
Мне становится не по себе. Я опускаю голову.
К открытой двустворчатой двери подправляется задом автобус с чёрной полосой.
Вот и Виктор Иванович.
Дебелая баба в халате равнодушно укладывает цветы у лица, на груди, вдоль рук. Виктор Иванович весь в цветах. Видны лишь лицо и седая голова.
Тассовцы томятся у гроба, ждут не дождутся, когда же ехать. Наконец они хватают гроб и быстро запихивают в автобус.
Первым идёт автобус с гробом. Мы, тассовцы, едем за ним. С первого сиденья я тупо вижу, как впереди холодно вертятся колёса автобуса с чёрной полосой. Живые едва выскакивают из-под колёс с мёртвым. В автобусе у нас тихо. Слышен лишь грохочущий бас Беляева. Он отдаёт свой долг гражданина.
Донской крематорий. Во дворе молодые ели с подушками снега на них. Кажется, они скорбят. Кругом разлита печаль. Из трубы идёт дым. Вот где воочию убеждаешься, что все мы чадим, коптим небо. Вечно будут светить живым неугасимые огоньки коммунизма.[108]
Гроб проносят в центр великолепного огромного зала. Ставят на пьедестал, окруженный мраморным барьерчиком.
Оглядываюсь. В глубине зала виден орган на сцене. Слева мраморный бюст архитектора Осипова, автора этого крематория, открытого в 1927 году. Осипов был тут кремирован.
Поднимаются на сцену две слепые женщины. Играют на скрипке и органе.
Люди проходят за барьер. Прощаются.
– Все простились? – сухо спрашивает служивица.
Молчание.
Дёрнулся свет, что-то дрогнуло, и пьедестал с гробом под звуки органа стал опускаться. На секунду я увидел пропасть, куда уносило Виктора Ивановича.
Эту пропасть с обеих сторон стремительно закрывают две створки тёмного бархата. Сбежались и дрожат.
Вера, супруга Виктора Ивановича, повисла на барьере, простёрла руки к ещё дрожащему бархату.
– Витька ушёл! – раздался её дикий вопль в мёртвой тишине.
У автобусов долго судачили.
Начальство не захотело ехать на поминки. Партвождь Шишков тут же сбежал. Остальные доехали на автобусе до дома Китаева. Родственники вышли. В автобусе снова поднялся базар. Идти не идти на поминки?
– Эх! – вскинул кулаки Бузулук. – Люди вы или кто? Пошли скажем Вере слова утешения!
Медведев чуже ему буркнул:
– Скажи от нашего имени. Мы доверяем тебе.
24 декабря 1969
Всепланетный плач
Бегу на работу вприпрыжку. Так мне хорошо.
А хорошего-то ничего. Только сегодня узнал, что должен был я дежурить вчера на главном выпуске. Да запамятовал.
Вызвал Фадеичев и велел рисовать объяснительную.
Я такие штуки ни разу не писал.
– Ну чего ты, пане, повесил нос? – тряхнул Олег меня за плечо. – Садись рядом. Я помогу. Уже штук шесть нарисовал. Поделюсь опытом.
Он пишет от моего имени.
Заместителю главного редактора ГРСИ
Фадеичеву Евгению Михайловичу от литсотрудника РПЭИ Санжаровского А.Н.
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В воскресенье 11 января я должен был по графику дежурить на главном выпуске ГРСИ. Безусловно, я бы вышел на дежурство, твердо знай, что должен быть там. К сожалению, я впервые об этом запамятовал. И вот почему. Накануне два дня у меня были заняты освещением актива геологов страны. Я впервые писал о таком крупном событии, я боялся упустить самую аленькую подробность. В пятницу поздно вечером на активе выступил Секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Соломенцев. Я устал. У меня не хватило сил приехать в редакцию. Сверки, передача, дальнейшие уточнения деталей отняли у меня не только много времени, но и сил. В результате я не смог приехать в редакцию и восстановить в памяти известие о том, что в воскресенье у меня дежурство на главном выпуске (оно лежало на моем столе). Обещаю, что этот первый нечаянный случай нарушения трудовой дисциплины будет у меня и последним.
Олег торжественно прочитал мне своё творение и спросил:
– Ну как? Этот всепланетный плач народов пойдёт?
– Хыр-р-рошо!
– Писал ведь опытный нарушитель дисциплины. Стреляный воробей и не раз битая собака. Ничего, старик. Крепись! «Человек не становится меньше оттого, что ему отрубают голову».
– Спасибо. Утешил.
Приказом за подписью одного из замов Лапина мне отстегнули замечание.
Секретарь Лидочка принесла мне этот приказ на подпись.
Я заартачился:
– Ваши шишки собирать!? Не буду. За месяц тащите график на подпись! За месяц можно забыть даже как тебя зовут! Почему б за неделю до дежурства не предупредить?
– График составляют Колесов и Беляев. Говори с ними.
Я к Беляеву.
– Ничего, Толь! – охлопывает он меня по спине. – Вон Смолин тоже чуть не получил выговор на невыход на дежурство. Забыл тоже. Но ему позвонили и он пришёл. А у тебя нет дома телефона… Не ты первый накалываешься…
Я схватил толстый карандаш для правки и зло и размашисто в пол-листа кручу всего четыре буквы.
Приказ провисел в коридоре всего один день.
Бузулук сочувственно пожал мне руку:
– Свою ненависть к администрации ты доходчиво выразил в своей подписи. Только слишком рьяно не дерись с начальством. А то оно быстренько прижмёт тебе морковку дверью.
А Молчанов подбодрил:
– Чтоб волков не бояться, надо спортом заниматься!
12 января 1970
Понедельник
Виза у трапа
Я почти не спал.
В шесть встал. В восемь был уже в конторе.
Звоню в Шереметьево.
Рейс из Гаваны перенесён на завтра.
Вот тебе и виза министра у трапа!
Молчанов:
– У тебя сегодня день визы. Не забыл?
– Да не забыл… Министр испугался ответственности за визу и остался в Гаване. На сутки взял кубинское подданство.
Я забираю материал у Федорчука и к Евсеенко:
– Жду вашего меча.
– Это с помощником решайте.
– Нет. Свет клином не сошёлся на Сидоренке. Надо делать беседу с другим человеком. Желательно с вами.
– Ладно.
Он прочёл материал и сказал:
– Хреновый. Даже «Пионерке» стыдно давать.
– Но давать что-то надо. Праздник!.. День… Такой…
– Хорошо. Я вызову Данилевича. За два часа переделает.
– Ну и я с ним. Деваться некуда.
Мы с Данилевичем на ключ заперлись в его кабинете.
Ровно через два часа, в тринадцать, мы были у Евсеенки.
Читает он материал и мурлычет:
– Выбросишь – не ошибёшься… Никогда не ошибёшься, когда говоришь директивами. Тэ-экс… Прочёл. Что вам надо от меня?
– Ваш автограф.
Он подписывает и морщится:
– Всё равно хреново, но не так уже.
В конторе на меня смотрят как на героя дня. Виза! И чья!
В синей папке с беседой случайно оказались выступление Сидоренки на торжественном собрании и доклад первого зама.
Я отвёз эту папку назад, поплакался в жилетку секретарю коллегии Лаврову:
– А всё же Федорчук неприятный тип. Откуда он?
– О-о!.. Всю жизнь он был кагэбэшником. Ловил и к стенке ставил золотоворов. Кагэбэ его испортило. Сидоренко встретил его где-то на прииске, где золото рыли в горах, и взял. Мужик ещё тот! Повышенной прооходимости!
– Это я заметил. Он хотел забрать мой материал. Сказал мне: «Вы не справились с заданием. Плохо написали. Вот напишу я, завизирует министр, а вы дадите. В противном случае ничего не дадим». Я ему: «Материал читал первый зам. Дал добро». – «Я доложу министру, что отдельные члены коллегии недобросовестно относятся к своим обязанностям. Он ему даст добро! Всё у вас не то».
– Он тут отколол номер! Всё министерство сообща готовило доклад министру на торжественном собрании. А он тайком, подпольно готовил свой доклад. План Федюни: общий доклад забрить, а свой подсунуть министру. Узнал Евсеенко. Вызвал к себе Федю, выматерил – выскочил от Евсенки Федяшка синий. Шёлковый стал. Типяра ещё тот…
3 апреля
Живи!
Кусково. «Русский Версаль».
Рассветная аллея, пятьдесят шесть…
Кусково рушат.
Скоро здесь радостно зашумит молодой парк.
А пока тут колобродила озорная жизнь.
А пока здесь ещё вечно хмурился ветхий бревенчатый домок, в котором я без малого за восемьсот рублей купил пенал. Два на восемь. Не сантиметров. А всё же метров.
С печным отоплением.
Случалось, в сильные морозы я ложился одетым, стянув уши шапки под подбородком тесёмкой.
Утром я умывался толстой пластиной льда, за ночь нарастала в ведре. Ведро с питьевой водой стояло у двери на табуретке.
Трёшь, трёшь лицо ледышкой, возьмёшь слегка подзавтракаешь. Погрызёшь ледышку и аллюром на службу.
И всё равно мило мне моё дупло.
Совсем не то что раньше…
Пеналу своему я радовался.
Перекрутил кое-как последнюю зиму и задумайся. Надо кое-что довести до ума в моей норке.
А то старуха хозяйка, большая древняя баловница, ни дня не работавшая нигде и даже не имевшая своей трудовой книжки – жила на иждивении мужа – и так не раз кидала мне в шутку:
– Толя! Это не дело, что ты шпионом пробираешься в свой пенал через мою комнату. Вход через перёд хозяйки! Нехорошо-с. Руби себе отдельную дверь в свою Европу!
Вход через чужую комнату – это не дело. Надо вставить свою отдельную дверь!
У меня было два окна и в одно я взялся врезать дверь.
Вынул оконный проём и ржавой ножовкой, отыскавшейся на чердаке у хозяйки, я стал резать брёвна в стене, лежали ниже окна. Брёвна дулись толсто, а ножовочка-коротышка была всего в две четверти, и она, когда я пилюкал, даже не высовывала своего горячего носа из бревна.
Пилил я, пилил и вдруг бах! – просвистел мимо чурбачок, чиркнув меня по верху уха.
Я огляделся и обомлел.
Чурбачок этот был куском бревна, который лежал в верхнем венце над окном.
Видимо, бревно было коротковато, его нарастили этим куском. За долгие годы притёрся он, лежал тихо и даже не подал голоса, когда я убрал проём.
И вот – ахнул!
Всего в сантиметре каком стоймя прожёг мимо моей головы.
Этот сантиметр и спас меня. Не будь его, чурбак тюкнул бы меня по копилке.[109] А это уже чревато… Навсегда бы припечатал к будущему порожку. Я не успел испугаться. Сейчас смотрю на него и меня одевает страх. Я цепенею. Молча беру три кусочка сахара и передаю хозяйке:
– Отнесите вашему пёсику Байкалу. Пусть скушает на помин было не усопшей моей души.
Меня не отпускает мысль, каким чудом я уцелел. Почему чурбачок не угодил в меня? Почему промазал? Почему не стукнул?
Ну что ж гадать? Стукнул не стукнул…
Раз расхотел стукать, надо тянуть жизнь дальше.
Живи, панове!
19 апреля, воскресенье







