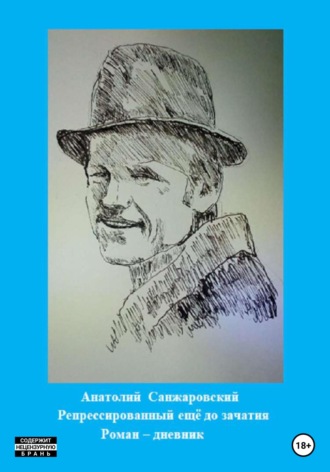
Анатолий Никифорович Санжаровский
Репрессированный ещё до зачатия
Не спеши!
Что я знаю, то знаю, а чего не знаю – того и знать не хочу!
Алексей Аракчеев
Гриша решительно объявил мне:
– Всё! Я намылился привести тётку!
Я кисло отмахнулся:
– Кончай ездить по ушам! Мы это уже не раз проходили…
– Плохо, сударь, проходили! Амбец! Женюсь!
– По случаю високосного года?
– Случай другой… Пока глупость мне воевода… Похоже, завис[261] я… Женюсь!
– Хочешь новых проблем – женись! Однако веселей будет. Давно пора. Наконец-то… Куда не едешь, там не будешь. Куй железо, пока не остыло. Шашку наголо тебе в руку и горячего боевого коня в придачу!
– И куда мне лететь с шашкой на коне?
– Ка-ак куда? На завоевание сердца целинки!
– И конь не нужен, и шашкой махать не к чему. В соседнем же бараке кукует.
– Опа-на! Расшибец![262] Глядишь, сораторите ребёночка-молоточка, эту совместную пылкую божественную баркаролу на праздничную вольную тему, и покуривай себе бамбук![263]
– А мы, что интересно, берём уже с готовеньким… Чтоб потом не обливаться потом при давке блох.
– Расшибец в квадрате! Не так уж и плохи дела в нашем орденоносном колхозе! Полдела скачано! Но… Ты заранее подумал о его пропитании? – Я деловито посмотрел в окно. – Не похоже… Не вижу ни одного вагончика, ни одного огурчика…
– Ты чё лалакаешь? Какие ещё вагончики? Какие огурчики?
– Обыкновенные! По подсчётам британских учёных, за свою жизнь человек съедает до сорока тонн продуктов, включая 3201 огурец и восемь пауков. Пауками человек харчится во сне. Как учёные всё это обосновали? Уму недостижимо.
– Хватит крутить ламбаду! Ну совсем замумукался я с этим своим сералем. «Мало того что годы летят, словно птицы, так они ещё гадят и гадят нам на голову!» Огороды на мне. Готовка… Вечный неустрой… Мама часто болеет… Недосып. На мне ж все собаки! Всё делал. Ничего из рук не вырывалось! Мозоли, как у гориллы… Да сколько можно? Крутишься ж, как шизокрылый вентилятор! «Ни одна собака не поверит, что наша жизнь собачья»! Надоело. Женюсь!
– А она бить с крыла[264] не будэ нас обох? – забеспокоилась мама. – С капризной же начинкой. Привередливой бабе и в раю плохо, и в аду холодно.
– Товсту та гарну выбрал? – спросил я на мамин лад.
– А чё её выбирать? Не корова… Средняя так… Не страхозявра какая там в скафандре… Путёвая… Лет сорока… Начитанность[265] и образованность[266] на уровне моего уважаемого евростандарта. Только уж чересчур простяшка… Ну ни воровать, ни караулить…
– Там здорова, як мурлука! – пожаловалась мама. – Не знаю, шо в ней Григорий и раскопал… Прямо бугаиха… На всё время бувае. Когда цветок цветёт вовремя – хорошо. А как цветёт не в своё время – он уже отцвёл. Отделался. Отбалакался.
– Когда ж, пан Григореску, свадебка? – копаю я в глубь радости.
– А вот спешить как раз и не надо! Всё в своё время.
– Ну-ну… Всё стукаешься головой об небо… Плохому танцору мешают ноги… Сколько можно бегать по одним и тем же граблям? Ну когда ты кончишь переливать эту сладкую водичку из пустого в порожнее? Или ты совсем не дружишь со своей головой? Подумал бы, сколько тебе лет… Чего ждёшь?
– Не чего… А кого. Подожду ещё трёх чеховских сестричек. Где они плутают? Помнишь, в конце пьесы сестрички хором стонали: «В Москву! В Москву!». Слышал даве по радио, в 1926 году пьесу «Три сестры» поставили в Лондоне. Англичане будто не слыхали слова Москва и не знали, куда просились сестрички, и сестринский призыв заменили на свой, родной: «В Лондон! В Лондон!» Так куда ушуршали сестрицы? В Москву? В Лондон?
– А может, в Нижнедевицк? Персонально к тебе? Три невесты! Выбирай, пан Григореску!
– И я о том же. За мною не прокиснет.
– Ну братуля-уля-люля! Да тебя ж женить всё равно что шелудивого порося стричь! Визгу много, а шерсть-то где?
27 августа 1992
Мамин платок
Мама лежит в кухоньке у печки на своей койке. Печка – божья ладонь. Даёт и тепло, и еду. Печь в доме Госпожа-а…
Я сижу на краю койки у мамы в ногах.
Перед нею на полном мешке с сухарями платок из козьего пуха.
– Ма! А что Вы с платком делаете?
– Да дуриком валяется себе… Мы с ним на пензии. Отдыхаемо напару… Шоб мне скушно нэ було… Он у нас тяжелоранетый. Увесь на дырках. Мыши попрогрызали.
– Он бы нам сгодился. Гринчику для прогулок.
– А шо? Завяжи маленького, положи в коляску и гуляй. Дырки нитками позаплутать… Я с Григорием побалакаю… Гри-иша! – крикнула она в комнату за жёлтыми шторами в дверном проёме, где вечерами Григорий смотрит телевизор и одновременно спит. В комплексе. Господин Универсалкин наш!
Григорий выглянул из-за шторки.
– Григорий свет Батькович! Цэй платок трэба аннулировать. Хай в нём малэнький Гриша гуляе по Москви!
– А большому Грише в Нижнедевицке уже и дышать не надо?! У меня ж радикулитище! Как закрутит спина, я натру спиртом и хоп в платок. Два дня поношу и зверюга боль отбывает на покой. Оставить большого Гришу без платка… Да Вы что?
– Ха! – щёлкнул я себя ногтем в ладошку. – Я тоже как-то выбился в радикулитики. Шерстяной платок таскал под поясом. Побежал к врачуну. А он: «Ты чего маешься дурью? У тебя свой кулак с собой? Не потерял?» – «Пока без потерь». – «Растирай и пройдёт». И помог я себе кулаком. А у тебя кулака нету?
– Нету! – рубнул Григорий.
– Так на мой! – в подсмехе мама подаёт свой сухонький кулачок, сине перевязанный жилками.
– Оставь себе, бабунюшка. В хозяйстве сгодится.
Сердитый Гриша уходит во двор.
А мама в шутку грозит ему в спину кулачком:
– Мы тоби, генерал, дамо прочуханки!
Мама трудно поднимается, тихонько идёт в Гришину комнату, к шкафу, и возвращается с клубком шерстяных ниток.
– Оюшки! Малюсенькому на носочки хватэ! Если б я не лежала, я б и… Пух есть. С козы Гальки… Есть из чего вязать. Я б сделала. Да здоровье мое бастуе. Голова совсем сама в отставку ушла… Даст Бог, подлечимся. Голову надо держать. Без головы не будешь работать.
Она подала мне клубок и тут же забрала:
– Дай я перекрестю.
Крестит и шепчет.
Всех слов я не разберу.
– … дай Бог ему счастья и здоровья на далёких дорогах его жизни, во всех его работах… Помоги и спаси нас, Господи, грешных… Постой, я встану, начну ходить. Шо-нэбудь придумаю…
Она долго молчит и роняет, ни к кому не обращаясь:
– А мне наша завалюшка наравится. Притерпелась…
– Как могут нравиться эти блошиные хоромы? Тесно. Всё гнилое… Вы ж не видели, как люди живут.
– Где ж я жила? Шо я бачила? Восемь десятков лет не то прожила, не то промучилась… Не то проплакала, не то пробедовала. Не знаю, где я и була восемьдесят лет…
– Как Вы рассказывали, сколько себя помните, столько и работаете каторжно…
– Да. Без труда не выхватишь и рыбку из пруда. А ловить трэба кажный божечкин день.
– Ма! У Вас полипы в желудке. Это с голода. Вы едите часто?
– Часто. Кажную неделю.
– Запоры бывают?
– Бувають.
– Простоквашку пейте по утрам.
Я подогрел ей стакан простокваши из холодильника.
Она выпила.
– А не простоквашу, так масло пейте растительное.
– А где возьмёшь то масло? Уже год его у нас в магайзине нэма… Ноги болять…
– А чего им не болеть? По цементу ходите в одних шерстяных носках. Далеко ли тут до простуды? А за диваном валяется целый бугор тапочек.
Второй день мама понемногу пьёт подогретое кислое молоко.
Начала вставать.
Выходит посидеть под окном на лавочке.
28 августа 1992
Большая стирка
Гриша стирает в корыте на табуретке.
С койки мама горько глядит, как он это делает.
Гриша заметил, что на него возложили глаз, и так расстарался перед мамушкой, так осатанело раскипелся-разбежался в усердии, что сам чёрт позавидовал и кинулся помогать ему по полной схеме.
Корыто не выдержало пламенного старательства двух горячих, чумовых гигантов и с гордым вызовом перевернулось.
Вода со змеиным жестоким шипом раскатилась по всей кухоньке.
– Э-э! Прачка! – шумнула мама. – Ты нас затопишь!
– Не бойтесь, Пелагия Михална! Я в запасе держу хорошие багры. Спасу! – смеётся Григорий, ловко схватывая тряпкой воду с полу.
Баптист
За обедом Гриша наливает мне и маме ситра.
А себе спирта.
– Я не хочу ситра, – отодвигает мама рюмочку. – Оно тэплэ.
– А холодненькое, – трясёт Григорий трёхлитровую бутыль со спиртом, – Вам ой нельзятушки. Горло застудите. Пейте тёплое ситро. Как я. Я разогреваю своё пойло до девяноста шести градусов. И доволен.
Мама ест простоквашу:
– Гриша! Намахай и Толеньке спирту.
– Толька не пьёт. Баптист!
30 августа 1992
И лопатой не накидаешь!
Лишь сегодня я заметил, что у козы Гальки занятные рога. Две костяные кокетливые кудельки лились по лицу, и один рог изгибом упирался под глаз.
Нарешил я эту загогульку срезать.
Как же!
Вон олень сбрасывает рога, сбросит и она.
Стал отпиливать ножовкой. Выбугрилась густая кровь.
Мне стало плохо. Я бросил эту хирургию.
Гриша замазал рог зелёнкой. Кровь перестала течь.
– Не получился из тебя Пирогов, – вздохнул Григорий. – Может, выйдет хоть рядовой трудяшка. Айдайки в поле на наш огород рвать фасольку.
По пути забрели в колхозную кукурузу.
Сдёрнули несколько кочанов.
– Колхозное брать можно спокойно и с достоинством, – разрешил Гриша. – Как своё родное. Всё равно бросят. Сгноят на корню. Но поймай здешняки вора на своей картошке, уроют на месте и на могилке выложат крестик из картофельных листьев.
– А если ночью?
– Не советую. Когда намылишься спионерить какой пустяк, рули на колхозное поле днём. Как в народе поют? «Всё вокруг колхозное. Всё вокруг моё!» Днём ты просто культурно берёшь. Почти своё. А ночью ты уже тать и надо тебе накидать по всей катушкиной строгости.
Я хотел рвать фасолюшку с корнем.
А Григорий против:
– В корнях удобрение. Да… На будущий год нам сунут огород в другом месте. Нечего беречь кому-то удобрение. Дерём с корнем!
Набрали два чувала.
Подвёз на мотоцикле весёлый наш соседец Алёша Баркалов.
Дома я сварил кукурузу.
Гриша отщипывает понемногу зернинки и подаёт маме. Она лежит на койке.
Мама улыбается:
– Толька, поглянь-ка… Гриша отпускае мне тилько по две зернятки.
– И то ладно! – вскинул руку Григорий. – Даю! А то вон… Сын и мать ругались. Мать укоряет: «Я ж тебя, чёртов жеребяка, с сосочки, с ложечки кормила!» А сын в ответ: «Так зато тебе и лопатой не накидаешь! Словно в печь: сколько ни вали, всё ничего нет!»
Мама гордо восклицает:
– Яа-ак хороше! Три сыночка – сразу три лопатищи! В Воронеже Гриша носил меня в больнице на руках аж на четвэрту этажуху!
Григорий не любит, когда его ухваливают, и тут же гасит похваленье нежданным сердитым попрёком:
– Ма! Как же не цвести Вашим полипам в желудке, если поститесь по четыре дня подряд? Во рту ж ни крошки!
30 августа 1992
К счастью – под конвоем!
Мама ест борщ и жалуется:
– Рука болит… Как жуёт. Лежу, як коровяка. Ничё не роблю. Ну целыми ж днями валяюсь с открытыми глазами и ловлю мух! Хиба цэ дило? Или я придумляю себе разные болячки?
Ладошкой она отгоняет муху от лица:
– Ото у нас мухи! Пока ложку борща от миски донесёшь до рота, всё из ложки выхлёбають! А я вот молодец. Гриша намахал повну мисяку борща, и я его напропал домолачиваю!
– А в мисяке полстакана, – уточняет Гриша.
Мама вздыхает:
– На дворе жара. Не продыхнуть. Травичка вся попривяла… Когда прошло оно, наше время? Днём или ночью? Не видали. А все стали вжэ старые та больные… «Как же долго нас вели к счастью под конвоем…»
30 августа 1992
Молитву и курица слышит
Маме кажется, что гостейку всё не так потчуют.
– Гриша, – тревожится она, – та шо ты напал на петухов? В них же мясо резинное! Зарубай хоть одну курицу!
Гриша сопит.
Больной маме не возрази. Слова поперёк не кинь. И согласиться он не разбегается. Каждый же день по петуху отстреливает! Два-три кило свежатинки на двоих! Сама мама мяса не ест. Не то что петуха, бульона в рот не вотрёшь!
Все дни, что я здесь, мама пристаёт к Григорию с курицей. И все дни он твердит одно:
– Да что в той Вашей курице?! На один зубок нечего возложить!
– Зато у курицы мясо мягкое та укусное. Тольке завтра ехать. А курица не рубана! Ты шо творишь, комиссар Топтыгин?
– Хоть всех перерублю! – вскипает Григорий.
Он бросает разминать в ведёрной кастрюле мешанку и бежит в сарай за топором.
Откуда ни возьмись с сарайной крыши с воплями вдруг пикирует тараном на него красным боевым снарядом пулярка.[267]
Такая гнусь!
Чтоб хохлатка напала на всеми почитаемого пана Григореску?!
Не хватало, чтоб ещё села на голову и принципиально клюнула в темечко?
На родном пепелище и курочка ж бьёт!
Ведёрный чугунный кулак-кувалда был при Григории. Он со всего маху залепил вражине по уху. Та и пошла винтом по сетчатой загородке.
Делать нечего. Рубить край надо!
Григорий топор в руку, курку в другую и, подбежав к торчавшей попиком колоде, с полузамаха отвалил воинственной психопатке голову.
Эта история воспотешила маму.
– То, Гриша, – заключила она, – так и должно було случиться. Я стилько тебя просила. Зарубай та зарубай! Моя молитва и до курицы дойшла. То щэ хороше, что напала одна. А ну налети все шестьдесят! Шо делал бы? Га? В прах бы заклевали нашего сердитого комиссара…
А в Москву я всё же повёз петуха.
1 сентября 1992
Отдохнул и – погреб вырыл, или дать спасибо!
Вскоре после школы меня вкружило в журналистику, и весь оставшийся кусок жизни припало мне куковать вдалеке от своих.
А кто не давал прикопаться возле наших?
В Евдакове, куда мы переехали из Насакиралей, ходила газетёшка «Путь к победе». В народе её называли «Путь к горшку» или «Вокруг двора». А то ещё короче. «Брехаловка».
Потом перебрались наши в Нижнедевицк. Была и там газетка «Ленинский завет». С издёвкой навеличивали её «Ветхий ленинский завет».
Тоскливые районушки не грели меня.
Мне нужен был размах!
И почти полжизни прокрутился я в столичных газетах и журналах. Верх моих журналистских скаканий – три года проработал редактором в центральном аппарате Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС).
Каждое лето я приезжал к маме, к братьям Григорию и Дмитрию в гости.
Поначалу ездил один.
Потом, женившись, стал ездить вместе с женой.
На этот раз Галинка осталась в Москве с маленьким Гришиком. Я приехал погостить один.
Я до́ма. В Нижнедевицке.
У милой мамушки со старшим братиком Гришей.
Святые, великие дни…
Я приехал уже под вечер.
Отоспался по полной программе.
А наутро началось моё гостеванье.
Гостеванье – это ломовая работа.
Мама, брат уже при солидных годах. Прибаливают. Кто же им поможет, если не я, в ком силёшки ещё играют?
Выкопать картошку, нарубить на всю зиму дров, заготовить угля, под зиму вскопать у дома огородишко, починить погреб – всё это набегало перемолотить мне за время отдыха.
Не зря мама, провожая меня до автобуса, часто повинно казнилась:
– Извини нас, шо стилько пало тоби роботы. Отдыха и не побачив. У нас отдохнул – и погреб вырыл!.. Тяжкий у нас отдых…
Я переоделся в заводскую братову робу из брезента и ну рушить ветхий сарайчик. Порубил на дрова.
Вечер собрал всех за ужином.
– Гриша, – заговорила мама, – я все дни растеряла. Якый сёгодни дэнь?
– Четверг.
Минуты через две мама обращается уже ко мне:
– Толюшка! Я все дни растеряла. Якый же сёдни дэнь?
– Разве Вам Гриша не сказал?
– А у тебя уже и нельзя спросить? А вдруг Гриша ошибся? – И закашлялась. – Во! Шо цэ я ославилась кашлем? Зовсим опрокудилась… Не вспопашилась, как и… Нигде не выходила… Не обидно, если б за порог куда хоть на секунд выпнулась. А то сидючи в хате…
Мама ест яблоко и жалуется:
– Я яблоко не кусаю. А тираню-скребу… Биззуба… Еле доскребаю…
– Да бросьте Вы травмировать то несчастное яблоко! – Гриша подаёт ей чашку молока. – Вот Вам монька.
Мама замахала на него обеими руками:
– Ну ты на шо накачав повну чашку? Я и так уже почти намолотилась.
– С одного яблочка?.. Ешьте! Поправляйтесь!
– А я шо делаю? Тилько и ем… Та лежу… В хвори валяюсь… Вы, хлопцы, в работе кружитесь. А я лежу и лежу… Ничё не роблю, как коровя. Палкой меня надо гнать с койки в работу!
– Вы, ма, своё отработали, – на вздохе сказал Гриша. – Восемьдесят пять лет не восемьдесят пять реп! С помоями за дорогу не плеснёшь!
– Подумаешь… Аж страх осыпае… А я боевая бабка. Добежала до таких годов и не скапустилась!
– Ешьте побольше и пробежите дальше Хасанки![268] – хохотнул Гриша. – Счастливого пути! – смеясь, он прощально покивал маме одними пальчиками. – И на дорожку примите чашечку молочка.
Он поближе пододвинул к ней чашку с молоком.
– Молочко, Гриша, у меня не пропадэ… Тилько… Шо ж мы з тобой робымо? Я в хвори лежу. Ты посля операции… Слабкий щэ на ход… Задрыхленький… И тебя года бьють. Шесть десятков без году… Цэ, сыно, вжэ багато.
– Видите, я богатый. Так и Вы ж не бедные! Не горюйте. Всё образуется.
– К тому надо бежать…
Мама берёт крупный помидор.
Смотрит на соль в банке.
– Соль, як ледянка… Гарни помидоры у нас уродились… Прям сахарём усыпаны. Таки сладкие… Толька! А почём у вас хлеб?
– Я Вам уже десять раз говорил!
– Так то тилько десять… Ты не обижайся. Я трохи умниша була, як помолодче була… Так почём?
– Шестьсот рублей буханка. В два раза дороже, чем у Вас.
– Ка-ак цены возлетели! Когда-то буханка шла за шестнадцать копеюшек. Перевернулось всё кверх кармашками… С сентября знову подвышение цен…
– Поделали, – Гриша наступил мне на ногу с лёгкой подкруткой, – поделали хватократы-демократы из нас клоунов. Цены гонят и гонят без конца. Обдерут нас как липку и голенькими пустят в Африку…
Гриша вздыхает на улыбке.
– Ма! А Тольке надо дать спасибо! Сегодня сарайчик у дома сломал. Нарубил машину дров. Я только в ведре носил на погребку. На ползимы мы уже с дровушками! Так дадим спасибо?
– Та или мы жадни?! Дамо! Тилько… Одного спасибка малувато…
Мама надвое разрезает помидор.
Одну половинку посыпает крупной солью. Подаёт мне:
– На тоби, Толенька, помидора за хорошу роботу.
25 августа 1994. Четверг.
Катила мышка бочку
Вечер.
Культурно отдыхаем перед телевизором.
Гриша полулежит в кресле. Голова на спинке. Державно храпит.
И по временам, оглядываясь спросонку по сторонам, мужественно строит вид, что смотрит телевизор.
Я лежу на койке.
Пытаюсь всмотреться и вслушаться.
Да как ни всматривайся, кроме нервно дёргающихся белых полос ничего другого. Как ни вслушивайся, кроме дикого храпа ничего иного благородного не доносится до ушей.
Это не смотрины.
Это муки.
Принимаю я эти телемуки стоически.
Хочется посмотреть. Всё-таки про Зощенко. Сегодня ему стукнуло б сто, не дожми его усатая соввластюра в пятьдесят восьмом.
Вдруг послышался отдалённый глуховатый топот котов. Оглядываюсь и вижу: из-за иконки по верху угла серванта, проворно стуча хвостиком, как музыкальной палочкой, по святым объектам – четыре трёхлитровые банки со святой водой, мамино богатство, восемь поллитровок с русской (Гришины завоевания рынка) – вдруг сквозь этот святой строй со звоном пробегает мышь и грациозно пикирует на спинку дивана, на котором я имею честь спать.
Придиванилась, деловито понюхала воздух и весело побежала по гребню долгой диванной спинки, как полуголенькая нежно-розовая гимнасточка по бревну.
Я в изумлении чего-то вякнул. Разбудил Григория.
Он не обиделся. Напротив.
Бегущая мышка глянулась и ему.
И мы стали смотреть, что она нам покажет.
Только она ничего не показывала.
Знай себе бежала и бежала, бежала и бежала к телевизору.
Похоже, ей самой хотелось приобщиться к столичной культуре, посмотреть чего-нибудь интересненького да свеженького.
Наши дурацкие морды, видать, ей не нравились.
С серванта она прыгнула на тумбочку с телевизором.
Я думал, она остановится перед экраном и станет смотреть.
А она обежала телевизор по краю тумбочки и пристыла.
Эта титька тараканья будет смотреть телевизор сзади?
Ну да!
Как мы в детстве. На халяву набившись в совхозный насакиральский клубишко, скорей летели на сцену и влёжку рассыпались по полу у обратной стороны экрана, по-барски кинув босую ногу на ногу. Смотреть так фильмы было куда вкусней.
Забежала мышка за телевизор.
На том мы с нею и расстались.
Да не навек.
Среди ночи мы с Гришей проснулись.
Мышь что-то яростно катила. Гром стоял адовый.
– Кто дал право этой сучонке в ермолке нарушать наше законное право на восьмичасовой сон!? – зло, сквозь зубы поинтересовался Григорий. – Что она там катит?
– Может, бочку с порохом на тебя? – выразил я предположение и костью пальца постучал в пол.
Однако мышь не унялась. Ещё обстоятельней покатила к норке под икону, в святой угол, свою звончатую добычу.
Жаль, что лень не пускала нас из-под одеял.
Но всему приходит конец. И выбрыкам мышки. Может, она спрятала свою находку? На том и успокоилась?
Утром я нашёл у норки греческий орех, больше известный в народе как грецкий. Из самой Греции прикатила? Мышка разбежалась впихнуть его в норку. Он был крупней норки и не проходил. Тот-то она старалась, как сто китайцев. Всю ночь гремела.
– Всё-таки хорошо, что орех не пролез в норку, – пощёлкал Гриша пальцами. – И наше благосостояние не пострадало. А наоборот. Приросло стараниями мышки! Где мышка добыла этот орех? У нас же вроде не было орехов? Не было, так стало!
Гриша торжественно раздавил орех. Съел.
– Вот я и подзавтракал! – доложил он. – Сыт на весь день. Спасибо мышке!
– Чем выносить мышке благодарность с занесением в личное дело, лучше б дал хоть одно генеральное сражение этой нечисти.
– Да ну давал… Сбегал в санэпидстанцию, настучал на мышку. Санэпидстанция поставила мне на боевое дежурство целую горсть отравленных семечек…
– И ты их сам поклевал?
– Да нет. Поделился по-братски с мышками. Что интересно, посыпал – ещё сильней забéгали!
– Значит, надёжно подкормил.
– А как иначе? Свою живность надо беречь! По нашей бедности у нас в хозяйстве не только мышь, но и таракан – скотина!
– Ну-ну… Семечки не остались? Или все сам дохлопал?
– Да есть ещё. Могу и тебе дать.
Я посыпал у самой норки.
Ночью мы спали спокойно.
То ли мышка упокоилась. То ли мы за день так наломались – я на картошке, Гриша в стирке, – что не слышали её похождений. Я склоняюсь ко второму.
29 августа 1994. Понедельник.







