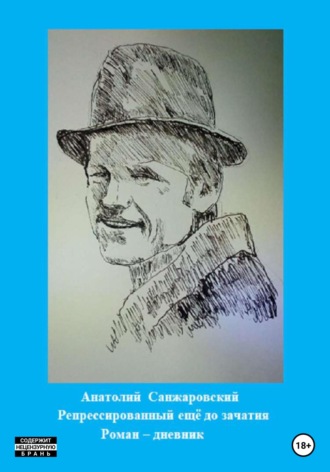
Анатолий Никифорович Санжаровский
Репрессированный ещё до зачатия
И гарбуза хочется, и батька жалко
Рань.
Солнце ещё не проснулось.
Чтобы не разбудить маму и болящего Григория, на цыпочках крадусь в переднюю комнатёшку, где и кухня, и обеденный стол, и ведро с водой на табуретке, и умывальник, и чуть в глубине мама лежит на койке за печкой.
Тихонько умываюсь над ведром.
– Ну шо, сынок, подъём?
– Отбой. Чего вскакивать спозарани?
– Как спалось на новом месте?
– Да как… Обычно. Закрыл глазки и спал.
На электроплитке – она на обеденном столе – разогреваю вчерашний суп, вчерашнюю жареную картошку.
Мама пристально смотрит из-под одеяла, как я быстро ем, смотрит, смотрит, и слёзы задрожали на глазах.
– Вы чего, ма?
– Ну это видано? Приихав у гости. А набежало одному убирать картохи… Одному в поле на лопате качаться… Вся работа на твои руки пала. А мы сидимо, як кольчужки. Я, як коровя, ничё не роблю. И Гриша посля операции нипочём не очухаеться… От горечко насунулось…
Я кидаю в целлофановый пакет кусок сыра, краюху хлеба, два яйца, с десяток слив, только что подобрал в палисадничке под окном, три белых налива в чёрных пятнах.
Полевой княжев обед!
Сборы кончены.
Мешки под прищепкой на багажнике. Можно и в путь.
– Ну, сынок-золотко, подай Бог тоби счастья, здоровья! – сквозь слёзы твердит мама каждое утро одну и ту же приговорку, когда я уезжаю в поле.
Глядь – я в домашних синих Гришиных тапочках.
Я переобулся в калоши, прыг на велик и покатил.
Десять соток нашей картошки далеко в поле. Под самым Першином. Туда дорога всё чаще в горку.
С переменным успехом я то еду, то сам веду педальный мерседес.
Гришин костоятряс «Урал» какой-то с припёком. Тяжёл в ходу. И всё время тянет куда-то в сторону. Еле удерживаешь. Что за дикость?
В первый день я убрал двенадцать рядков.
На второй чуть больше.
Я слегка загрустил.
Да если я буду убирать такими стахановскими темпами, я и в декаду не вотрусь!
Завтра ты кладёшь на лопатки пятьдесят рядков!
Старый метод копки кидай на свалку истории!
То я как убирал?
Сунул лопатку под корень. Перевернул. Лопату в сторону, выбираю интеллигентно. Не спеша, обстоятельно.
Теперь я отвожу намеченный фронт работ.
Пятьдесят рядков!
Отсёк себе танцплощадку и скачи на радостях. Выкопай сразу все пятьдесят. Только потом начинай выбирать. Пока не уберёшь, ни шагу к дому! Хоть до полуночи пляши на карачках!
Сначала я выкапываю с краю первые гнёзда в каждом из пятидесяти рядков…
Завидно смотреть по сторонам.
Люди убирают под соху. Лошадка выпахала, осталось подобрать.
И подбирают не по одному, а целыми ордами!
В полдня картошка перебралась из земли на машину и гордой княжной отбыла отдыхать на курорт. В прохладный сухой погреб.
И опустели соседние делянки.
А ты один катайся, катайся на лопате…
Солнце какое-то очумело злое.
Варишься в поту. Усталость переламывает тебя надвое. А кататься не бросаешь и на минуту. Край понравилось дураку лбом орехи щёлкать.
Ворочать одному рядок за рядком тоскливо и медленно. Нельзя ли побыстрей? А что если выкопать весь сорок девятый? На целый же рядок останется меньше!
Или чего не вскопать поперёк последний рядок? Тогда в каждом рядке меньше останется гнёзд, всего по семнадцать. А было по восемнадцать. Всё-таки семнадцать меньше восемнадцати. Это вакурат подтверждается долгими выверенными подсчётами…
В конце концов, как ни хитрил, а всю сегодняшнюю танцплощадку перевернул кверх корнем.
Бело поблёскивает на солнцепёке картофельная братия.
Я и не ожидал от себя такой прыти. Выкопал экую махину и не испустил гордый дух.
Раз живой, покувыркаемся дальше.
Поесть жало давно. Но я всё ещё не ел.
Заработай!
Как выкопаю намеченное, так и поем.
Заодно первый разок и отдохну.
Как ни трудно, доскрёбся-таки до поедухи.
Раскинул фуфайку по траве на краю рва, опустошил пакет и сверх того минуты три полежал в роскоши, раскидав по сторонам беззаботные руки-ноги.
Гулять так гулять!
То с колен, то сидя подобрал последнюю картошку уже в молодых сумерках.
Набежало шесть мешков.
Как же я их уволоку? Пускай и напару с веселопедом?
А вел у меня с норовом.
Любит, чтоб ему кланялись. Чтоб перед ним приседали.
– Видишь, – толкую велосипеду, – чтоб тебе легче было, три мешка я спрячу в бурьян. Всё равно ты больше не увезёшь?
Он молчит.
Я затащил три мешка в заросли за межой.
Рядом с нами дали полоску одному. Поганых глаз он сюда и разу не показал. Выросло чёрт те что выше моей лысины.
Я зажал веселопедов хвост коленками, лажусь вспереть беременный чувал на багажник.
Веселопед нервно дёрнулся от меня и завалился.
– Хамлюга ты приличный! День же деньской спал на солнышке! И опять на боковую?! Домой поедем или тут заночуем?
Молчит.
Я подпихнул палку ему под сиденье.
Стоит как миленький. Не брыкается.
Покидал я мешки, и тяжело повёз.
Со зла он кряхтит.
Но везёт под мудрым моим руководством.
Я бреду-упираюсь рядом. Трудно держу норовистого за рога.
Дорога полилась с горки.
Я изловчился, сел между мешками.
Он сердито потащил.
Даже ветерок у ушей просыпался.
Я на тормоза.
Щелчок.
Или я солидола во втулку слишком напихал?
Я снова на тормоза.
И опять щелчок.
А он тащит всё наглей.
Ну ёпера!
Что было силы, сжал твёрдо руль, нажал ногой на бок передней шины. Не знаю, как и остановил.
– Бандюга с чёрной дороги! Что у тебя с тормозами-мозгами? Убить же мог! Больше я на тебя не сяду!
Он скрипнул:
«Большой печали не будет».
Бредём потихоньку напару. Смирно молчим.
Надоели друг дружке.
Как вдруг новая напасть. Свалился верхний мешок.
Один был на раме, два на багажнике.
Верхний и рухни бугром наземь.
– Или ты спятил? – дёргаю за хохолок чувал. – Кто подсадит тебя на верхотуру? Лежал бы себе и лежал. Так нет, край ему валиться!
Стою посреди угрюмой ночной степи и ума себе не дам.
Ну как я его взопру?
Одной рукой держу велосипед.
Другой пробую поднять мешок.
Слабо́.
Рука болит в локте, силы никакой. И такое чувство, будто она у меня вот-вот отвалится. До того налило усталости.
Кто бы помог?
Нигде ни души.
Только в низине-яме какие-то покорные, смирные нижнедевицкие огни.
Невероятным усилием я всё-таки встащил мешок одной больной рукой.
И медленней черепахи пополз по ночи дальше.
Больше всего я боялся уронить мешок снова.
Ненароком подобралась компания. За веселопедом смотри, за мешками смотри.
Эти друзья готовы в любую минуту свалиться и заночевать в степной канаве.
Ночёвка в канаве им не улыбается, и велосипед норовит удрать от тебя. С горки тянет слоном. Не удержать. В гору же упирается опять, как слон.
Еле-еле пихаю.
С грехом пополам дотолкал я велосипед до нашей калитки. Чтобы открыть её, хотел я на минутку прислонить велосипед к загородке и тут мешки с веселопедом повалились набок. До того я с этой компанией наломался, что усталость приварила руки к рулю, я не мог быстро разжать пальцы, ладясь хоть как-то подправить картинку, и скандально рухнул наземь вместе со всей этой шатией.
Гриша с мамой все видели в окно.
Трудно подошёл братка и жалконько, по-старчески помог мне подняться.
– Проклятуха картошка! – буркнул он. – И бросить жаль. Столько трудов вбурхали! Не знаешь, почём будет на базаре. А то б дешевле прикупить. И жалко на твои муки смотреть… А помочь я тебе не могу… Чувствую, слабый, хилкой на ход. Впервые в жизни не могу я свою картошку сам убрать… – И бессильно хохотнул: – И гарбуза хочется, и батька жалко.
– Что за притча?
– От мамы слышал.
Мы стали вместе перетаскивать мешки в сарай.
– Прижимистый батяня, – рассказывал Гриша, – купил крохотульку арбуз. И режет за столом. Это матери. Это старшей донечке. Это младшенькой… Это… По кругу пришла очередь отца. Но кусок был последний. А за отцом сидел ещё единственный сын. Отец со вздохом отдал свою долю сыну. И тут сын горько заплакал. «Ты чего плачешь?» – всполошилась мать. – «И як же мне, мамо, не плакать? И гарбуза хочется, и батька жалко…»
За вечерей Гриша поторапливал маму:
– Работайте, ма! Работайте! Чего ложку положили?
– Та я вжэ картохи не хочу. Я яблоко… Поскребу трошки…
– Ну, скребите, скребите, – разрешает Гриша. – А ты, – поворачивается он ко мне, – что накопал, то и привёз?
– Да, – соврал я.
– Если когда придётся оставлять там, в бурьяне, то не оставляй в мешках. Врассыпку оставляй. Вдруг кто нечаянно набредёт… Не унесёт… Ну, в карманы напихает… Вот и всё всепланетное горе…
Совет выслушать не возбраняется.
Только поступай по-своему.
– Да кто там набредёт? Ночь. Разве что космонавты из ракеты увидят? Ну станут ли они размениваться на твой мешок?
– Люди в степи не постесняются, – уклончиво пробормотал он. – Я тебе не писал… Если б ты знал, что я после операции не смогу убрать картошку, ты б не сунулся в эту каторгу?
– Напротив. Обязательно б приехал! Сколько живу отдельно от вас, каждое лето приезжал навещать. А тут приехал бы на больший срок, чтоб всё поделать по дому.
Он хмыкнул и замолк.
Слышно лишь было, как на электроплитке уныло закипал чайник.
– Это тебе для мини-сандуновской бани! – показал Гриша на чайник.
Перед сном мама вышла посидеть на лавочке у окна под каштаном. А я тем временем выкупался в корыте. Поливал себя изо рта.
На следующий день я одолел ещё пятьдесят рядков.
– Всё! Завтра не пойдёшь на картошку, – объявил Гриша. – Получаешь льготу на отдых.
– Солнце. А я задери кособланки[269] и дрыхни? А ну послезавтра дождяра вжарит? Дожму картошку. А там на отдых посмотрим.
Тут я включаю «Новости» и слышу: завтра в Чернозёмье дождь.
Во мне всё заныло.
Три мешка в бурьяне и выкопанную, но не собранную картошку на двадцати рядках будет купать дождюха? И так в этом году картошка плохая. Спасибо Гришиному другу Валере Котлярову. Божьей милостью дружбан прополол, когда Гриша лежал в Воронеже. И эти остатки кинуть? А ну дождища разбежится полоскать до двенадцатого сентября, когда я должен уже ехать? Билет-то на руках…
Ночью мне приснилось, как рекой лило с крыши.
Проснулся я в половине седьмого.
Дорога под окном сухо стекленела.
Я обрадовался.
На пальчиках выкрался из засыпухи. Никто не проснулся.
Я скок на велик и в поле.
Надо мной брюхато провисало облако.
Вдали стоял то ли тугой туман, то ли уже полоскал дождь.
Была сильная роса. День-плакальщик. Утренняя роса – добрая слеза: ею лес умывается, с ночкой прощается.
В Першине не вилось ни дымка. Иной колхозничек, этот горький чёрный коммунар, проснётся о-го-го когда и долго будет очумело метаться из калитки в калитку, ища, где бы на халяву врезаться в жестокий опохмелон. С семнадцатого года никак не опохмелится. Где уж тут до работы?
Что смогут, уберут с полей горожане и школьники-студенты с горячим участием военных. А на тоскливый хлеб ему дуриком отвалит кремлёвский дядя буляляка.[270]
Сбросил я с одного мешка траву. Из дырки в мешке выскочила мышь. Нашла где тёплую хатку!
В восемь я был уже дома с родной картошкой.
Говорю своим:
– Я дверь оставил незапертой. Вас тут не покрали? Все в полном составе?
– В полном! – в присмешке подтверждает Гриша.
Быстро позавтракав, я снова дунул в поле.
Осталось собрать с двадцати рядков. Да выкопать ещё со ста пятидесяти пяти. Раз плюнуть!
Выкопал рядков десять – сломалась лопата!
Даже железо не вынесло моего энтузиазизма!
Поскакал я напару с велосипедом по ближним делянкам. Ни у кого нет запасной лопаты. Пожимают лишь плечишками:
– Мы под лошадку убирам!
Подобрал я выкопанную картошку и домой.
Хоть тормоза и не держат, но если тормозить осторожненько, нерезко, то ехать можно. До первой аварии.
На спуске имени товарища Бучнева – это невропатолог районной поликлиники, вымахал юртищу в два этажа у речонки Девицы, – тормоза мне твёрдо отказали.
А навстречу грузовики, сзади кучка легковиков.
Народу везде невпроскок…
И с половины спуска я чудом сумел вырулить перед носом у камаза в отбегавший в сторону от дороги затравянелый проулок и потому, наверное, могу сейчас всё это писать.
Докопал я остаточки.
Глянул окрест.
Мне стало грустно.
По чём я грустил? По чёрному полю, которое больше не увижу? По километровому колхозному стогу соломы, который гнил по тот бок рва и в прошлом году, и в позапрошлом?
Я поболтался по рву, надёргал полсумки шиповника.
Возьму в Москву сыновца отпаивать.
Привёз я последние три мешка.
Мама с Гришей в грусти сидели на лавочке под окном.
– Ну, сынок, – виновато проронила мама, – большое тебе спасибо! Вырыть картошку – это языком легко. А руками надо землю ворочать. Одному убрать всю нашу картоху – всё равно что шилом вырыть погреб… Цэ яки труды?.. А картоха там чиста, как орехи! Дай Бог тебе счастья, здоровья… Картошка – всё богатство наше. Спасибко, сынок-розочка…
– У-у-у! – хохотнул в довольстве Гриша. – По части спасиба мы не жаднюги. Сломал ты птичий сарайчик – спасибо! Нарубил дров на всю зимку – спасибко! Выкопал, выхватил из земли картошку – спасибушко! Вишь, сколько спасибов надавали? Вагон и большую тележку! Мы этими спасибами тебе шею уже перетёрли! А если по большому счёту, с тебя, браток, магарыч. Если ты убрал нам нашу картошку, то, думаешь, мы платим? Не-е… Платишь ты! По Москве безработица. А мы тебе – работёху до поту! Неслыханную заботу отвалили о твоём дорогом здоровьишке! Нашармака отсвинярили тебе целый царский склад здоровья! Ты приехал бледный, слабей комара. А на нашем огороде, на нашем свежайшем воздухе какую мускулатуру наел! – Он ударил ребром ладони по верху моей руки. – Гири накачал! На лице зарисовалась крутая краска. Лопата кровь разогнала. Королевское здоровье налицо! И всё добыто нашими стараниями. Врубинштейн? Ну разве грех за это нам дёрнуть с тебя магарыч?
31 августа 1994. Среда.
Женюсь!
Когда сходишь с ума, главное – не споткнуться!
А. Гудков
Жизнь так сложна, что без смеха не разберёшься.
Г. Малкин
Жизнь промелькнула пред глазами:
Футбол, рыбалка, то да сё…
Прощаюсь мысленно с друзьями.
Марш Мендельсона… Кольца… Всё!..
В. Кузьмичёв
– Всякое дыхание любит пихание. Ты согласен?
– Ещё ка-ак согласен! А потому… Я твёрдо прибился к своему бережку… А потому к зиме женюсь стопудово![271] – мрачно пригрозил мне Григорий.
– Смельчуга-ан… Только в который раз обещаешь? И всё равно в твои годы надо поосторожней разбрасывать безответственные заявления.
– А какие мои годы? Ну какие?
– Через полгода шестьдесят. Не семнадцать.
– Вот именно! В семнадцать не грех и подумать. А в шестьдесят на раздумье – ноль!
– Да к чему такая спешка? Сорок лет колебался!
– А куда было в молодости торопиться? Всё ж впереди! Вон дедушка Серёжа Михалков женился в восемьдесят три… А Серёжу обставил питерский артист Ваня Краско. В 84 года Ваня женился на студенточке. Разница в возрасте ровно шестьдесят лет. О рекордишко! В Гиннесс его! В Гиннесс!
– Дедуньки Сергуня и Ванюня не твой ориентир… Ты не думал, чем могут кончаться секс-набеги озорных древних старичков на свежих розочек? Вспомни, вспомни хоть товарисча Чингисхана. Человек тысячелетия! Не какой там секунд-майор… Полководец! Полмира завоевал! А как кончил? Стыдобища! На бабе откинул адидасы! И сколько таких шаловливых супчиков-бульончиков!? Это и император Карл Великий, и философ Авиценна, и римский папунька Лев VII (сам Лев!), и вице-президент США Нельсон Рокфеллер, и премьер-министр Великобритании лорд Генри Пальмерстон… Лорд дубаря секанул… на бильярдном столе во время космической состыковки со сладкой чертовкой служаночкой…
– Мда-а… Есть над чем подумать на досуге… Явно не мой ориентир дедушки Сережа и Ваня ещё вот почему. Женился-то Михалков во второй забег… во второй разок… А Краско в четвёртый… Годы подпихивают. Надо мне погонять лошадушек. И сейчас моя компания мужички нераспакованные, кто и разу не забегал в брак ни с одной паранджой. И тут я выпередил всех. Холостым я уже пережил самых знаменитых женихов. Поэт Жуковский пал как жених в пятьдесят восемь. Что интересно, почти на два года я иду с опережением!
Он взял мамину палку под окном и, расклячив ноги, пошёл стариком. Вылитый какой-нибудь святой Зосима.
– Ну как? Дедулио без фальши? – вопрошает Григорий.
– Без.
– Тот-то. Срочно нужна тётка!
Так его пятидесятичетырёхлетний друган Валерка Котляров, который тоже всё никак не женится, называет свою будущую жену. Тётка и никак больше. Не жена, а именно вот тётка. Вроде нянечка. Не чужая. А своя. Родного замесу.
– Тётку срочно надо аж пищит!
– За сорок лет никак не мог решиться?
– А всё разбегался…
– Ну теперь разбежался?
– Разбежа-ался. Эти гады с квартирой в спину толканули. То тридцать лет прел с мамой в этом аварийном сарае-засыпушке, – тоскливо обвёл он взглядом комнатуху. – Со старой матерью в одной клетухе… Куда вести жену? Или… С милым рай и в шалаше, а в подвале – и вообще! Или мы звери какие? Тридцать лет мариновали с квартирой. Гноили. А тут нежданно и бухни. Новосельевские ключики перед носом зазвенели! То не было приличной хатёнки и ладно. А тут… Осталось вокняжиться в эти свои господские хоромы… Газ, вода, ванна!.. Полную ванну напустил… Не-жишь-ся…
– На какую, милаша, впопыхах нарвёшься. А ну тётушка задурит?
– С такой у меня широких танцев не будет! Тогда, может, – хохотнул Гриша, – накурнать мне эту щеколду в водичку? Окунуть разика два в полную ваннушку и кончен балок?
– Закупалась! Сяма!
– Именно-с! Только сразу не буду окунать. Пускай спервони умного потомка мне подаст…
– На заказ, что ли?
– Конечно! Сахарница[272] у неё ого-го какая! Только умных и рожать! Хочу умных детей. А ум ребёнка в ногах и в ягодках матери.
– Гм… Что-то новенькое…
– Да нет. Старенькое.
Он подошёл к серванту, пошуршал в бумажках и подал мне газетную вырезку. Просвещайся!
«Чем шире бёдра матери, тем умнее её малыш
Чем больше, – читал я, – жировых запасов у беременных, считают эксперты, тем выше шанс на выживание ребёнка и на его высокий интеллект. Всё дело в том, что жир богат питательными веществами, которые играют роль в развитии детей. Со слов врачей, «жир в ногах и ягодицах матери – это своеобразное депо для строительства мозга ребенка. Нужно много жира для формирования нервной системы малыша, к тому же жиры в этих зонах обогащены докозагексаеновой кислотой, которая является особенно важным компонентом человеческого мозга». «Всегда было загадкой, – добавляют медики, – почему у женщин так много жира. Млекопитающие и приматы обычно имеют от пяти до десяти процентов жировых тканей, но у женщин Homo sapience жировые запасы в теле могут достигать 3 %. Всё выглядит так, как будто в процессе эволюции природа специально накапливала и сохраняла эти жиры у женщины до появления на свет ребёнка».
– Мда. Подумать есть над чем, – пощёлкал я пальцами.
– А мы и подумали заранее… Новую ж барскую хижину кому я оставлю? Коммунякам? Хренушки в кубе! А всё в квартире? Под Три Тополя, – глянул в окно в сторону кладбища под тополями – не понесут со мной. Как ни проси. Всю жизнь копил и?..
Действительно, дом похож на склад. Всюду продираешься боком. Вещей битком в углах, на столе, в шкафу… Нераспакованными стоят цветной большой телевизор, оверлок, пылесос, магнитофон…
– Ну кому всё это?! Только потомку! И брать буду, как Витяня Предурь. Холостовал этот кручёный долбонавт безбожно долго. У этого бармалея, гляди, есть чёрный пояс по любовным калякам-малякам. Не перекрой этому красному богатырю краник – полрайона обсеменит! Как-то раз на лужке пожаловался этот пехотинец с кулаками с махотку: «С большим риском для жизни я сделал доброе дело для человечества. Спас невинную девушку от неотвратимого изнасилования! А мне ни одна собака даже спасиба не сказала…» – «Как же ты спасал-то?» – «Да я просто не догнал ту длинноногую козу… А догнал бы… Я сперва накурнал бы её в снегу. Не бегай жутко, милая Машутка, от хорошего человека!» – «А риск в чём твой был?» – «Я слишком быстро бежал!.. А так… Она мне глянулась. Можь, я б на ней женился… Жаль, не догнал…». Один гусь и шепни ему: «И чего зря дорогие ножки гробить? Доколе будешь баклуши сбивать? В Першине кака-ая невеста-закром на корню сохнет-увядает!? Сама панночка Сажекрылова! О! Петрушечка кудрявая! Там приданое! Ух-ух! Чего стоит одна свиномамка на сто двадцать кило! Преполный погреб картошки! У самой повна пазуха цыцёк!!!» Витоша услыхал это и насмерть запал. Волчком закрутился. «Ну-ка, ну-ка, что за штука!?» – щёлкнул Витяй пальцами над головой и рысцой жиманул в Першино. Пешком по рельсам! Надеючись, жеребчик и в дровни лягает! Всё своими глазами увидел, оценил, женился. Теперь распевает:
«Мимо тёщиного дома
Я без шуток не хожу!»
Ахти-бабахти как быстро схрюкался Витюка с этой Сажекрыловой. Забрал Витёка симпатюлю свиномамку на все сто двадцать кило. Ни грамма не оставил! Забрал весь погреб. Ничего не оставил! Всё угрёб! Даже блох её. Ну, толкую ему, блохи уж и сверх всего. Так нет, говорит, у неё и блохи особенные. Прыгают, как балерины! Чего добру пропадать? Забираю! Заведу у себя в Гусёвке маленький филиал Большого театра. И пускай прыгают. Пускай изображают маленьких лебедей! Мы за большими не гонимся. Мы и на маленьких в полной согласности… Вот и я… Созрел в шестьдесят… Созрело яблочко наливчатое… Само упало. Как хороший бухач. Ведь… Надо полоть, а я в больнице. Спасибо, Валерка-Хлебороб хоть прополол. Хоть что-то ты убрал. В этом году у меня недород на картошку. Возьму такую тётушку, у которой уродило картошку. У меня недород – там перерод. За тётушкой доберу!
– Ох, брате, не разевай рот на чужой перерод, – со скептическим смешком похлопал я Григория по загривку. – А если уж замахиваться… На днях читал в газете… Гонконгский аллигатор[273] Сесиль Чао предлагает 65 миллионов долларов тому, кто сможет покорить сердце его дочурки Гиги. Она у него лесбиянка и в Париже уже состоит в браке с одной козлицей. «Исправишь» Сесильку эту, женишься на ней – 65 миллионов твои!
– Что я – Ваня Подгребалкин? Не нужна мне эта Сосиска. Я уж попроще как…
– И как?
– На мой век не хватит у нас своих тёток?.. Обязательно женюсь!
– Ты в гладиаторы[274] ещё не выбился? Гладиатор только и способен погладить девушку. А большего от него не жди. Потомка-киндерёнка будешь сам замешивать или кликнешь лихостного стахановца дядю соседа? Здоровье-то как?
Он кисло отмахнулся:
– А! Как у той кумы. То хлеб не ела, а то и воду перестала пить… Это я так. По утрам краснознамённый хохотунчик ещё ликующе вскакивает! Ты не смотри, что шестьдесят. А радостные простуды не отпускают. На зорьке циклоп одеялку шатром вскидывает, простуда с боков и налетает… Покуда буду простужаться, до той точки я и мужик. А перестану простужаться – нету мужика живого! Повелю тащить под Три Тополя.
– Ну-ну. Легче стало дедушке. Неслышно стал дышать.
– Тот-то и хорошо. Лёгкие отличные, значит. Про меня ещё долго не скажешь: то хлеб не ел, а то и воду перестал пить. Не воду! Водочку ещё попиваю! Да как!?
– Молодцом! – кивнул я.
– Молодец на конюшне стоит. А я за столом ем и пью! Ам и пью! Ам и пью!! Бедная печень рассыпается на атомы! Ах, подать бы сюда тётушку да потолще. Я б этой кракозябре показал, где раки ночью кукуют. Надо по глухим деревушкам заслать гонцов. Там и откопаешь тётку подурей. И чтоб погреб полный. У меня неурод – там перерод! А то нижнедевицкие о-очень вумные. Как замаячил на горизонте ордерок на новую юрту, шлепоток везде кругом побежал с уха на ухо. Шу-шу да шу-шу. Ну, мне от этого ни жары ни прохлади. На каждый роток не испечёшь блинок. А вон вчера одна знакомушка заводская… Этой хреньзантеме не идти – давно пора бежать замуж! Вот эта уже капитально потоптанная бабайка и подкати вчера коляски. Вроде сначатки как смехом я мумукаю этой фефёле про горячие полежалки, а она и ухни: «Не надоели ещё тебе эти от случая к случаю ночные плясандины? Чего б нам не сойтися? Можь, сбежимся характерами?.. И кушали б мороженое вместе… Америкон! Прихватизируй мяне у нову фатеру. Не разочарую!» – «В качестве?» – «Жёнки, навернушко…» – «Так кто, – спрашиваю, – тебе, бабетка, нужен? Я или новое дупло моё?» – «Кунешно, обоюшки. Всейный кон!» – «Я погляжу, так у тебя в головке прям богатейший склад ума. Только вот почему этот склад никто не охраняет? А?.. Ну, отдохни, отдохни, птичка-рыбка-киска Мурка моя Ненаглядкина. С расчёта, с кошелька разгон берёшь… Не тупи… Остынь, килька бесхвостая… Ты чего всё не выходишь замуж?» – «Тут с вами выйдешь… Все пробуют, хвалят, а не берут». – «И мне не больше всех надо. Посиди ещё». – «Я готова за тебя жизнь отдать! Но это бесполезно?» – «А ты ещё сомневаешься?» Ведь чую, нипочём я не нужон этой секс-мамбе…[275] Это ж сразу считывается. Да и она мне нужна как зайцу триппер… У этой крюкозябры уже климакс на носу… Любит тугрики трясти… И корабли у нас отправились в разные моря… Эх… Хороших парней загодя разобрали кого ещё в институте, кого в школе, а кого и в садике. А я всё не востребовался…
– Мда-а… Любвезадиристый товарисч Пушкин катался на каруселях со ста тринадцатью кадрицами. А тут… Пляшет на примете хоть одна кривенькая снегурка, да помоложе?
– Я сам кривенький. Зачем же мне ещё какую-то корявую таскать? А жениться пора. Пора давно перепорила… Потомка бы мне. И точку можно ставить. Жирнюху!
И замурлыкал себе под нос сергейкамышниковское романсьё:
– Я нежна, прекрасна, сексапильна.
Себя своим признаньем завожу.
Люблю себя любимую так сильно,
Что от себя, наверное, рожу.
2 сентября 1994. Тяпница. (Пятница.)







