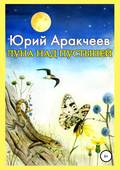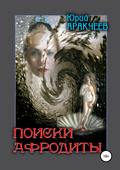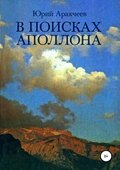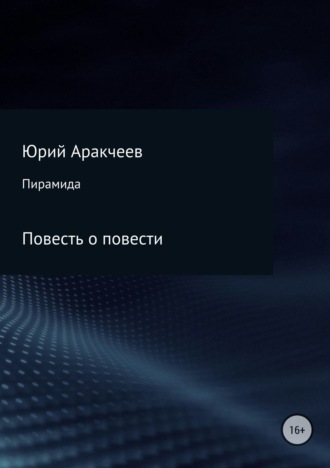
Юрий Сергеевич Аракчеев
Пирамида
Пленум
Хотя работа Сорокина и утверждала, что преступление, связанное с убийством Амандурдыевой, осталось нераскрытым, однако она же и свидетельствовала о другом, не менее тяжком преступлении: необоснованном осуждении человека. Как ни досадно было убедиться в том, что произошла серьезная судебная ошибка, это не шло ни в какое сравнение с тем, что ошибка теперь будет исправлена. Лучше поздно, чем никогда…
Тем не менее, опять же следуя своему принципу всесторонней проверки, Баринов отдал материал, подписанный инспектором Военной коллегии, сразу двоим – консультанту и члену Верховного суда. И тот, и другой, независимо друг от друга, пришли к выводу: инспектор Сорокин несомненно прав. Необходимо внести протест.
Текст протеста на этот раз подписал другой заместитель Председателя Верховного суда Союза – В. В. Кузьмин, человек, который, как и Баринов, сыграл уже однажды свою роль в деле Клименкина, подписав телеграмму о приостановке исполнения приговора и первом истребовании дела в Москву. В протесте говорилось, что ввиду относительной давности происшествия и невозможности теперь восполнить недостатки дознания и первого предварительного следствия, дело по обвинению Клименкина В. П. в убийстве Амандурдыевой надлежит прекратить производством.
Протест, составленный Сорокиным и подписанный Кузьминым, был направлен в Президиум Верховного суда Туркмении в феврале 1973 года.
И был отклонен. Президиум Верховного суда ТССР считал, что вина Клименкина доказана и в последнем приговоре правильно обоснована. Однако убедительные мотивы в обосновании этого решения приведены не были.
В мае 1973 года с письмом к Председателю Верховного суда Союза обратился теперь главный редактор «Литературной газеты». Та самая «эстафета» теперь перешла к нему…
И снова протест, составленный В. Г. Сорокиным и подписанный В. В. Кузьминым, был тщательно изучен в Верховном суде СССР. Наконец новый протест, подписанный теперь самим Председателем Верховного суда Союза, был внесен в пленум Верховного суда СССР – высший судебный орган страны. В протесте предлагалось отменить приговор третьего суда и дело направить на новое расследование.
За отмену приговора третьего суда над Клименкиным и возвращение дела на новое, третье дополнительное расследование члены пленума проголосовали единогласно.
Судья Аллаков
И пока Виктор Клименкин, которому теперь исполнилось 24 года, ждал своей участи в местах лишения свободы, его дело о нападении на Амандурдыеву вернулось на доследование в третий раз. И опять следователь по особо важным делам прокуратуры Туркмении Петр Данилович Бойченко принялся за работу. Только не было уже в нем первоначального пыла. Хотя и насобирал он еще два тома свидетельских показаний, справок, а также составил новое обвинительное заключение (теперь уже на 50 машинописных листах), где опять доказывал, что собранных материалов достаточно для того, чтобы утверждать: убийца – Клименкин, и только он один. Однако он так и не исследовал другие версии, упрямо повторяя одно и то же.
Рассмотрение дела в четвертый раз поручили молодому 28-летнему судье Аллакову. Не было случая на четвертом судебном процессе по делу Клименкина, чтобы он, Чары Мухаммед Аллаков, прервал дающего показания, независимо от того, был ли это свидетель защиты или обвинения. Прокурор Виктор Петрович, который опять поддерживал обвинение на суде, считал, что поведение Аллакова отличается недопустимой мягкотелостью и либерализмом. Раз придя к несокрушимому мнению, что Клименкин – убийца, прокурор глядя на Аллакова, искренне не понимал: как можно так попустительствовать отъявленному рецидивисту?! Но судья Аллаков следовал важнейшему принципу: при рассмотрении дела проявлять непредвзятость. Непредвзятость влечет за собой внимательность ко всем материалам и участникам процесса, и Аллаков не только внимательно слушал свидетелей, но пытался добиться полной ясности их показаний, задавал многочисленные вопросы. И почти все записывал в свои тетради. В конце концов его, Аллакова, «дело Клименкина» почти сравнялось с официальным. Даже адвокат Беднорц считал, что молодой Чары Мухаммед Аллаков знает дело, пожалуй, даже лучше, чем он, адвокат, и, может быть, почти так же хорошо, как инспектор Военной коллегии, которого он видел на аудиенции у Баринова и работой которого восхищался (ему особенно нравились четкость и недвусмысленность текста протеста в отношении главных свидетелей Бойченко – Ичилова, Игембердыева и Сапаровой, которых Сорокин фактически уличил в лжесвидетельстве).
Но было и нечто, что омрачило четвертый процесс с самого начала. В качестве одного из главных свидетелей на суд был вызван Анатолий Семенов, бывший на вокзале вместе с Клименкиным в день убийства, один из участников опознания. Тот самый Анатолий Семенов, который менял свои показания, а на третий суд по приказанию Милосердовой был доставлен приводом. На несколько вызовов он отвечал теперь телеграммами, где сообщал о болезни матери и невозможности приехать в суд. Ответ на последний вызов был прислан уже не им самим, а начальником отдела внутренних дел горисполкома, майором милиции. Телеграмма была короткой: «Свидетель Семенов Анатолий Васильевич покончил жизнь самоубийством».
В качестве одного из свидетелей по просьбе защиты был вызван в суд следователь по особо важным делам Петр Данилович Бойченко. Защита предложила допросить его в связи с заявлением Клименкина о подсаженном к нему в камеру Завитдинове, которого следствие пыталось склонить к даче заведомо ложных показаний, а также в связи с возникшими у защиты сомнениями в правильности допроса целого ряда свидетелей. Однако Бойченко на суд не явился.
Приблизительно через десять дней после начала суда пошли слухи: приговор готовится опять обвинительный. Кто-то якобы оказывает давление на Аллакова, о чем стало известно работникам суда. Никто не мог слухи проверить, однако они были упорными. Аллаков заболел. У него резко подскочило давление. Все присутствовавшие на процессе заметили: он ходит сам не свой…
Однако настал и день вынесения приговора.
Этот день – 19 декабря 1974 года – запомнился многим жителям города Мары, да и не только Мары… Жена Виктора Каспарова, Алла, вспоминает его как один из счастливейших дней своей жизни. Начинался он плохо. Была пасмурная погода, и настроение у присутствовавших в зале суда тоже было пасмурным. Стало известно, что Татьяна Васильевна, мать подсудимого, отбывает наказание, наложенное на нее прокурором Виктором Петровичем за ее якобы «хулиганские действия», и ее не было в зале суда. Подозревали, что это спровоцировано, однако подробностей не знал никто. Не было здесь и адвоката Беднорца, вложившего столько сил в это дело, – Рихард Францевич, почти уверенный в том, что приговор и на этот раз будет обвинительным, несмотря ни на что, улетел в Москву по другим срочным делам. Светлана, невеста Виктора, уехала в свой город, чтобы не быть свидетельницей очередной трагедии. Она уже не верила в другой исход. Не было многих людей, регулярно ходивших на процесс, видевших внимательность и непредвзятость судьи Аллакова, но поверивших в упорные недобрые слухи.
Но был как всегда подтянутый, собранный Виктор Каспаров, был его друг, летчик Юрий Тихонов, провожавший его в Москву четыре года назад. И была Алла, знавшая больше других, чего стоила Виктору эта всегдашняя собранность. Одни бессонные ночи не сосчитать. Что уж говорить о том, сколько пришлось пережить мужу в связи с докладной запиской о нарушениях законности в ЛОМе станции Мары. Было несколько проверок, но они не дали результатов, а Каспарова в конце концов уволили из органов МВД «по служебному несоответствию». Так что сейчас фактически опять решалась судьба не только Виктора Клименкина.
Вышел среднего роста, коренастый, круглолицый и узкоглазый молодой человек Аллаков в сопровождении двух молодых заседателей и начал читать по-русски с туркменским акцентом. Затаили дыхание присутствовавшие, вставшие для слушания приговора. И сквозь монотонное журчание негромкого голоса вдруг послышалось: «Судебная коллегия считает, что… доказательства не могут быть признаны достаточными… ставят под сомнение достоверность… не соответствуют… противоречат… Требования закона грубо нарушены…» И, наконец, явственно и четко:
– «Признать Клименкина Виктора Петровича невиновным в предъявленном ему обвинении и по делу его оправдать… Производство по делу в отношении Клименкина Виктора Петровича прекратить… И из-под стражи его немедленно освободить».
Кончил читать Аллаков. Мертвая тишина была в зале. И всхлипывания послышались вдруг. Это плакала какая-то незнакомая Алле женщина. Но видела ее Алла сквозь сияние своих собственных слез и повернулась к мужу. Но и он, ее невозмутимый муж, как будто пытался проглотить что-то.
– Ну что же ты? – сказал вдруг громко начальник конвоя, улыбаясь широким лицом, и дотронулся до плеча бледного и неподвижного Виктора Клименкина, все еще сидящего на скамье подсудимых. – Что же ты? – повторил он, и в глазах его тоже, кажется, что-то блеснуло. – Ты свободен, иди… Ты свободен.
В доме на улице Карла Маркса
И поехали они все в дом на улице Карла Маркса, где жили Каспаровы. Нет, далеко не все, конечно. Не было многих из тех добрых людей, кто участвовал в столь долгой битве – битве не только за одного гражданина Виктора Петровича Клименкина, но и за справедливость вообще.
В первые часы не было здесь, в доме на улице Карла Маркса, матери, Татьяны Васильевны, но вскоре, отпущенная на радостях из милиции, она присоединилась к ним. И смогла наконец беспрепятственно обнять своего отныне свободного сына.
Узнали, правда, что прокурор Виктор Петрович собирается подать протест по поводу вынесенного молодым судьей приговора, и это вселяло тревогу. Но все так устали, что сейчас не хотелось думать об этом. Как выяснилось позднее, Виктор Петрович внес-таки протест, и прокуратура Туркмении поддержала его, но судебная коллегия Верховного суда Туркмении отклонила этот протест, оставив оправдательный приговор в силе.
Телеграмма
Москва, редакции «Литературной газеты», заведующему отделом писем З. А. Румеру.
Дорогой Залман Афроимович, поздравляем вас и всю редакцию «Литературной газеты» с наступающим Новым годом, от души желаем вам здоровья, счастья в жизни, всего самого-самого лучшего. Все Клименкины.
Послесловие автора
Так закончилось это действительно сложное дело – «Дело Клименкина», приговоренного на первом процессе к высшей, исключительной мере наказания. Дело редкое в судебной практике, по-своему исключительное, ставшее, однако, пробным камнем для людей, так или иначе причастных к нему; дело, требовавшее от всех участников внимательности, ответственности, компетентности, человечности. Трудной и долгой была борьба, но окончилась победой тех, кто обладал поистине высшей мерой перечисленных качеств. А вместе с ними и победой закона. Это – в который раз уже! – доказывает: добро побеждает зло, но, конечно, в том случае, если добро не пасует раньше времени, если оно упорно и активно.
Чары Мухаммед Аллаков переведен на более ответственную работу и в настоящее время является членом Верховного суда ТССР.
Виктор Каспаров работает инженером Марыйской ГРЭС.
Виктор Клименкин и Светлана Гриценко живут дружно, оба работают. У них растет сын.
Часть вторая
Последствия
Автор этих строк
Однако нет. Не закончилось дело Клименкина. Здесь я, автор этих строк, выхожу непосредственно на страницы, хотя во время работы над документальной повестью «Высшая мера», которая теперь составила первую часть моего труда, я так хотел остаться в тени, будучи как бы лишь летописцем, ставящим последнюю точку на деле, получившем хотя и не скорый, но все же как будто бы хэппи-энд.
Да, Виктор Клименкин вышел на свободу, хотя теперь вы знаете, какой ценой. Да, закон восторжествовал, и справедливость в деле Клименкина была в конце концов как будто бы восстановлена.
Но вот один-то смертный приговор был все же «приведен в исполнение»: самоубийство Анатолия Семенова, разумеется, было связано с делом Клименкина самым прямым образом (к этому мы, впрочем, еще вернемся). Не сосчитать и других потерь… Кто вернет Клименкину годы, которые он просидел в тюрьме, как теперь выяснилось, необоснованно? Кто возместит ему то, что пришлось пережить в камере смертников в ожидании исполнения приговора? Где взять компенсацию за бесконечные переживания матери, отцу, невесте подсудимого, да и всем участникам четырех следствий и процессов? Каково Фемиде, от которой ускользнули-таки – и теперь, конечно, уже навсегда – действительные преступники, те «несколько», которые, по словам мужа Амандурдыевой, напали на старую, беззащитную женщину? Ну, Фемида-то – ладно, ей не впервой, пожалуй, а вот каково людям, среди которых преступники (или преступник) преспокойно гуляют?
И чем же успокоить нравственное чувство многих свидетелей этой долгой истории – жителей города Мары, Ашхабада, работников всевозможных судебных инстанций, корреспондентов газеты?
Стоп. Вот, кажется, и найден хоть какой-то выход. Ну конечно же!
Гласность! Честное описание и непременная публикация! На суд общественного мнения! Чтобы извлечь уроки. Всем – и участникам, и свидетелям. И читателям. Чтобы ясно стало: вот как бывает, вот какие люди есть у нас – и плохие, и хорошие! Ведь добились же! Справедливость восторжествовала! Пусть с потерями, но правда – вот она! Воюйте за нее, други, соотечественники, не сдавайтесь до самого конца – и придет на нашу улицу праздник.
Гласность, слово правды – это и есть праздник! Смотрите, братья, знайте все, какие благородные люди есть у нас – Каспаров, Беднорц, Румер, Алланазаров, корреспонденты газеты, заседатель Касиев, зампред Верхсуда Баринов, Сорокин, Аллаков! Вот так, как они, и нужно поступать. Не бойтесь! Вы, граждане, действуйте, если на вашей стороне справедливость, будьте верны закону!
Нет того тайного, что не стало бы явным. А потому и вы, плохие, корыстные, невежественные люди, трепещите. Есть, есть Судия…
Эта простая мысль и пришла в голову Румеру, заведующему отделом писем «Литературной газеты», человеку, не отмахнувшемуся от самой первой телеграммы (коллектив рабочих фабрики «Победа», помните?), в отличие от сотрудников целого ряда других наших центральных газет и инстанций, отнесшихся к вопиющим телеграммам и письмам из Туркмении, увы, формально, положивших их, как говорится, под сукно.
Сначала Румер предлагал написать о деле Клименкина некоторым из знаменитых наших очеркистов. Но они почему-то отказались…
Так получилось, что в конце концов следующим участником «эстафеты» судьба, поколебавшись, выбрала меня.
Почему?
Наверное, не случайно. Говорят: рок головы ищет. И еще: где бы ни произошло то, что предназначено вам узнать, – хоть на противоположной стороне земного шара! – вы узнаете все равно.
Дело Клименкина еще не закончилось – я о нем понятия не имел, но в начале августа 1974 года (в Туркмении ожидался четвертый процесс…) на глаза мне попалась вопиющая статья писателя А. Борщаговского, опубликованная в «Литературной газете». Она называлась «В тайге», в ней описывалось, как где-то в Сибири двое несовершеннолетних парней не спеша, лениво, с унылым безразличием, от скуки и для развлечения убивали третьего. Убийство длилось в течение нескольких дней, и все это время трое – два палача и жертва – плыли на лодке по сибирской реке, им встречались люди, которые видели и могли понять, что происходит, но никак не вмешались. История дикая и, по-моему, гораздо более страшная, чем дело Клименкина. И все же статья была напечатана.
А весной следующего, 1975 года та же газета опубликовала большое письмо отца убитого мальчика, А. Черешнева. Он сумел стать выше своего личного горя и попытался понять, почему произошло нелепое, бессмысленное и как будто бы совершенно беспричинное убийство, убийство его сына. А. Черешнев писал о бездуховности жителей сибирского поселка, о пьянстве, которое стало нормой и чуть ли не единственным развлечением людей. Напрашивался вывод: убийство не случайно, причины серьезны, живучи, они в образе жизни, существования людей поселка. В образе их мыслей, а точнее – немыслия.
Убитый мальчик был тоньше, чувствительнее, духовнее тех, которые его убили. В том и причина. Он не пил, как другие, не дрался, интересовался многим, читал книги, был гораздо более развит, лучше учился. Он был более живой.
В этом, увы, усматривалась закономерность.
Письмо отца сопровождалось предисловием редактора, а потом и комментариями специалиста-социолога.
Прочитав письмо, испытав глубочайшее сочувствие и уважение к отцу, я разразился письмом в газету. Я благодарил сотрудников за то, что они рискнули напечатать прекрасный человеческий документ, и посетовал на неискренность, холодность и сухую заданность предисловия и комментариев…
Разумеется, я не ждал, что мое письмо опубликуют. Полная бессмысленность моего поступка была мне ясна, однако запечатал письмо в конверт и послал – просто так, для очистки совести. И в конце концов даже забыл про него.
Залман Афроимович Румер
Да, поистине никогда не знаешь, какой именно из твоих поступков принесет наибольшие плоды. Однако верно говорится в индийской пословице, что «настоящее усилие никогда не пропадает впустую». Правильно и праведно жить, в общем-то, просто: поступай по совести, а о последствиях не думай.
Летом 1975 года нежданно-негаданно я получил ответ из «Литературной газеты», подписанный заведующим отделом писем. Вот его текст, который запомнился мне слово в слово:
«Получил Ваше письмо. Согласен с Вами. Не хотите ли Вы поработать для «Литературки»? Есть интересные темы, поездки и т. д. Мой телефон…»
И подпись: З. Румер.
В то время я не был заинтересован в поездках и новых темах – решил как раз капитально засесть за роман, задуманный уже лет шесть назад, – но все же позвонил З. Румеру. Он пригласил меня зайти в любое время. И однажды я зашел.
Это было 10 сентября 1975 года.
Среднего роста, полноватый, с довольно пышной седой шевелюрой человек, пристально и значительно глядящий своими темными глазами из-под густых черных бровей, любезно усадил меня на диван в своем маленьком редакционном кабинете и минут через пять после начала нашего разговора предложил мне заняться «интереснейшим делом», которое он приберег якобы специально для меня.
– Редкое дело, Юра, – сказал он, очень быстро перейдя со мной на «ты» и по имени. – Я давно его берегу для честного человека. Если согласишься, не пожалеешь.
– А о чем, в двух словах? – спросил я, настроенный почему-то скептически.
– В двух словах не расскажешь. Но коротко суть в том, что человека невинного приговорили к смертной казни, а потом реабилитировали. Дело длинное, длилось оно что-то года четыре, было четыре процесса…
Честно говоря, меня не привлекла, а скорее насторожила некоторая сенсационность этого дела. В такого рода происшествиях вступает в силу нечто неуправляемое. Мне всегда интереснее то, что зависит от самого человека. Что незаметно со стороны, но в чем с наибольшей полнотой проявляется характер и суть человеческой личности. Большие события всегда предопределены малыми, подчас незаметными, но гораздо более значительными на самом деле. Письмо отца Черешнева как раз и говорило – кричало! – об этом. Подростки могли и не убить его сына, но жизнь в сибирском поселке не была бы от этого менее страшной. Убийство Черешнева-младшего – лишь одно из проявлений, одно из следствий глубинных процессов.
Поэтому я и попытался выяснить у Румера, насколько происшедшее в Туркмении типично для нашего времени, как в тех событиях проявились люди.
Он сказал:
– Самое главное в этом деле не трагизм сам по себе. Оно настоящих героев нашего времени высветило. Один следователь чего стоит! После оглашения приговора он приехал в Москву добиваться его отмены. Причем за свой счет. Адвокат тоже самоотверженный… Займись, не пожалеешь. Люди – вот что здесь главное.
Уже вечером я позвонил ему домой и сказал, что берусь.
– Приходи завтра в редакцию, дам материалы, – сказал Румер с явным удовлетворением. – И телефоны. Созвонишься с адвокатом, с корреспондентами, которые были на процессах. Потом поедешь в Туркмению. Я рад, что ты согласился.
Так началось мое знакомство с делом Клименкина, предопределившее целый период моей жизни, приведшее к написанию повести, которая составила первую часть сего труда – «Высшую меру». Разумеется, я еще не предполагал тогда, какова будет ее судьба, но было обещано Румером, что «Литературная газета» скорее всего будет печатать повесть с продолжениями, как она не раз печатала уже материалы известнейших наших очеркистов.
И первый же герой будущей повести – адвокат Беднорц – мне очень понравился. Видный, красивый, он был похож, пожалуй, на киноактера, играющего положительные роли. Но понравился он мне не только своей внешностью. Всего часа за два он сжато и толково пересказал всю длиннейшую историю, от начала и до конца.
Да, встреча с первым же героем дела Клименкина подтвердила, что в плане «человеческого интереса» Румер был прав. Разговор с Беднорцем напомнил книгу, которая еще в юности сильно подействовала на меня. Эта книга – «Речи знаменитых французских адвокатов» – убедительно доказывала, что в жизни царствует, увы, не столько логика, сколько эмоции, а в суде это проявляется с особой наглядностью… «Речи известных русских адвокатов» я тогда еще не читал, но слышал, конечно, о знаменитом выступлении Ф. Н. Плевако, когда он речью, которая длилась меньше минуты, добился оправдательного приговора священнику, убившему свою жену.