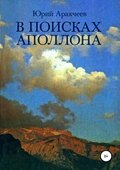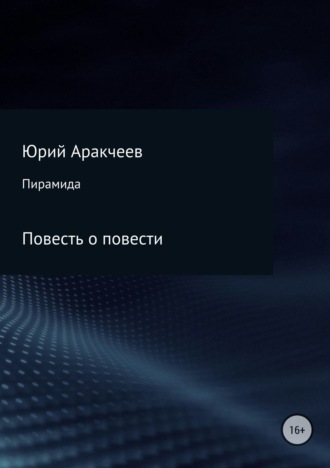
Юрий Сергеевич Аракчеев
Пирамида
Заседание бюро прозы
В конце года состоялось расширенное заседание бюро прозы Московской писательской организации, посвященное постановлению ЦК «О работе с творческой молодежью». Меня пригласили на это бюро.
На нем же присутствовал и Юрий Валентинович Трифонов.
Один за другим выступали писатели – и члены бюро, и так называемые «молодые» (никому из них, по-моему, не было меньше тридцати пяти, большинству же – сорок и больше), – и все, как один, говорили о том, что проблемы, конечно же, есть, но они исключительно успешно решаются, а теперь, после постановления, все будет и совсем прекрасно… Ну, члены бюро – ладно. А вот сами-то «молодые», наверняка идущие весьма тернистым путем, они-то почему? – с горечью и недоумением думал я. Чем больше я слушал, тем неприятней мне становилось. Эх, что терять! Я сидел рядом с Трифоновым, наклонился к нему и тихо спросил:
– Юрий Валентинович, врезать им?
– Что-что? – не понял он.
– Сказать по правде?
– Скажите. Врежьте.
Когда появился просвет между выступающими, я поднял руку, попросил слова.
И сказал, что слушать эти благополучные речи, конечно, приятно, однако действительность далеко не столь розовая сейчас, хотя постановление и принято. Отдельные успехи отдельных лиц, входящих в «обоймы» и присутствующих здесь, мало о чем говорят по существу. А вот я, к примеру, пришел сюда, на это добропорядочное бюро как с поля боя. Потому что в моей комнате коммунальной квартиры рядом с дверью на гвоздике висит молоток на проволочной петле. На всякий случай. Потому что сосед-алкоголик давно грозит меня зарезать, и драка уже была, и он в полутяжелом весе и невменяемый, когда пьяный, и дружков приводить любит… Самое любопытное: ситуация в чем-то схожа с той, что описана в моей повести. А повесть написана по заказу газеты, однако так и не напечатана по причинам все тем же. И все вы очень хорошо знаете, что положение такое не только у меня, кое-что подобное есть и у каждого из вас – ваши рукописи тоже корежат и маринуют годами. И вообще у нас гибнет много талантливых людей…
И я рассказал о своем друге, которого отчислили из Литературного института по творческой несостоятельности, хотя он был там одним из самых талантливых, если не самый талантливый.
А потом рассказал о художнике, который так и не смог пробиться и теперь уже вряд ли пробьется – серьезно болен. И о режиссере, которому не позволяют ставить фильм по тем произведениям и сценариям, по которым он хочет, он же не хочет снимать халтуру, которую от него требуют. И все трое, о которых я рассказал, молодые, сравнительно молодые, как это у нас принято, – им под сорок или за.
– Порочный круг получается, – сказал я. – Сокрытие правды о зле порождает зло в еще больших размерах.
Слушали, не перебивая, не останавливая, как ни странно. Потом выступил Юрий Трифонов, поддержав меня и сказав, что расплодились у нас во всех областях и в искусстве тоже многочисленные «группы, группки и группочки», отчего человеку, не принадлежащему к группе, практически невозможно пробиться, а люди талантливые, личности, как раз и не склонны объединяться в группы. Сокрытие же болезни, как известно, усугубляет болезнь…
Милиция
Выхода из ситуации с Парфеновым я не видел, но должно же было это как-то разрешиться. В конце концов были затронуты и соседи: в один из вечеров Жора, гоняясь за своей женой по квартире, оказался в комнате таксиста, где был маленький ребенок. Мы решили обратиться в милицию. И обратились – сначала к участковому устно, а потом и письменно: сочинили заявление с просьбой принять хоть какие-то меры. Мер принято не было, и в порыве гордого торжества жена Жоры заявила на кухне, что у них с Жорой, во-первых, знакомый врач, который всегда даст бюллетень, если надо, а во-вторых, в друзьях прокурор района. Так что зря, мол, стараетесь!
Что-то надо было делать. Мой сосед не собирался уступать, он, наоборот, наглел, малейшая попытка моя наладить отношения мирно встречалась с иезуитской усмешкой, он явно принимал мои попытки за слабость. Похоже, у него действительно появился смысл жизни… «Ну что, съел? Посадили меня хоть на сутки после вашего заявления? Учти, прокуратура занимается не моим делом, твоим. Мы еще посмотрим, какой ты советский человек…» – так высказался он уже не в пьяном виде, а в трезвом.
Увы, такие или похожие слова нередко произносились и в других местах, и по другим поводам. Слова «антисоветчик», «антисоветчина» витали в воздухе, довольно прочно вошли в наш обиход и приклеивались к людям с необыкновенной легкостью. Но совсем не легкой становилась жизнь тех, к кому эти слова относились.
Второе (а если быть точным, то уже третье) заявление начальник отделения милиции принял у меня совсем с другим видом, нежели первое. Очевидно, слова жены Жоры о знакомом прокуроре имели под собой какие-то основания. Выражение лица начальника было суровым.
– Вам нужно бы самим договориться, – сказал он и хмуро посмотрел на меня. – Побеседовали бы по душам, по-мужски, и дело с концом. Вы же не инвалид какой-нибудь. Даже боксом занимаетесь как будто?
– Да ведь беседовали уже, – сказал я. – Вы что хотите, чтобы я тоже своих дружков собрал? Ведь это может плохо кончиться, вам не кажется?
– Вот когда плохо кончится, тогда и придете, – сказал он и засмеялся.
Шутки – это, конечно, очень хорошо, я люблю юмор. Но тут мне что-то не хотелось смеяться. Так ни с чем я и ушел из милиции.
Конечно, ситуация была нелепой и вызывала досаду. Однако почти каждый из моих знакомых относился к ней вполне серьезно и припоминал нечто подобное из своей жизни или из жизни окружающих. Рассказ одной молодой женщины запомнился особенно. Она тоже жила в коммуналке, только там было не семь семей, как у нас, а две. То есть одна семья – это она с ребенком, а другая – алкоголик с женой. Жену он избивал регулярно, до крови, до потери сознания, а когда моя знакомая заявила наконец в милицию, то сосед пригрозил изуродовать вместе со своей женой и ее. Спасла ее чугунная сковородка, которой она хлопнула в конце концов по голове своего соседа. Не убила, слава богу, но вырубила. Он упал без сознания, и тотчас она вызвала милицию. Она и раньше, как уже сказано, ходила в милицию, написала несколько заявлений, на которые реагировали приблизительно так же, как на наши, но на этот раз была кровь и у нее, и у соседа, и у его жены, которая тоже лежала в беспамятстве. Помогло это, а еще то, что как раз тогда проводилась очередная кампания против пьянства, а оба супруга были, как установила экспертиза, «в сильной степени опьянения». Молодой матери с ребенком дали комнату за выездом в другой квартире, где она благополучно живет до сих пор…
Помощь мне пришла от Виталия Андреевича и редактора сельхозотдела «Правды».
По совету первого я все рассказал второму и грустно пошутил, что могу не успеть закончить третий очерк, над которым работаю.
Редактор предложил написать заявление на имя председателя райисполкома и при мне же позвонил ему с просьбой принять меня и выслушать.
Знаю, сколько времени приходится ждать очереди на прием к председателю исполкома. Здесь же – после звонка – он принял меня немедленно, в тот же день. Ведь я был специальный корреспондент «Правды». Он вышел мне навстречу из-за стола, поздоровался за руку и усадил в кресло. Смотрел очень приветливо, хотя слегка настороженно – не знал, чего от меня ждать.
Ничего не объясняя, я подал ему заявление.
Читая, он хмурился все больше. Прочитав, тотчас нажал кнопку селекторной связи, сказав, что немедленно даст указания начальнику Управления внутренних дел исполкома.
– Безобразие! – с чувством сказал он. – У себя под боком не можем навести порядок…
– У вас еще есть вопросы ко мне? – сочувственно спросил он, так как начальника управления на месте не было.
– Нет, пока нет, – сказал я. – Пока только это.
– Идите спокойно, мы все сделаем. Я дам указание разобраться, все будет в порядке. Безобразие, до чего дошло…
Я вышел.
Дня через два в квартиру пришли человек семь дружинников во главе с сотрудниками милиции (я вспомнил, что в заявлении было слово «самбист»).
Не знаю, отбывал ли Жора пятнадцать суток, но в квартире больше не появлялся.
Однажды, приблизительно через месяц, я встретил Жору на улице, трезвого. Он с нескрываемым удивлением и уважением смотрел на меня. И никакой агрессии не исходило от него, вот ведь удивительно что! Даже ноздри, я заметил, не шевелились!
Да, все разрешилось. Но один вопрос меня беспокоит все же: а что, если бы я не был корреспондентом «Правды», если бы не стал звонить редактор отдела председателю исполкома? Что было бы, если Жора, войдя во вкус, попытался однажды осуществить свою угрозу? И каково другим – тем, кто попадает в подобные переделки, а моими возможностями не обладает?
Второй круг чтения
В декабре 1976 года вышел мой третий «портретный» очерк в «Правде», однако дело с повестью не двигалось. Однажды я все же зашел в газету побеседовать с Румером, тут же присутствовал сотрудник из другого отдела. Он заинтересовался повестью и попросил рукопись почитать.
Я дал ему. На другой день рано утром он мне позвонил.
– Я не звонил вам ночью, потому что знаю, что вы живете в коммунальной квартире. Я вчера же прочитал. До двух ночи читал. Долго не мог уснуть, хотелось позвонить тотчас… Это настоящая советская вещь, острая и принципиальная. Сейчас я иду на работу в редакцию и сегодня же дам первому заму. Попробуем еще раз. Она должна быть напечатана!
Излишне говорить, что я чувствовал…
Если раньше неделями, месяцами я ожидал прочтения – только прочтения! – то здесь за два дня прочитали оба зама главного и заведующий отделом газеты – тем самым, в который входил и упомянутый выше публицист, и зав. отделом сам позвонил мне домой и очень вежливо спросил, когда я смогу прийти в редакцию (то есть звучало это так, что, мол, когда я соизволю…), и добавил, что лучше бы поскорее.
Когда я пришел, он выразил свое удовлетворение, чуть ли не восхищение повестью и желание ее обязательно напечатать в газете. Но – «увы, тут ничего не поделаешь», – сказал он – ее нужно все-таки сократить до сорока‑пятидесяти страниц, не более. В таком виде, как сейчас, давать главному бесполезно: он и читать не станет, когда увидит объем.
И он как будто бы даже уговаривал меня сократить, объясняя, что понимает, конечно, опасность – повесть может пострадать, лишнего там ничего как будто бы нет, – но все же нужно бы мне на это пойти.
– В журнале вы, конечно, напечатаете все, для журнала такой объем в самый раз. Но для вас очень важно напечататься сначала у нас в газете, это ведь такая авторитетная трибуна…
Я не верил своим ушам: неужели может так быть? Он действительно как будто даже уговаривал меня, и он смотрел на меня с уважением.
И… я согласился и немедленно принялся за сокращение.
Поражение
Увы. И эти хлопоты оказались пустыми. Не буду утомлять описаниями новых переделок и чтений. Скажу только, что, по словам заведующего того отдела, по которому теперь шла «Высшая мера», все замы были «за». Повесть оказалась у главного. Тот прочитал и сказал одно только слово: «нет».
Дальше идти было некуда.
Дал я рукопись – последний из «длинных» вариантов – в один «толстый» журнал. Она там тоже «очень понравилась». Сказали: «Ждите. Будем думать, как быть с вашей повестью». Но главному редактору читать почему-то не давали…
Повесть «Высшая мера» (как и роман «на молодежную тему», как повесть, отвергнутая одним «доброжелательным критиком», как многие рассказы) везде нравилась, везде оценивали ее «по большому счету», говорили, что это «очень нужная и очень современная литература факта», но… не печатали.
Произошло, правда, важное событие в моей жизни: от Союза писателей дали квартиру «за выездом». Отдельную однокомнатную квартиру. В старом доме, но вполне приличную и в хорошем районе. Ну, теперь-то мы поработаем, утешал я себя.
Переехал я в конце октября, а в один из декабрьских вечеров раздался звонок в дверь, и в мою новую квартиру вошел… Каспаров! Виктор Каспаров, один из главных героев повести моей, упорный правдоискатель, защитник несправедливо осужденного Клименкина! Он был не один, с Василием Железновым, тоже участником событий, упомянутых в повести.
– Я приехал за помощью, Юрий Сергеевич, – сказал он, и только тут я увидел странное какое-то выражение на его лице. – На меня наклепали дело. За мной охотится прокуратура… Нужна ваша помощь.
Часть пятая. Надежда
Месть
Никогда сокрытие мрачной правды не спасает от бед. Скрывающий правду – от себя ли, от тех, кого эта правда касается, – отказывается, в сущности, от борьбы, разоружается и уже как бы признает свое поражение. А те, кто заинтересован в неправде, получают «режим наибольшего благоприятствования». Торжествуют грубая сила и разрушение.
Виктор Каспаров рассказал следующее. В Мары произошла авария – перевернулся автобус с детьми. Несколько человек погибло. Естественно, стали искать виновных. И конечно же, им был водитель автобуса, тоже пострадавший, попавший в больницу. У него оказалось удостоверение водителя второго класса. Нашелся человек, который заявил, что водитель не заканчивал курсов по повышению классности с третьего на второй, а удостоверение получил с помощью Каспарова за взятку в размере 200 рублей.
Каспарова вызвал следователь, объявил, в чем он, Каспаров, подозревается, и приказал никуда не уезжать, так как на него заводится уголовное дело.
С самого начала дело это было сомнительным, потому что водитель и без удостоверения, полученного с помощью Каспарова, имел право перевозить детей и перевозил. Какое же отношение к аварии имеет Каспаров? Но сам факт привлечения Каспарова к суду в связи с делом об аварии говорил о многом. Правдами и неправдами доказав взятку, они свяжут ее с гибелью школьников, а там…
Обычаи и нравы местной милиции и прокуратуры Каспаров знал по делу Клименкина слишком хорошо и… не выдержал.
Он опять поехал в Москву искать правды и защиты. Теперь для себя.
Его трудно было узнать. Лицо бледное, глаза как-то погасли и блуждали, не останавливаясь, ничего не осталось от его решительного, прямого взгляда… Рассказывая, он машинально перескакивал с предмета на предмет, мне стоило большого труда понять, что же все-таки произошло. Помог Василий Железнов. Похоже, он поехал с ним как сопровождающий – для поддержки.
Это опять была какая-то мистика, чертовщина. Каспаров – и взятка? Такое не укладывалось в голове. Однако жизнь научила: доверяй, но проверяй, не тешь себя иллюзиями, не ослепляй предвзятостью. И я тотчас, впрямую – как он сам когда-то Клименкина (на первом допросе) – спросил его:
– Скажи честно, брал? Я помогу тебе в любом случае, помогу чем только смогу, но все же мне важен факт: брал?
Вот она, вот она опять – то ли ирония, то ли усмешка, то ли высшая справедливость судьбы! Он был сейчас передо мной в роли Клименкина, а я в его роли, «инспектора и защитника» – ситуация похожая на ту, что была в Туркмении семь лет назад…
– Нет, не брал, – сказал он, – ложь это. Они накрутили.
Ложь, конечно, ложь, и не связано с аварией, но опять – точно так же, как в истории с Клименкиным! – не в самом факте взятки даже было дело. Сам факт интересовал меня лишь чисто психологически… Дьявольский ход был найден противниками: уличить, поймать на том, в чем сами бесконечно грешны. Стянуть на свой низкий уровень – и растоптать.
Представляю, с каким злорадством занимались этим делом ревнители тамошнего «правосудия», это не просто наслаждение было для них. Это был восторг и победа. Они и душу отводили, они и утверждали себя. И заботились о своей безопасности. Тот, кто когда-то так решительно и бесстрашно восстал против их системы ценностей, против «двойной» их справедливости (для других – одна, для нас – другая) – он теперь был в их руках, он оказался таким же, хотя все еще не признавался в этом. Так заставить! Раздавить! Ату его!..
Ясно, что это была месть. Долго ждали они. И дождались.
Боялись, наверное, выступления газеты. Ведь приезжали же корреспонденты из Москвы. Но время прошло, а в печати ничего не выходило.
Значит, можно.
Ату его!..
«Волки гонят оленя»
Все это я подумал сразу. Хотя и были еще сомнения. Мало ли… Ведь всех тонкостей дела я не знаю. А вдруг и на самом деле здесь что-то нечисто?
И вот не могу удержаться, чтобы не привести чье-то стихотворение, которое прочитал мне мой друг по памяти:
Волки гонят оленя. Волки гонят оленя.
Волки знают, что он устанет.
А может быть, встать на колени?
Попросить пощады у стаи?
Близко серая стая… Близко серая стая…
Вот обходит его волчица…
А может, это игра такая?
Может быть, ничего не случится?
А может, зря говорят про волков?
А вдруг они не враги?
Но древний опыт веков, всех веков
Беги! – говорит. – Беги!
Волки гонят оленя,
Волки знают, что он устанет.
Над равниной заря алеет,
А в его глазах – ночь густая…
Каспаров производил впечатление загнанного… Но, может быть, он преувеличивает? Может быть, ничего не случится? Так думал я. Но не он. У него был большой опыт в отношениях со следователями и милицией – не то что у меня (с одной стороны – Жора Парфенов, с другой – газета Центрального Комитета КПСС). Он хорошо знал, что они делали с Клименкиным, с Анатолием Семеновым и с другими – теми, о которых он тоже знал, но которые никак не причастны были к делу Клименкина.
Потому что безнаказанность. Потому что «угрызения совести начинаются там, где кончается безнаказанность». А она не кончалась. Она, наоборот, торжествовала! Вот ведь и адвокат из Москвы приезжал, и корреспонденты один за другим, и даже пленум был, ну и что? Съели? Клименкина освободили, ладно уж, хватайте эту «кость», подавитесь. А в остальном… Семенова сжевали, теперь и еще одного сжуем!
Он периодически вздрагивал – дрожь волнами ходила по его телу, я хорошо знаю это состояние, у меня бывало. Состояние загнанности, когда ты – один, а их – много. Василий Железнов не спускал с него глаз, как с ребенка.
– Тихо, Виктор, – сказал я. – Погоди. Сначала надо успокоиться. Ты же знаешь. Помнишь, что ты говорил Семенову?..
Тут я осекся. Этого нельзя было говорить, тут я дал маху. И пытался поправить дело бодростью тона.
– Ты – гражданин Союза, запомни это. Страх – самый главный наш враг. Слушай внимательно. Надо встретиться с Беднорцем, это раз. Ты не встречался с ним? Ну вот, обязательно с ним. А главное: все четко напиши, чтобы было твое письменное объяснение, понял? Тогда нам легче будет тебе помочь. Я вот что сделаю: напишу, во-первых, письмо Аллакову, я слышал, что он теперь член Верховного суда республики. Эх, жалко, что не вышла повесть – он ведь там один из героев, легче мне было бы… – ну да ладно. Затем – письмо главному редактору газеты – он в курсе дела Клименкина, если повесть не печатает, пусть хоть так поможет. Потом…
Рассказывая и слушая меня, он ходил по комнате, часто наклонялся и ковырял что-то на полу.
– Ты что делаешь? – спросил я наконец.
– А пятна у тебя, – сказал он. – На полу пятна. Краска, что ли, осталась. Я не люблю, когда пятна. Я и дома слежу, чтобы пятен не было…
Они с Василием переночевали у меня, а потом поехали в гостиницу, где Виктор должен был написать объяснение.
На несколько дней он исчез, а потом от Беднорца я узнал, что он улетел обратно в Мары. Объяснения он так и не написал. Мы думали, что, может быть, все обойдется.
Начался новый, 1978 год. От Каспарова не было вестей. Дела с «Высшей мерой» не двигались.
Звонок
Было около девяти утра. Встал я поздно и только еще собирался сесть за работу. Зазвонил телефон, я взял трубку.
– Юрий Сергеевич? Это из Комитета государственной безопасности, Санин Владимир Николаевич. Здравствуйте.
– Здравствуйте…
Естественно, что я растерялся: такой звонок был в моей жизни впервые. С «органами» я дела пока не имел, но был наслышан, как все, так что вежливый мужской этот голос произвел впечатление очень сильное.
– Нам бы нужно встретиться с вами по двум вопросам, – продолжал голос как ни в чем не бывало. – Один свежий, а один – давний. Я и раньше собирался с вами связаться. Когда бы вы могли?
– Когда хотите, – ответил я, понимая, что работать мне теперь не удастся, и стараясь придать своему голосу уверенности. – Хоть сегодня.
– Можете сегодня? Хорошо. Во сколько?
И мы договорились на двенадцать.
Надо ли объяснять, что я чувствовал?.. Моей семьи не коснулся в сильной степени меч «борьбы с вредными насекомыми», «врагами народа» – хотя и выслали кое-каких родственников на Урал, а одну из самых близких мне в сиротском детстве – бабушку, оставили, может быть, только из-за решительного и безрассудно смелого вмешательства комсомолки-школьницы, моей двоюродной сестры. Это ее мужественный поступок сохранился в скудной нашей семейной летописи: когда бабушке прислали повестку, моя сестра – было ей тогда лет шестнадцать – смело пошла вместо нее на Лубянку и сказала, что это форменное безобразие, бабушка – человек вполне советский… Обычно подобные демарши в то время не проходили, сестра запросто могла остаться в тех же стенах и обеспечить лишнюю «галочку» деловитым следователям, выполняющим свой нелегкий план, но этот почему-то прошел; и сестра вернулась домой, и бабушку больше не трогали.
В моей жизни подобного не было, хотя было много другого, но я твердо уяснил себе, о чем уже говорил и здесь: самое страшное – страх. В страхе человек теряет себя и уже не может пользоваться даже теми возможностями самозащиты, которые в любом положении все же есть.
Но теперь, положив телефонную трубку, я чувствовал себя неуютно. Мало ли… Тут мне, конечно, вспомнился Бойченко, его присказка, переданная Беднорцем: «Был бы человек, а дело найдется».
И хотелось как можно быстрее встретиться с Саниным. Чего тянуть?
А перед самой встречей к близкому приятелю забежал: на всякий случай предупредить. И посоветоваться. Он дал мне совет такой: при встрече спросить у него удостоверение. Как-то всегда мы забываем об этом. А ведь могут быть и провокации. Кроме того, мое требование придаст мне уверенности.
Итак, собравшись внутренне, я отправился на встречу с представителем грозной организации.
Встреча
Санин Владимир Николаевич (его имя я тоже изменил, что, конечно, естественно) оказался довольно молодым человеком лет тридцати пяти – сорока, не больше. Стройным, приятной внешности. Мы встретились на улице.
– Похож, похож на фотографию в журнале… – с улыбкой сказал он.
Как раз незадолго до встречи действительно вышел журнал с двумя моими рассказами и фотографией, которая мне, правда, не нравилась.
Вежливо улыбнувшись ему в ответ, я, однако, не забыл совет своего приятеля и очень вежливо попросил предъявить удостоверение.
– Извините, – сказал я, – но ведь всякое может быть. Бывают и провокации…
Владимир Николаевич слегка изменился в лице, но удостоверение показал. Показал ему и я свой билет Союза писателей, чтоб соблюсти, так сказать, ритуал.
– О чем будем говорить? – спросил я, изо всех сил стараясь сохранить спокойствие и достоинство.
– Давайте пройдем в кафе – здесь недалеко. Кстати и кофе попьем, – сказал Владимир Николаевич спокойно.
Естественно, у меня мелькнула мыслишка: «Знаем, какое кафе!», но я безжалостно ее отогнал. И правильно. Мы действительно вошли в небольшое кафе, где было совсем мало народу и оказался свободный столик. Владимир Николаевич сел и изящно облокотился на стол.
– Не к чему вызывать в кабинет, правда ведь? – сказал он, опять с улыбкой взглянув на меня и, очевидно, поняв мои мысли. – Там обстановка настраивает не так. Давит на психику.
Настороженность моя не прошла, но я почувствовал, что Владимир Николаевич, как это ни странно, начинает мне нравиться. Улыбка у него была как бы даже мальчишеская и, по-моему, без всякой скрытой многозначительности.
– Ну, так слушаю вас, – сказал я.
Владимир Николаевич посмотрел на меня и опять улыбнулся. Он, видимо, очень хорошо понимал мое состояние, но, похоже, не собирался ни пользоваться им, ни иронизировать.
– Сейчас, – сказал он. – Только кофе закажем.
Подошла официантка, он заказал кофе и два пирожных.
Мне потом говорили – да я и сам тогда понимал, – что производить хорошее впечатление, вызывать симпатию и чувство доверия – профессиональный долг людей этой профессии. Тем не менее я внимательно прислушивался к своим ощущениям и чувствовал, что мой инстинкт самосохранения молчит, чувства опасности не возникает. Может быть, потому, что не было в Санине ни какой-то чрезмерной вежливости, ни сахарной сентиментальности, ни тупой многозначительности. Была простота и легкий оттенок понимания и сочувствия.
Официантка отошла, а Владимир Николаевич спокойно достал из бокового кармана пиджака небольшую фотографию и протянул мне:
– Вы знакомы с этим человеком?
На фотографии был Каспаров!
– Конечно, – не задумываясь, сказал я. – Это Виктор Каспаров, герой моей повести. Положительный герой, – добавил я на всякий случай.
– Положительный? – Владимир Николаевич с искренним, как мне показалось, недоумением смотрел на меня.
– Да, положительный, – утвердительно кивнул я. – Один из самых главных. Если не самый главный.
– Вот так номер. – Владимир Николаевич, все так же недоумевая, покачал головой. – Вы давно виделись с ним?
– Недавно. Он был у меня как раз перед Новым годом. В декабре.
– Был у вас? Дома? А зачем?
Владимир Николаевич, как мне показалось, заметил, что его вопрос прозвучал на этот раз слишком официально, и тут же добавил:
– Видите ли, его разыскивает милиция. Это странно – то, что вы сказали. Положительный герой?.. Но зачем же он все-таки приезжал, если не секрет?
Тут я, как мог, коротко, рассказал о деле Клименкина, о роли в нем Каспарова. Сказал и то, что повесть давно написана, но ее никак не печатают, а теперь вот новое происшествие с ним, и на него накручивают дело, хотя он никоим образом не причастен к автобусной аварии. Ясно, что это – месть, попытка свести старые счеты.
Владимир Николаевич слушал меня с нескрываемым интересом. Я подумал: а что, если дать ему повесть? Вдруг это поможет Каспарову?
– Каспарову нужно помочь, – сказал я. – Вы сами убедитесь, если прочитаете повесть. Она строго документальна. Хотите?
– Что ж, хорошо, – живо откликнулся Владимир Николаевич. – Конечно. Когда вы сможете дать мне рукопись?
– Хоть сегодня, хоть завтра, когда вам удобно, – сказал я.
– Договорились. Я прочту, а тогда подумаем, что делать дальше. Может быть, вы правы, и ему действительно нужно помочь. Бывает, что милиция да и прокуратура творят не совсем хорошие дела, особенно на местах. Правда, вот что неясно: зачем он скрывается? Ведь объявили всесоюзный розыск и даже нас подключили.
– А теперь второй вопрос, давний, – сказал Владимир Николаевич, помолчав. – Скажите, что, по-вашему, нужно сделать, чтобы пресечь или как-то ограничить хотя бы самостоятельную цензуру редакторов в журналах и издательствах? – Он внимательно и открыто посмотрел на меня. – Как бороться с тем, что они берут на себя больше, чем нужно? Вы же знаете, наверное, что спрос на нашу литературу на международном рынке весьма невысок сейчас, мы не выдерживаем конкуренции с зарубежными издательствами. И с молодой литературой проблема остра, пробиться молодым нелегко. Не случайно ведь и постановление принято. Что вы думаете по этому поводу?
Я даже слегка опешил. Для меня этот вопрос стоял во весь свой рост очень давно, но вот то, что он беспокоил Владимира Николаевича, показалось мне поначалу весьма удивительным. Неужели он этого не понимает? Да, были разговоры о том, что якобы цензуру у нас отменили, но ведь… За малейшее упущение, за пропуск в печать не то что книги, а одного только «сомнительного» в идейном отношении выражения редактора могут снять немедленно, никакой защиты от произвола у него просто-напросто нет. Какой же смелости можно ждать от него в этих условиях? Конечно, я сам считал, что редакторы перестраховываются, но…
Владимир Николаевич тем не менее смотрел на меня так открыто, так искренне, что я подумал: а вдруг? Эх, что терять! В конце концов в решающие моменты просто необходимо говорить то, что на самом деле думаешь – вдруг это как раз и поможет делу. И потом… Командировки, поездки, многочисленные встречи с людьми не раз убеждали меня: везде, в любой сфере деятельности, на любом должностном и профессиональном уровне всегда можно встретить как бессовестного, корыстного, циничного человека, так и вполне честного и порядочного. Разные ведь причины приводят разных людей в ту или иную сферу деятельности, так что… А Владимир Николаевич явно вызывал у меня доверие.
И я… начал. Попытался-таки высказаться по самому больному вопросу. На самом деле: что терять?
Владимир Николаевич слушал меня, сначала одобрительно кивая, а потом в растерянности поднимая брови – когда я предложил сократить некоторые инстанции и расформировать некоторые организации.
– Пожалуй, я согласен с вами, вы меня убедили, но… Скажите, а… Многие думают, как вы? – спросил он и тут же тактично поправился: – Нет-нет, не нужно никаких фамилий, поймите меня правильно. А просто: многие ли разделяют вашу точку зрения?
Я сказал, что да, многие, я в этом уверен.
– Кстати, – добавил я, – совсем недавно, на днях, любопытную сценку я видел, вернее, даже участником ее стал. В метро. Хотите расскажу вам?
Владимир Николаевич согласно кивнул, и я рассказал.
…Уже много раз замечал я, что на переходе со станции метро «Курская-кольцевая» на «Курскую-радиальную» постоянно происходит путаница в движении густого потока пассажиров, особенно в часы «пик». На мой взгляд, это происходит по простейшей причине: вывеска «ВХОДА НЕТ» повешена в одном месте так, что ее просто-напросто не видно – пассажиры идут и встречаются с густым встречным потоком. Возникает раздражение, подчас перерастающее в ненависть, толчки, оскорбления, угрозы. Причина же, как часто бывает, плевая, и однажды я, осененный простой этой мыслью и движимый чувством элементарной гражданской активности, подошел к дежурному по станции и попытался высказать свои вполне простые соображения.
Увы, не на того напал. Эта женщина в форменной одежде настолько, очевидно, привыкла к полной безгласности «пассажиро‑потока», что встретила мое обращение к ней недоуменным и настороженно-бдительным взглядом. Она и слушать меня не стала, когда поняла, что я хочу что-то предложить, что-то посоветовать. А кто я, собственно, такой? Может быть, скрытый злоумышленник? И не позвать ли вообще милицию? Она чеканно ответила мне, что это не мое дело и чтобы я… Ну, в общем, ясно.
Самым же интересным оказалось другое. Дело в том, что во время короткого нашего диалога с дежурной рядом остановился мужчина этакого неопределенного возраста и невыразительной внешности, одетый тоже как-то средне. Он самым внимательным образом следил за нашим разговором, а когда дежурная, подняв вверх подбородок и сказав что-то резкое на прощание, демонстративно пошла от меня прочь, он приблизился, робко тронул меня за рукав и сказал тихо, оглядываясь: