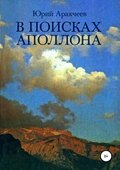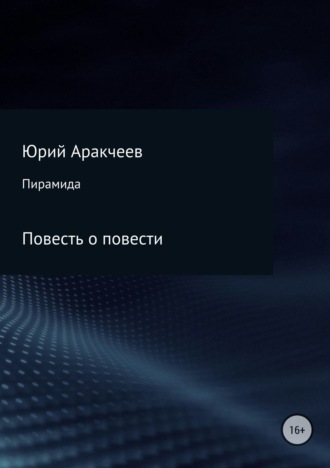
Юрий Сергеевич Аракчеев
Пирамида
Летописец, судья, прокурор-адвокат, следователь, подсудимый…
С трудом, с огромным трудом шла поначалу работа. Легко сказать: свидетельство, летопись. А что выбрать? Ведь вокруг столько событий, и все они связаны друг с другом. Что же касается дела Клименкина, то большой материал не был еще до конца осмыслен, а так как я сочинял не просто повесть, а документальную, то обязан был придерживаться фактов.
Если писатель фантазирует, то он свободен. Конечно, и тут необходимо знание жизненных закономерностей, иначе фантазия твоя не будет правдоподобной. Но, родив своих персонажей, ты можешь в конце концов уже отдаться им, следовать их самостоятельно развивающимся характерам и как бы записывать то, что делают они в твоем воображении уже сами по себе. Лев Толстой любил вспоминать слова Пушкина: «Какую штуку удрала со мной моя Татьяна! Она – замуж вышла! Этого я никак не ожидал от нее». Такое, основанное на воображении, творчество прекрасно, оно, конечно, имеет свои трудности, но, как мне кажется, эти трудности подчас бледнеют по сравнению с теми, какие подстерегают, если вы возьметесь за честное, искреннее документально-художественное произведение.
Работая над «Высшей мерой», я вынужден был пытаться воссоздавать действительность. Не зная людей, не имея возможности заглянуть в их внутренний мир, стать на какое-то время ими в действительности, я тем не менее обязан был отобразить их внутренний мир, причем без грубой ошибки, причем в конкретной ситуации, которая на самом деле была. То есть необходим был дар прозрения, видения реальности, а не просто дар фантазии. Нужно было понять логику поступков конкретных живых людей, логику характеров… С одной стороны – конечно, типы. С другой – люди конкретные, живые.
Логика событий, характеров должна была привести к заведомо известному результату – вот в чем еще трудность. И результат этот, и все происшедшее необходимо было настолько осмыслить, чтобы повествование не было равнодушной регистрацией событий, чтобы проявился в нем автор, чтобы был он и гидом, и оценщиком событий. Оценщиком справедливым потому тем более, что ведь каждый из персонажей реален, и коли ты своим произведением все же судишь, то и будешь судим каждым из них.
Отказаться же от суда нельзя. Отказаться – это быть «постыдно равнодушным» к добру и злу. Каков же выход?
Ну, конечно, он в том, чтобы постараться понять каждого человека, каждого из участников, понять и вину, и беду, взвесить.
Не только свидетель-летописец. Еще и судья.
Но судья в народном суде одного подсудимого судит. Ты же, писатель, человек, судишь всех. И самого себя – тоже. И каждого ты должен судить с разных сторон, взвесить все «за» и «против». И отягчающие, и смягчающие вину обстоятельства ты должен взвесить сам, а значит, и адвокатом, и прокурором ты должен время от времени становиться.
Адвокат – личное. Прокурор – общее. Адвокат представляет интересы подсудимого, то есть личности. Прокурор выступает от имени общества. И в каждом из нас оба, потому что каждый из нас и личность, и член общества одновременно. Нам жалко преступника, если мы по-человечески можем понять его, учесть все его трудные обстоятельства, все оправдывающие его мотивы. Но как только мы становимся на точку зрения жертвы и себя, как потенциальной жертвы, не так уж и много остается от нашего сочувствия подсудимому. Колеблются весы, перетягивает то одна чаша, то другая, в зависимости от того, на какую позицию мы становимся, куда себя примеряем… Адвокат – прокурор, прокурор – адвокат…
Но и следователем должен уметь стать писатель, коли взялся за документальное повествование. Конечно, у судебного следователя более узкая, более конкретная задача. Ему достаточно установить факт события и распределение ролей участников. Общие закономерности для него вовсе не главное. Ведь конкретное событие может и не подчиняться общим закономерностям, оно может быть даже, наоборот, исключением из них. Следователь, таким образом, раб происшедшего, раб факта. Но тем самым он и свободен: установил факт – и дело с концом.
Писателю факт – не указ. Факт события писателю, разумеется, интересен, но он идет дальше факта. Ведь сам по себе факт так относителен… Истина может не только не соответствовать факту, но даже противоречить ему. В том-то и сложность души человеческой, что она многозначна, что один и тот же факт может свидетельствовать о разном – в зависимости от состояния души, представления ее о добре и зле, от тысячи обстоятельств. Все логические построения, касаемые конкретного человека и конкретного факта, могут оказаться ошибкой… И все-таки. И все-таки писателю-документалисту никуда не деться от факта, от механики происшедшего, для чего и нужно быть следователем тоже. Да, судим, все же судим. И тут никуда не денешься. Как же иначе сказать «да» или «нет» добру и злу? Хотим мы или не хотим, но мы всегда судим. Не голова, так совесть. Не совесть, так голова. Оцениваем всегда. Примеряем. Да и нет ничего плохого в суде, если примеряем мы на себя, если судим так, как хотели бы, чтобы судили нас. А следовательно, писатель всегда еще и подсудимый…
Читаю записи свои того времени – времени написания повести – и что же вижу? Боже мой, какое переплетение всего, какое биение огонька мысли в хаосе привходящих больших и маленьких обстоятельств, дел, событий, встреч, попыток, желаний, догадок, слов… Да ведь такова она и есть, жизнь каждого человека. И если огонек все же освещает что-то, если намечается линия и не прерывается, то в ней самая ценность и есть. Именно если в хаосе: как живой стебелек растеньица из земли… И линию вижу. Да ведь написана же повесть в конце концов. И отражено в ней кое-что. Значит, была линия! Да не только повесть написана, многое тогда думалось и писалось – разные были всходы, кое-что и выросло… Читая теперь, думаю и вижу: чудом пробился. Чудом из этого хаоса… Значит, двигало что-то.
И тем ценнее, тем ярче искры, которые все же в жизни бывают. Ведь и радость, может быть, как раз и в этих вот метаниях тоже – в поиске, в самоопределении, в борьбе – за стебелек, за огонек, чтоб вырос, чтоб не погас – это и есть нормальная жизнь, может быть… Это и есть приобретение знания.
И вот для примера привожу один свой сон того времени, записанный честно утром – на другой же день был этот сон, после того, как я вымучил первые строчки повести.
Сон
…Сначала был сильнейший дождь и гроза. Дождь такой, что выставленная на улицу банка наполнялась на глазах… За городом мы (кто был со мной, не помню), в каком-то деревянном дачном доме. Я выхожу посмотреть на дождь. Небо заволокло напрочь – тяжелые темные тучи. Тревога, ожидание меткой молнии, но молний почему-то нет. И вот невдалеке, почти над крышей нашего домика пролетело быстро очень странное облако – как черное покрывало. Пролетело слева направо (я подумал еще, что оно напоминает ската – морского кота) и как будто бы приземлилось невдалеке. И там раздался взрыв и взметнулось пламя…
Потом началось что-то совсем непонятное – еще какие-то беспорядочные взрывы, – и наконец к нашему дому подъехало нечто напоминающее танкетку, только необычной формы – угловато-круглое. Из «танкетки» вышли люди в необычных скафандрах… Они схватили нас (так и не помню, кто был со мной), а потом выбрали почему-то меня. Я с ужасом ждал, что будут делать. Один надел мешок на мои ноги до пояса и зачем-то прочертил мелом от конца одной ноги, вверх до сращения и опять вниз до конца – этакую «арку». Во время этой процедуры я говорил с человеком в скафандре, он ответил мне довольно свободно (одновременно деловито занимаясь со мной), и выяснилось, что это – инопланетяне, они завоевывают нашу Землю (почти завоевали), а в это время наши уже завоевали их планету. «Ваши уже захватили нашу планету», – сказал он.
И резанул меня парадокс этот: завоевывает эту, чужую им землю, круша наши здания и все другое, а наши земляне завоевывают, уже завоевали их. «Какая бессмыслица!» – сказал я. И он, похоже, со мной согласился. Тем не менее, нарисовав арку, взял какой-то мешок, напомнивший мне большую грелку, положил мне на живот, пригнув к животу прямые мои ноги и сверху упаковал меня, надев еще один мешок. И оставил. Неудобно было, больно, но от его «грелки», похоже, в мешке можно было дышать – кислород, может быть, подумал я.
Лежа в мешке, беспомощный, я почему-то видел, что творится снаружи. Пролетело нечто, похожее на самолет (катамаранного вида – «рама»), и под ним внизу рушилось все, все объекты, хотя ни выстрелов, ни бомб не было видно. Еще одна похожая штука…
Наши овладели их планетой, а они овладевают нашей прекрасной родной Землей… Овладевают, уничтожая…
Потом меня перетащили к крыльцу, и туда же доставили несколько человек еще, в основном женщин. Ждали отправки на «танкетке» в лагерь (где-то в районе приземления «морского кота»). И должны были взять нас рано утром.
А потом я почему-то получил возможность двигаться, вошел в дом. Там были старушка и ребенок. И я как будто бы провел у них ночь (все в тумане всеобщей катастрофы). Вышел утром на крыльцо – ни людей, ни танкетки поблизости. Необычайная тишина. Все разрушено, кроме нашего домика и почему-то соседнего. Я понял, что они уехали, и я остался один. На свободе. Свидетель.
Первым делом нужно было найти что-нибудь поесть. И спички в дорогу. Я понял, что я свидетель, и в этом моя роль, я должен идти и смотреть. Зашел в соседний домик…
А когда проснулся окончательно и принялся осмысливать сон, то понимал все больше и больше: сон не случаен, как в притче, в нем много смысла современного.
Письмо матери
А тут как раз пришли письма из Куйбышева Новосибирской области, от Клименкиных. Письмо человека, особенно если оно касается важной для него темы, а еще более особенно если он не рассчитывает ни на какое его опубликование, а просто выражает свои мысли и чувства другому, – любопытнейший человеческий документ. Тут очень многое говорит о его авторе…
Письма Клименкиных настолько выразительны сами по себе, что хочу привести их как документы – полностью. А первым письмо матери, Татьяны Васильевны.
«Уважаемый Юрий Сергеевич! Извините нас, что мы задержали Вам ответ, ребята уехали в отпуск, Витя со Светланой, ждем их уже домой, а я вот решила пока одна написать Вам. Начинаю писать и уже волнуюсь (выпила элениум, собралась с духом). 1 мая 1970 года мы от Светланы получили телеграмму, что Виктор под следствием, 12 мая я выехала в Туркмению. 16 или 18 мая была у следователя линейного отд. милиции Ахатова, дело было еще у него, он вел мне допрос, около дела было 5 руб. Ахатов мне сказал, что «из-за этих денег сын убил женщину». Из разговора с ним я знала, были бы у меня деньги – Виктор был бы на свободе, но таких денег у меня не было, я сказала, что я так постараюсь добиться правды, я знаю, что сын не виноват, он засмеялся и сказал: «Добейтесь, добейтесь». Я поехала в Ашхабад, была у прокурора Григорьева, он вызвал при мне зонального прокурора Таисию Федоровну и велел ей взять это дело под контроль, была я у ребят в общежитии, уехала домой и думала, что разберутся все же. Получила повестку на 28 августа на суд, полетела в Мары, узнала, что грозит сыну, разговаривала с адвокатом Бекмурадовым, который участвовал в следствии, но 27 августа перед процессом адвоката заменили, дали Агаджаева, который до суда не видел подзащитного и не разговаривал с ним. Судебный процесс длился всего 4 часа вместе с приговором. Это все было ужасно – страшно вспоминать, даже в кино и в книгах такого нет. Мне вызвали в суд «Скорую помощь», Виктору тоже было плохо, его очень рвало. Когда тот страшный конвой увез Виктора, меня завели в комнату (суд был в общежитии), было много народа, все возмущались, женщины плакали – это был «показательный суд». Я знаю, у нас судили убийцу – нашего соседа Монастырского (ваша газета писала статью), зал бушевал, хлопали, как читали приговор – высшая мера. А у нас было наоборот, сразу написали телеграмму в Москву (высылаю копию). На первом суде я видела Каспарова, но не разговаривала с ним. После суда я пыталась получить копию приговора, мне не дали, сказали, что дадут подсудимому. Зав. юридической консультацией мне сказал, что я зря еду в Москву, меня никто не примет без приговора, но я поехала. Сначала я была на приеме в Верховном Совете СССР, оттуда позвонили в Прокуратуру Союза, чтобы меня там приняли. Я была на приеме у зонального прокурора Ивановой, но надежды на нее у меня было мало, и я пошла в Верховный суд СССР, где встретила Каспарова, я его узнала, мы с ним поговорили, он сказал, что приехал в Москву по делам и возмущен такой несправедливостью в отношении Виктора и тоже будет обращаться в наши советские органы. Сначала я была у начальника приемной Ворошилова, он, конечно, не верил, что сын не виноват, что суд был всего 4 часа, что накануне суда заменили адвоката и т. д. Но все же позвонил, и меня принял член Верховного суда т. Дзенитис (я ему очень благодарна), он мне сказал, что затребует дело в Москву. 18 сентября 1970 года дело уже затребовала Москва. Из Москвы я полетела в Ашхабад, мне дали копию приговора, была в Мары, унесла передачу Виктору, поговорили обо всем со Светланой, Каспаров остался еще в Москве, и уехала домой в Куйбышев.
Причиной приостановки исполнения приговора послужило то, что нам встретились такие люди, как т. Дзенитис, Кузьмин – порядочные, честные, добросовестные. А главное, наверное, то, что такой человек, как Каспаров, включился в борьбу за справедливость, правду, несмотря на те гонения, шантаж, которые были против него в Мары. Мы будем всю жизнь благодарны Каспарову за спасение жизни Виктора, побольше бы на земле было таких смелых, справедливых, честных, порядочных людей – скорей бы достигли коммунизма. Самую положительную роль, мы считаем, сыграл Каспаров и еще сотрудники редакции «Литературной газеты» – т. Чаковский, Румер З. Ф., Измирский Ф. Я., Петрова С. Р. и т. Вознесенский. Ведь мы обращались во все газеты, журналы, и только одна «Литературная газета» откликнулась на наше горе. Мы им очень благодарны всем. Много сил, энергии, здоровья вложил в эту историю Рихард Францевич (я сама видела, как он перед процессом пил лекарство).
Я считаю, что Ахатов, защищая себя, вернее свой «мундир», старался обвинить Виктора, а еще более нагло, подло действовал Бойченко. Он вызвал повесткой меня на допрос, на следствие в Мары, я ехала 4 суток туда и обратно, на 30 минут, пытался обвинить меня в том, что я неправильно действую, везде пишу и езжу, и будет еще хуже, дал мне справку, что я была вызвана на допрос в качестве подозреваемой (справка у Рихарда Францевича). Я проездила полмесяца бесплатно, и такую дорогу оплачивать отказался, вообще вел себя очень нагло, вместе с Ахатовым сидел в линейном отделении милиции, а прежде чем выступить на суде Ичилову, Сапаровой, Игембердыеву, они заходили в линейное отделение, а потом шли в суд (процесс Милосердовой).
Милосердова вела себя очень нагло, тем свидетелям, которые говорили за Виктора, она не давала договорить, прерывала все время, таким свидетелям, как Ичилов и др., подсказывала, когда они путались, прерывала процесс, чтобы они собрались с духом. А эпизод с Салахутдиновым (показания его были подтверждены его сестрой, завучем школы) Милосердова записала – не заслуживает внимания. По-моему, ей было дано такое задание – осудить на 15 лет. Такие люди, как Каспаров, заседатель Касиев (его особое мнение) на втором и третьем суде – очень порядочные люди. А члены четвертого судебного процесса, судья Аллаков, несмотря на нажим со стороны, вынесли справедливый приговор.
Еще мне очень запомнился наглый, низкий человек, врач Атаев. Медсестра Ищенко сказала нам после суда, когда я ее спросила, почему она изменила показания, что хорошо вам – вы сядете и укатите в свой Новосибирск, а нам здесь жить. Что можно ждать от таких людей, «пусть стреляют безвинного человека, лишь бы нам было спокойно». А те люди, которые после суда ставили свои подписи под письмом в Москву, не побоялись за себя.
Да, на вынесении оправдательного приговора меня не было, прокурор Никишов решил удалить меня. Я к 4 часам вечера пришла к зданию суда еле-еле (мы слышали, что нажим на судей, и приговор будет опять обвинительным), ко мне подошел небольшой человек в штатском (потом узнала – работник милиции города Мары), позвал меня пальцем за угол, я не пошла (потому что от них можно ждать всего), он мне ничего не сказал, зачем, куда, – после этого он подошел ко мне второй раз, схватил за руку, закрутил руку и повел к легковой машине, с ним еще был один человек, затолкнули меня силой в машину и повезли, я успела крикнуть одному знакомому, что куда-то меня увозят. В Мары у нас никого нет, Светлана жила в то время уже в Новосибирске. Повезли меня в милицию, завели в кабинет, стали писать протокол, что я не подчинялась милиции, ругалась, оскорбляла милицию и прокурора – я им сказала, что это же неправда, как они так могут, все это ложь и выдумки, во-первых, я не знала, кто они, куда везут и за что, да, я знала, что там они как полицаи, я знала, как себя вести. На акте я написала, что все неправда, все это ложь, они двое подписали, стали отбирать у меня шаль, сумку, я не давала, плакала, умоляла их отпустить меня на приговор, потом я сама приду, что им от меня надо, давала им паспорт, но вот этот небольшой, грубый, очень наглый туркмен стал ломать мне руки, я кричала, они смеялись и говорили: «Надо было расстрелять вас вместе с сыном». Отобрали часы, шаль, сумку и повели. Я не представляла такой ужас в жизни, завели в камеру, было очень грязно, холодно (19/XII‑74 г.), там сидела пьяная женщина, затолкнули меня туда, закрыли дверь и ушли, мне стало худо, пришла врач, дали воды из страшной кружки, велела успокоиться, сказала, что я, наверное, буду до утра здесь, я попросила, у меня в сумке был валидол, но она ушла, и все. А тот туркмен мне сказал, что меня заставят 15 дней подметать улицы, но мне было все равно, лишь бы услышать приговор, ведь это уже четвертый приговор, я так берегла силы к нему, уже опять была надежда только на Москву. Я не помню, сколько прошло времени, я была в этом ужасе часа два или три, услышала разговор начальника конвоя, они все трое пришли ко мне, к окошечку, стали говорить, что сын уже на свободе, улыбались, радовались за него, и я не могла прийти в себя, не верила в такое счастье, помню, я так сильно плакала, наверное, от радости. Через немного времени пришел этот же туркмен, что привез меня, стал уже разговаривать совсем по-другому, повел меня к начальнику, за то, что я не подчинялась милиции, грубила, дали 30 руб. штрафу, я просила копию этого акта, но мне не дали. Я махнула рукой, отдала эти 30 руб. и побежала скорее искать сына, он не знал, где я есть. На второй день я никуда не пошла, хотела идти в горком, но подумала, что надо скорее лучше уезжать от них, а то можно еще дождаться хуже, они были как разъяренные звери. Это все ужас, даже не могу писать, так разволновалась, все вспомнила. Ведь там кругом ложь, насилие, наглость. Сначала нам не верилось, что все это кончилось. Мы долго не могли прийти в себя. Потом узнали, что прокуратура опять опротестовала решение суда, опять переживали, но хорошо, что все кончилось.
Таким людям, как Каспаров, очень трудно жить в Туркмении. Вот у нас же в Сибири мы не боимся ни прокуроров, ни следователей, свидетели говорят, что знают, а там совсем другое. И вот могли мне приписать что угодно, и им не докажешь, я испытала на себе, дали им задание убрать меня во время вынесения приговора и еще схватили 30 руб., не дали никакой квитанции, ничего. А мы с отцом пять лет работали только на суды и на поездки. Я три раза была на приеме в Верховном Совете СССР, Верховном суде и т. д. Ездила то на свиданья, то на суды и следствия в Туркмению, то перечисляли на счет юридической консультации, то на передачи. Почти пять лет отсидел даром, и, наверное, даже никто не понес наказания за это. А сколько мы писали везде! Часть бумаг есть у Рихарда Францевича, часть в редакции «Литературной газеты». Написала я Вам очень плохо, разволновалась, буду переписывать, опять разволнуюсь. Пусть уж как есть. Виктор и Светлана доработали до отпуска, скоро будет наследник их маленький. Виктор работает электриком ГРЭС, живут у нас, все у них хорошо. Светлана работает в магазине «Ткани». Виктор не хотел, чтобы писали статью, говорит, кто не знал, так будут знать, что он сидел 5 лет. Вы уж много плохого о нем не пишите. До свидания. Прошу извинить, если что не так. С уважением…»
Вот такое письмо. Комментариев к нему можно написать десятки страниц, но, думаю, не надо. Кое-какие детали высветились… Тут и намеки на возможность взятки Ахатову, и уверенность его в том, что добиться правды будет очень трудно («добейтесь, добейтесь»), и замена адвоката перед самым процессом, и детали «показательного суда», и реакция газет и журналов на телеграммы и письма матери, атмосфера… И нравственный облик Бойченко, Милосердовой, прокурора, свидетелей-врачей. И – что удивительно – совсем другое отношение Татьяны Васильевны к правосудию в Сибири, и вера в достижение коммунизма, несмотря ни на что… И вырисовывается – через детали, стиль письма – характер самой Татьяны Васильевны, вспыльчивый, но настойчивый, решительный, желание ее добиться справедливости во что бы то ни стало, и упорная скрытая вера в эту самую справедливость… Несмотря ни на что. Да, последнее особенно показательно: мать, прошедшая через такие испытания, не сломалась… И вообще через письмо этого, так жестоко пострадавшего человека видно: есть люди и плохие, и хорошие, и так важна роль хороших людей в нашей жизни! Огоньками их разума, их человечности, сочувствия, соучастия поддерживается нравственная жизнь общества. Без них – мрак, обман, насилие, взаимная ненависть. И еще очень важное: сильна все-таки правда. Даже поведение милиционера-туркмена изменилось после оправдательного приговора, и радовались конвоиры…