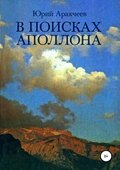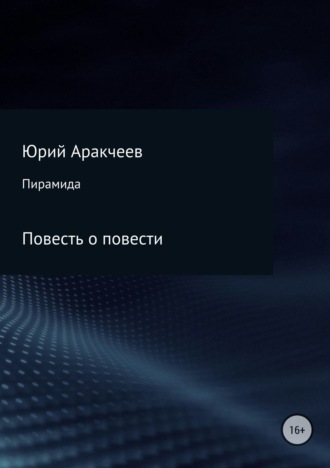
Юрий Сергеевич Аракчеев
Пирамида
Депутат
Весной 1979 года позвонили из секретариата Союза писателей и сказали, что выдвигают мою кандидатуру в депутаты районного Совета. Вот уж чего никак не ожидал.
«Вся власть Советам!» – святой лозунг, мы помним его из нашей истории. Одно из условий социалистической демократии. Ну, что ж, подумал я, если выберут, буду честно исполнять гражданский долг. Загадкой, правда, было для меня мое выдвижение. Ничего не печатают, хотя и продолжают пока хвалить за давнее прошлое. А теперь вот и в депутаты. Ведь после выступления на пленуме прошло два года, после публикаций в «Правде» и того больше, книга вышла пять лет назад, а маленькие журнальные рассказы остались без внимания критики, так что и они не в счет.
И стал я депутатом. Предварительно – на встрече с избирателями, бойцами военизированной охраны Министерства финансов, – говорил, что наша с ними работа похожа. И та и другая связана с разъездами: у них охрана перевозимых сумм, у меня – командировки. И та и другая работа представляет опасность для тех, кто ею занимается. Так что мы в какой-то степени даже коллеги.
Прием избирателей заменили для меня периодическими – раз в месяц – выступлениями перед бойцами, которым я рассказывал о своих творческих планах и показывал слайды.
Вообще депутатство – тема особая, она требует отдельного разговора. И все же это соотносится с темой повести. Коротко можно сказать так: сессии, проводимые раз в два-три месяца, были чистейшей формальностью, мы слушали заранее заготовленные речи и единогласно голосовали за резолюции, также написанные заранее. Исполнение «наказов избирателей» сводилось, например, к открытию лишнего киоска на одной из улиц или к реставрации старого памятника. Иногда с огромным трудом удавалось «выбить квартиру» для человека, которому квартира и так полагалась по нашему, советскому закону. Постепенно мне открылась удивительная картина: даже у председателя исполкома райсовета не так уж и много прав, к тому же район весьма ограничен в средствах, а затрата их тоже требует множества согласований и специальных решений вышестоящих властей.
Так не хотелось, чтобы и мое депутатство осталось простой формальностью! И я задался целью организовать клуб. Клуб интересных встреч, к примеру, то есть клуб общения, чтобы людям района было где послушать других, поговорить самим, найти, может быть, новых друзей. О полезности открытия таких клубов говорили еще в период после XX и XXII съездов партии, потом эта инициатива заглохла, но периодически возрождалась опять. В райисполкоме эту идею поначалу горячо поддержали, нам удалось даже провести три встречи, и название новому клубу дали: «Добрый вечер». Мои избиратели также с энтузиазмом восприняли идею клуба – ведь бойцами были главным образом молодые ребята! Однако… Получилось так, что, поставив, очевидно, жирную галочку об организации нового клуба, отдел культуры исполкома потерял желание возиться с нами – мы ведь требовали внимания к себе, помещения! – перестал нас поддерживать, а мою кандидатуру на следующие выборы не выставили. Клуб, разумеется, тихо скончался, у меня же остался материал для очередной повести – сатирически-юмористической, – которую так и назвать можно: «Клуб». В кавычках.
Еще только одна деталь. В нашей депутатской постоянной комиссии по культуре был один человек, который ни разу не сказал ни слова ни на заседаниях, ни на сессиях, хотя приходил аккуратно. Большой, добродушный, молчаливый мужчина. Оказалось, что его выбирали депутатом уже… восьмой раз подряд. Двадцать лет, значит, просиживал он молча, исполняя тем самым, значит, свой гражданский долг. И мне доподлинно известно, что его выдвинули тогда опять – на следующий, девятый срок… Возможно, он и сейчас в депутатах.
Не выдвигали же из нашей комиссии на новый срок только двоих: меня и председательницу, директора школы, которая вместе со мной активнее других поддерживала идею клуба. И название-то, кстати, как раз она придумала и даже предоставила актовый зал своей школы для первой клубной встречи. Слишком активно, видимо, проявили мы свои депутатские полномочия, слишком выбились, очевидно, в непонятную сторону из аккуратного общего строя.
Ну, в общем, бог с ним, с депутатством и клубом, нет так нет, это, в конце концов, не мое прямое дело. А вот совсем грустно-то было, что «Высшая мера» так и лежала в рукописи. К тому времени уже… шесть лет. Она побывала почти во всех толстых журналах. Хвалили. Но не печатали.
Да, годы шли. И по-прежнему звучали у нас в разных залах «аплодисменты, переходящие в овацию», когда «все встают», по-прежнему каждый шаг, каждое малейшее действие ничем не примечательного человека, не знаю уж по каким причинам, вознесенного на вершину общественной остроконечной пирамиды, преподносилось как откровение, как истина в самой последней инстанции, вызывающая едва ли не слезы умиления. Миллионы, миллиарды печатных страниц, бесконечная череда волн эфира заполнялись словами, почти не имеющими смысла, забытыми тотчас же, как только человек покинул вершину. Да им и тогда, когда они звучали, собственно, не придавалось значения… Но тысячи и тысячи писателей, журналистов, редакторов, подвизающихся на ниве слово‑ и звукотворчества, сотни тысяч фотографов, художников, музыкантов, печатников, техников множества областей работали не на то, чтобы действительно собрать большой урожай зерна, которого нам так не хватало (отчего и вынуждены были все в больших количествах ввозить из-за рубежа), не на то, чтобы умножать стада скота и решить наконец затянувшуюся продовольственную проблему, не на то также, чтобы построить дома, в которых было еще столько остро нуждающихся, нет. Они работали на атмосферу. Атмосферу искаженных ценностей, замалчивания правды, создания искусственных фетишей, которые вопреки фактам поддерживали бы существующий порядок вещей. Они работали как раз на то, чтобы государство наше не в состоянии было исправлять ошибки.
Типична история с «Высшей мерой», все больше и больше я убеждался в этом. Типична.
Собрание в редакции газеты
Но вот вновь вмешались законы природы, и власть сменилась.
Начались новые веяния, и однажды некоторых писателей-публицистов Москвы собрали в редакции «Литературной газеты». Пригласили на это собрание и меня.
«Высшая мера» все еще «стучала в мое сердце», да и не только она, а и другое, о чем частично удалось здесь сказать. И когда в начале собрания произошла заминка – никто не решался выступить первым… – я поднял руку и попросил слова. Извинившись за то, что выскочил первым, я заявил, что очень уважаю и люблю эту газету, но именно потому и вынужден констатировать с грустью, что счет у нас с «Литературной газетой» 2:4. Не в нашу общую пользу. То есть из шести материалов, написанных специально для нее, напечатано только два, а четыре возвращено, причем среди этих четырех – повесть, над которой я работал в общей сложности около года, причем половину срока – по конкретным заданиям редакторов. И дело не в том, что я не получил за свою работу ни рубля – хотя можно ли представить себе рабочего, которому не платили бы зарплаты за полугодовую работу? – дело в том, что зло осталось безнаказанным, добро не поддержано, и по меньшей мере один честный человек в результате уже очень серьезно пострадал. И почему это все происходит? Разве есть что-нибудь вредное в этой повести, разве есть в ней неправда? И ведь почти все сотрудники газеты отзывались о ней положительно. В трех других ненапечатанных очерках нет такой остроты, как в повести. Допускаю – в них форма не совсем соответствует той, что принята в газете; но разве так уж необходимо стремиться к тому, чтобы все очерки по форме были единообразны?
Некоторые из выступавших потом меня поддержали, но главный редактор в заключительном слове говорил жесткие слова явно в мой адрес, хотя и не называя меня конкретно. Окутываясь дымом сигары, он с нажимом говорил о том, что нельзя лить воду на чужую мельницу и порочить наш строй. Это помогает нашим врагам…
Мне же хотелось возразить, что правду враги и так знают, а замалчивание ее перед своими помогает нашим врагам самым страшным – внутренним, то есть всем тем, кто злоупотребляет властью и положением ради корыстных целей, – эксплуататорам, циникам, ренегатам, хищникам. Ведь эти внутренние враги, словно раковые клетки в организме, безудержно разрастаются именно в атмосфере замалчивания, а внешние наши враги это хорошо знают и радостно ждут, когда наступит летальный исход. И еще хотелось добавить: где это видано, чтобы вместо диагноза и лечения врач надевал больному розовые очки и уверял его, что он абсолютно здоров?! Ведь ясно же, что есть только один способ улучшить жизнь – посмотреть ей в лицо…
Правда, иногда такое все же говорилось теперь. Иногда даже об этом писали в прессе. Но ничего, в сущности, не менялось.
Письмо
В мае 1982 года вернули сразу две рукописи, из двух издательств. Обе представляли собой сборники повестей и рассказов. Один из них включал и «Высшую меру». Вернули, естественно, с отрицательными рецензиями.
Год я переживал, приходил, как говорится, в себя, но потом интересная мысль пришла в голову. В новый сборник, отданный опять в уважаемое издательство, включил я повесть и два больших рассказа, которые уже были опубликованы и стяжали кое-какие лавры. Причем авторитетные.
Ни рецензент, ни редактор, конечно же, откликов не читали, а если и читали, не помнили. Да ведь и то правда: давно книжка первая вышла.
И как же любопытно было теперь читать их полный разнос того, что когда-то так лестно для меня оценивалось в центральной прессе! Любопытно, но и грустно, конечно. «Как же тем-то приходится, у кого нет моих козырей? Как же молодым-то нашим? С такими рецензентами, с такими редакторами…» – думал я.
И решил писать письмо. Можно бы, конечно, просто сходить к какому-нибудь начальнику, пожаловаться, рассказать. Но у нас документы любят. Которые можно к «делу» подшить.
Значит, надо составить умный, доходчивый документ. Этакую, увы, жалобу. С ней и идти.
Главный замысел: сопоставить. Во-первых, что говорится с трибун о «работе с молодыми», с одной стороны, и что на самом деле происходит – с другой.
Во-вторых: что пишет центральная наша пресса по поводу некоторых произведений, и что – «внутренние» рецензенты и редакторы.
Как хочется и письмо здесь привести полностью! Два месяца с лишним я его сочинял – как раз повесть написать можно бы. Переделывал несколько раз. Двадцать с лишним страниц получилось.
Да, нельзя не процитировать его, хотя бы совсем немного. Ведь это – тоже документ…
«Мне нравится этот рассказ… В нем ярко и точно написана заводская среда – не только шум и грохот моторов, скрежет конвейера, запах подгоревшего масла, теплые и упругие волны нагретого работой воздуха, но и те короткие общения между мастеровыми за конвейером или в курилке… Все это написано умело, рукой уверенной и, главное, правдиво до последней степени… Эта, казалось бы, непонятная радость, это чувство бескорыстной симпатии к мотору-«подкидышу» и есть та рабочая совесть, которая движет поступками истинно мастерового человека…»
Но что это? – думаете, наверное, вы, прочитав. Где же тут разнос? Да ведь не из внутренней рецензии это и не из редакторского заключения – из прессы. Опубликованный сначала в журнале, а потом вошедший даже в книгу критических статей, отзыв одного из самых уважаемых наших писателей.
«…В его повествовании и особенно именно в «Подкидыше» много прямой теплоты, человечности, задушевности; груда железа – старый мотор – воспринимается сквозь призму мягкого человеческого сердца. Рассказ трогает…»
И это из центральной прессы тоже. И о том же рассказе.
А теперь из заключения старшего редактора самого престижного издательства нашей страны:
«Рабочий Фрол из «Подкидыша», взявшийся за доделку брошенного двигателя, наделен отрицательными чертами: бывший фронтовик, он «соображает на двоих», напропалую курит, «забивает козла», ссорится с женой. Его совершенно не интересует митинг, видимо, антивоенный…»
И далее в таком же духе.
А вот мнение рецензента о повести, которая называется «Переполох» и которая когда‑то – лет пятнадцать назад – была даже набрана, получив «добро» А. Т. Твардовского, в журнале «Новый мир»:
«…Особенно противоречит правде жизни поведение ее (комиссии. – Ю. А.) председателя, старого партийца, персонального пенсионера Нестеренко. Он ни от кого не зависит, никто ему уже теперь соли на хвост не насыплет, зачем же ему топтать свою совесть старого коммуниста, зачем выступать в роли прислужника разным делягам и высокопоставленным чиновникам?
Вызывает удивление и другое. Несколько лет подряд у всех на глазах в СУ‑17 орудовали жулики, занимавшиеся приписками, очковтирательством, самопремированием, плевали на качество работ и все эти несколько лет неизменно, из квартала в квартал… получали Красное знамя. И если бы не анонимка, вполне вероятно, с горечью подсказывает автор, и продолжалось бы все в том же духе. Да и концовка не слишком обнадеживает.
Нет, переполох, по всей видимости, ничего не изменит…»
«В повести нет ни одного положительного героя… и нет уверенности, что очковтиратели будут разоблачены», – это уже резюмирующее мнение редактора.
О «Высшей мере» отзыв обоих – и рецензента, и редактора – был в том же духе, но она не была пока опубликована, и сопоставлять было нечего. Но не удержусь все же и приведу вывод рецензента:
«Может такое быть? Всякое случается. Но надо ли во всей неблаговидности показывать подобную «взаимовыручку» национальных судебно-следственных работников, их аморальный облик и профессиональную несостоятельность? Нужно ли подвергать сомнению незыблемые принципы, свойственные советскому законодательству, советскому праву, советскому суду?»
Очень любопытной была концовка редакторского заключения, которое в общей сложности занимало пять с половиной страниц на машинке (на четыре повести и девять рассказов):
«У меня создалось впечатление, что автор, представляя сборник, вовсе не рассчитывал на его прочтение другими людьми, так пишут только для себя».
Я долго ломал голову над тем, что это значит, но так и не понял.
Итак, письмо было написано. Но куда, к кому с ним идти? Или куда послать? Сначала хотел повсюду. В ЦК, в Госкомиздат, в редакции газет и журналов. Ведь ясно же, что в такой атмосфере и возникает у тех, кто обладает хоть маленькой властью, возможность делать свои дела, печатать своих, друг друга («перекрестное опыление»), брать всевозможные взятки. То же самое! То же самое, что было в деле Клименкина! Виновен – без внятных доказательств. И если не по лжесвидетельству явному, то по некомпетентности «следователя» и «суда»…
Долго раздумывал я и наконец решил отнести письмо – для начала – первому секретарю нашей, Московской писательской организации.
И отнес.
Не буду описывать реакцию на мое письмо. Скажу только, что резонанс был. Мне повезло. Сравнение рецензий и редзаключения с тем, что было опубликовано в прессе, и на самом деле оказалось впечатляющим.
Две важные встречи состоялись у меня в издательстве. Одна – с новым заведующим редакцией русской прозы. Другая – с директором.
Оба приняли меня доброжелательно.
– Говорят, что ваши вещи мрачны и пессимистичны, – сказал директор, но вовсе не в безапелляционном, а, скорее, в вопросительном тоне, ибо он, конечно, ни одной из них не читал.
– Это явное заблуждение, – возразил я совершенно искренне. – Ведь оптимизм не в том, чтобы надевать розовые очки и стараться обмануть себя и других бодренькими рассуждениями. Оптимист не тот, кто в страхе отворачивает глаза от пропасти, рядом с которой идет, и прячет голову под крыло, как страус. Оптимизм – это мужество. Активное мужество. Попытка не отворачиваться от пропасти, а преодолеть ее. Тот же, кто надевает розовые очки и лжет, – это как раз истинный пессимист, ибо он боится.
– Знаете, – сказал директор доверительно, очевидно, не до конца поняв меня или не желая показать, что понял. – У нас ведь и так столько безобразий и глупостей! Если мы с вами еще будем о них писать и печатать…
– Да ведь от безобразий и глупостей избавляться надо! – опять возразил я. – И потом, если уж на то пошло, у меня полно положительных героев. Не внешне положительных, а на самом деле.
Расстались мы дружески.
И вообще все было теперь по-другому. Нашелся умный, квалифицированный рецензент. Он особенно поддержал в сборнике «Высшую меру». А вторым рецензентом стал юрист, доктор юридических наук.
И редактор нашелся хороший, вот ведь как бывает! С ним мы и решили, что для подкрепления «Высшей меры» – которая, по его мнению, была наиболее трудной для прохождения, – необходимо еще раз заручиться поддержкой Верховного суда СССР.
Отнес я вновь «Высшую меру» Валентину Григорьевичу Сорокину, потом она попала к его начальству, и хотя позиция Верховного суда по отношению к публикации не была слишком уж положительной, но они категорически не возражали. А это – самое главное. Единственное обязательное условие было – изменить фамилии их работников. Что я и сделал, оставив в неприкосновенности лишь имена и фамилии некоторых положительных героев и посвятив повесть памяти З. А. Румера.
Сборник включили в план.
Относительная победа
И наконец «Высшая мера» вышла! Не в газете, не в журнале даже. И не отдельным изданием – в сборнике. Через девять лет после написания. Очень маленьким тиражом.
Но все же это была победа, хотя, конечно, не слишком большая.
С каким нетерпением я ждал откликов. Ведь стольких людей трогала она, когда была в рукописи! И так хотелось пусть не похвал, но разговоров, размышлений, сопоставлений, выводов… Такой все же нелегкий путь пройден.
Увы.
Прошел год после выхода сборника. Раскуплен он был, насколько я знаю, мгновенно. Официальных откликов не было. Не было рецензий. Ни одной.
В чем же дело? Я опять ничего не понимал. Хвалите, ругайте – но не молчите же! Не для того же я писал и упорно старался «пробить», чтобы просто увидеть ее напечатанной. Ведь я о важном писал, о том, что всех задевает. Что с каждым может случиться!
Как всегда, я внимательно читал газеты и видел, что другие времена настают. Теперь можно! Ведь есть же здесь, о чем поговорить! Ну, о самом деле Клименкина, например. О механике. Об атмосфере. О «когда бездействуют добрые»! Увы.
И по-прежнему – по-прежнему, несмотря на объявленную «перестройку»! – шли панегирики на книги литературных начальников… А о «Высшей мере» – ни слова. И «Литгазета» молчала – о своем же, так сказать, «детище»!
Да, странное было у меня положение. Странная победа.
Так в чем же дело? Далек я от мысли считать это каким-то «заговором молчания». Все, наверное, гораздо проще.
Моя жена, совсем молодая женщина, которая была со мной на обсуждении сборника в Доме литераторов и вообще в курсе моих дел, сказала:
– Неужели тебе не ясно? Просто никому ни до кого нет дела. И вообще никому нет дела до дела. Каждый занят исключительно собой.
Молодое поколение, при всей своей вполне вероятной поверхностности и неискушенности, все же иной раз видит истину быстрее, чем мы, люди более зрелого возраста. Они меньше, чем мы, склонны к предвзятости и видят то, что есть на самом деле, а не то, что хотят видеть. Но не права она все же, не права! Знал я, что не права, а вот как доказать ей, не знал.
Да ведь не в рецензиях, не в обсуждении между своими дело. А просто вижу: не кончилось дело Клименкина и все то, что описано в повести «Высшая мера». Продолжается… И нет пока еще настоящей победы. «Эстафетная палочка» все еще в руках у меня.
Размышления о прошлом
И вот теперь – после апрельского (1985 г.) Пленума ЦК и XXVII съезда партии нашей – читаем мы в газетах, а в «Литературной газете» особенно, о множестве историй, подобных делу Клименкина, или моей истории с Жорой Парфеновым, или о мучительно долгом прохождении (а то и вовсе невыходе) рукописей, фильмов, спектаклей, о коррупции, местничестве, групповщине, бездарности и бессовестности руководящих работников и равнодушии, пассивности, замороченности «приятелей» и «сослуживцев». О многом. Очень, очень похожем.
Вот в Азербайджане некий замполит Алиев подвергся травле «на высшем уровне» за то, что восстал против взяточничества в органах внутренних дел своей республики. Был уволен, попал на скамью подсудимых, боролся, но… И спас его журналист – только благодаря очерку в «Литературной газете» был дан «обратный ход» делу, а вовлечено уже было в эту историю множество людей… Да ведь это же во многих отношениях один к одному – «Высшая мера»! – думал я, читая.
Вот где-то в Сибири инспектор Архстройнадзора – единственный из многих – не захотел мириться с халтурой и очковтирательством в строительстве. И, конечно же, его сначала травят, а потом, найдя предлог, увольняют с работы… Но опять же никак что-то не восстанавливается справедливость – даже после опубликования статьи! – не наказаны виновники, порядок вещей – атмосфера – остается все той же, хотя о реально существующем инспекторе даже пьесу пишут, и она идет в театрах!
Вот на скамью подсудимых сажают целую группу работящих, честных людей – в свое время они, не щадя сил и времени, спасли целый город от гибельного наводнения, которое угрожало городу в результате не просто ошибки, а преступной халатности строительного начальства – и это начальство, получившее повышение, несмотря ни на что, подтасовывает факты, идет на все, лишь бы посадить спасителей города и тем самым как бы реабилитировать свое, вообще-то говоря, чисто преступное прошлое…
Вот – опять же в Азербайджане, в одном НИИ – «маленького роста, элегантно одетая и сдержанная в каждом слове» женщина, зеленые глаза которой «будто излучали свет», поднимает голос против одного только явного бездельника, хотя и начальника лаборатории, которого «давно бы надо выгнать». И что же? За бездельника вступается директор института, очевидный его «брат по духу», и… пошло-поехало. Ситуация, в сущности, гроша ломаного не стоит, женщину надо поблагодарить, во всем разобраться и бездельника выгнать (как и директора), если все так, как говорит женщина, – это в интересах всего коллектива и в интересах государства, казалось бы, тоже! Но… Атмосфера такова, что ни интересы всех, ни интересы государства не могут на деле перевесить интересов одного только ничтожного человека – бездельника, интригана, плагиатора, мелкого жулика. Никто и не пытался разобраться по-настоящему, закона как будто бы просто нет…
Та же – до подробностей! – механика и в других делах – и тех, что описаны в предыдущих статьях, и в последней: ошибка, вызванная, как правило, некомпетентностью, халатностью, корыстью, эгоцентризмом и т. п. составными частями упоминавшегося уже «джентльменского набора», ошибка одного какого-то человека, обладающего пусть мизерной, но властью, с одной стороны. И… лавина людей, вовлеченных в разгорающийся, словно пожар, конфликт. И еще подробность: сначала «правдоискателя» все же, как правило, поддерживает кое-кто из «приятелей», «сослуживцев», но время идет, наталкивается «правдоискатель» на стенку, и поддерживающих остается все меньше и меньше. А потом и жертвы появляются. Естественно, не в среде тех, с кем «правдоискатель» борется. В среде «правдоискателей».
Но почему же так? Почему?
Автор последней статьи, известная наша журналистка, делая выводы из этой и многих других, знакомых ей «сюжетов мести», пишет:
«Здесь уже не в человеческих страстях дело, а в абсурдных экономических принципах, которые делают брак, плохую работу нормальными и выгодными».
И если бы все те, кто борется с «правдоискателями», то есть обладающие властью начальники, «чувствовали себя хозяевами производства, заинтересованными в реальных результатах труда коллектива, а не просто в цифровой отчетности», положение бы изменилось в корне.
«…У нас – вопрос жизни: сумеем ли мы понятия гласности, демократизма, правды перевести из призывов в повседневную деловую практику? Мучительное противоречие: критика «снизу» пока нерентабельна, напоминает она порой страдания человека, взявшегося в одиночку перекопать неоглядное поле (а его в одночасье мог бы перепахать трактор!), но, с другой стороны, можно ли ждать, пока повсеместно возникнут условия для критики, автоматически исключающие месть? Это сколько же ждать?!
Нет, как бы ни призывали мы истинных борцов к благоразумию, не смогут они терпеть, мириться, молчать… Как же ценны сегодня такие люди! Долг общества – не убить в них веру».
И вот я читаю теперь все это и радуюсь тому, что опубликовано такое, но… Все совершенно верно, прекрасно сказано, убедительно, точно, правильно, да. Но почему же это «критика снизу» пока «нерентабельна»? Почему торжествуют – а нет никакого сомнения, что торжествуют именно они, – зажимщики критики, те, чья деятельность не на благо, а во зло обществу? Почему «режим наибольшего благоприятствования» существует для них? Почему, наконец, торжествуют «абсурдные экономические «принципы»? Или – пользуясь образом автора статьи – почему трактор в одночасье не перепашет поле? Разве не заинтересованы теперь в этом все?
Поразительны газетные материалы и несколько другой тематики – не о «правдолюбцах» и других хороших людях, которых за их правдолюбие и хорошесть начинают азартно и успешно преследовать, а о современных наших «нуворишах», этаких выныривающих иногда из темных недр общества на свет божий – свет гласности – «хозяевах жизни». Не самого крупного масштаба, но многочисленных и очень своеобразных, характеризующих, наверное, самим своим существованием атмосферу нашей жизни. Это директора магазинов (особенно, конечно же, продовольственных, мебельных, комиссионных), директора и закройщики ателье, механики техобслуживания автомобилей, руководящие работники других сфер быта…
Та же «Литературная газета» дважды писала, к примеру, о некой чете из эстонского города Пярну. Он в прошлом начальник автосервиса, потом руководитель городского ремонтно-строительного управления, она – заведующая стоматологическим отделением санатория… Не бог весть какие большие люди, не какие-нибудь выдающиеся производители материальных или духовных ценностей. А вот ведь на виду у всех – сначала соседей и горожан, а потом, после выступления газеты, – на виду всей страны отремонтировали за государственный счет особнячок (хотя какой там отремонтировали – истинно княжеский шик навели) и живут себе в княжеском теремке вдвоем. Хотя положение с жильем в том же городе Пярну аховое… Очередь – под три тысячи… А еще в той статье проскальзывает, что чета эта вовсе не чемпионы, что есть ловкачи и похлестче в том же Пярну. Да что там Пярну! Других городов у нас мало разве?
Ну, в общем, впечатляющих примеров теперь хватает.
Раньше просто замалчивали (как мне директор издательства говорил: «И так столько безобразия и глупостей! Если о них мы еще писать и печатать будем…»). Теперь вот печатают. Открывается постепенно картина… Но…
«Письмо отцу»
И опять совпадение-символ…
История с делом Клименкина началась для меня когда-то с опубликованного в газете письма А. Черешнева, отца мальчика, убитого двумя его сверстниками на сибирской реке. Газета опубликовала тогда само письмо (не знаю, с сокращениями ли, но, думаю, с сокращениями и со «смягчением») и комментарии к нему журналиста и специалиста, которые, на мой взгляд, весьма проигрывали по сравнению с письмом.
Но прошло 13 лет – и опять газета, только на этот раз другая – «Комсомольская правда» – пишет о трагедии с 12‑летним мальчиком. На этот раз он как будто бы убил себя сам, использовав для этого пояс от своего пальто… И материал в газете теперь называется не «Письмо отца», а «Письмо отцу о смерти сына»… И пишет его не сам отец, а журналист. Обращаясь к отцу… Взяв на себя тягостную и печальную задачу расследовать это самоубийство (или убийство) мальчика – двенадцати лет! – журналист, вернее, журналистка Инна Руденко, едет в командировку (поселок Московской области), встречается с участниками и свидетелями драмы, размышляет… И сначала видит, что никакого убийства не было. Отец-то ведь подозревал, что причина – тягчайшая психологическая травма, нанесенная сыну в милиции, а все-то и было из-за плавленого сырка ценой в 26 копеек, взятого мальчиком в магазине самообслуживания и не оплаченного по рассеянности или пусть даже по шалости… И видит журналист, что ни в милиции, ни где-то еще никаких особенных злодеев не было.
Никто не хотел, естественно, ни смерти, ни даже слишком уж несоразмерного наказания, но…
Но выясняется, по логике вещей, что мальчика все же убили.
На этот раз, правда, не сверстники, а взрослые.
Точно так же, как тогда на реке, равнодушно, холодно, словно бы нехотя. И коллективно.
Сначала кассирша магазина, которая первая заметила и подняла скандал.
Потом директор магазина, к которой отвели мальчика и которая, накричав на него, вызвала милицию.
Потом милиционер «конвоировал» мальчика на виду у всех в отделение…
Потом инспектор детской комнаты по делам несовершеннолетних посчитала своим непременным долгом позвонить в школу.
Повторим: все – из-за сырка плавленого стоимостью 26 копеек.
Хотя при этом все в один голос твердили потом журналистке, что видели: мальчик, в общем-то, хороший, «не такой»…
Но тогда… зачем же?
А просто. Исходя из инструкции. Из функций в той системе взаимоотношений, к которой привыкли.
Постепенно выясняется прямо-таки удручающая картина: ни один из этой цепи, из того «строя», сквозь который прогнали мальчика, даже после того, что случилось, не усомнился. Неужели никто из них, даже плачущих в разговоре с корреспондентом газеты, не думал о мальчике, погибшем за 26 копеек? Да, похоже, каждый думал только о себе.
О том, что произошла неприятность. Для него лично.
То есть как будто бы чужой жизни, чужой трагедии просто не существует. Есть только своя. И имеет значение только то, что касается лично тебя. И настолько имеет значение, насколько касается. Ни больше, ни меньше.
«Товарищи дорогие, да что же это с нами происходит? – восклицает журналистка. – Чем мы мучимся и чем успокаиваемся, почему даже смерть не пробуждает в нас естественные, нормальные – человеческие! – чувства?..»
Беседующие с ней свидетели-соучастники часто произносят одно характерное слово: «функция».
«Мальчика убили не конкретные люди, а та система, при которой важна инструкция, категория, формула, а не истина. Отчуждение человека от функции, которую он исполняет, человеческого от профессионального, социального от нравственного губительно. Сбивается шкала ценностей – и живая жизнь умирает, остаются одни формулы да категории. Конечно, такая смерть – за пределами здравого смысла, но здрав ли этот здравый смысл? Вот в чем вопрос…»