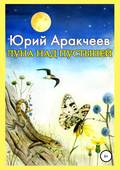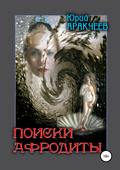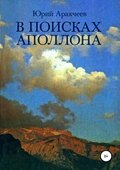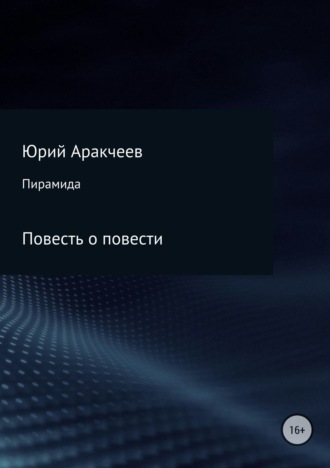
Юрий Сергеевич Аракчеев
Пирамида
«Что» и «как»
Трудно начинать большую работу. И чем она важнее, чем значительнее для тебя, тем труднее. Из своего опыта я уже знал, что в таких случаях самое спасительное – «моцартовская» легкость. Нужно преодолеть страх начала, страх чрезмерной ответственности и, освободившись от этих оков, заговорить своим голосом.
Что такое вообще творчество? Много копий сломано в связи с этим понятием, главным образом теми, кто лишь в отдаленном приближении представляет, что это такое, но есть мысль – и я с ней согласен, – что творит не сам человек, не жалкое смертное существо, закованное в телесную оболочку, творит нечто более высокое посредством его. Человек-творец, таким образом, выступает лишь в роли приемника и передатчика одновременно… И следовательно, главное для того, чтобы начать творческий процесс, – это привести себя в соответствующее состояние. То есть освободиться от всего, что мешает приему и передаче. Талант же это и есть, наверное, высокое качество «приемно-передающего» устройства, чувствительность и совершенство его в обоих отношениях. И, кроме того, необходима способность приводить себя в соответствующее творческое состояние.
Но, для такой работы, какая предстояла мне, то есть для написания документальной повести, основанной на действительных событиях и документах, необходимо было не только настраиваться на «прием» и «передачу», а изучить весь огромный материал, который относился к делу, чтобы потом процесс «приема» и «передачи» шел без затруднений. Многое было прочитано, многое нужно еще читать, изучать – вплоть до Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, – но необходимо не только прочитать и изучить, а еще и осмыслить, переварить – с тем, чтобы уметь потом применить… И предстояло еще выбрать форму. Только замысел и самое начало работы было приятно, легко, интересно. А потом начались мучения.
Многие уже писали о страхе перед чистым листом бумаги (у художников – страх перед чистым холстом). В сущности, он чем-то напоминает страх перед открытым водным пространством, если необходимо по этому пространству плыть, или перед бездной под самолетом, в которую нужно парашютисту прыгать. Есть еще страх выступающего перед многочисленными слушателями, вот он, наверное, ближе всего. Ты должен знать, что сказать, ты должен знать, как сказать для того, чтобы тебя поняли и приняли. И ты должен не сбиться… Если, выступая, ты будешь думать не о том, что и как, а о впечатлении, которое ты производишь, то есть не о деле, а о себе, дело плохо. Неудачи плохих ораторов тем и обусловлены, что они слишком заняты собой… То же и с художниками. Конечно, художник выражает свой внутренний мир. Однако чем больше общего включает его личный мир, тем больший успех ему обеспечен. И это вполне понятно, потому что какое мне дело до переживаний кого бы то ни было, если этот «кто бы то ни было» ничем не похож на меня. Даже прекрасный передатчик может быть плохим творцом, если он никудышный приемник.
Короче говоря, нужно забыть о себе. Думать только о деле, о том, что ты хочешь сказать, какие мысли свои передать по этому поводу.
Это «что» было, пожалуй, ясно. Вопрос, как писать повесть, гораздо труднее. Легко себе представить, что материала было на самом деле не мало, а слишком много для написания небольшой газетной повести, пусть и с продолжениями. Одиннадцать томов самого дела. Длительность в четыре с половиной года. Четыре следствия и четыре процесса, каждый из которых заслуживает чуть ли не написания пьесы. Но главное – главное! – десятки людей-участников. А какие характеры, какие типы!
Типы
На кого ни посмотришь – дух захватывает.
Возьмите Бойченко. Ведь это – талантливый, но безнравственный служитель. Манипулятор судьбами человеческими. Оставим в стороне конкретного Петра Даниловича, попробуем этот характер обобщить. Такие, как он, – беда нашего XX века, с его необъятными техническими возможностями, когда альтернативой использованию оружия массового уничтожения может быть только нравственный, моральный ограничитель. Безнравственный человек, допущенный к «кнопкам» пуска водородных бомб, может почти мгновенно погубить все человечество! Да, только нравственный ограничитель спасет: страх не поможет, в страхе человек, как известно, впадает в панику, а паника – плохой спаситель. Но из всех поступков и действий Бойченко в деле Клименкина видно: нравственного ограничителя у него нет. Конечно, я преувеличиваю и обобщаю, но ведь тип остается типом, в какой ситуации он бы ни выступал, масштаб ситуации, с этой точки зрения, не имеет значения – более того: именно в столкновении мелком, когда человек не заботится о маскировке, он выступает особенно определенно и ярко. Но сколько же существует в природе людей, так же, как он, лишенных нравственного ограничителя, однако же обладающих большим, чем он, талантом! И, следовательно, возможностями.
Ну а судья Милосердова? О, этот тип особенно волновал меня – тип судьи, одержимой идеей. Вновь и вновь возвращался я в своих мыслях именно к этой героине, видя в ней наиболее трагическое воплощение отрицательных человеческих черт нашего времени. Отрицательные качества выступали в ней под видом положительных – вот в чем фокус! Верность определенной идее, очевидно, была для нее важнее верности закону и правде, но ведь именно это явление было причиной страшных бедствий, свалившихся на многострадальное человечество в XX просвещенном веке. Десятки миллионов убитых, вторая мировая война, развязанная, как и все войны, под флагом идеи… И сколько же жертв в «мирное» время – Китай, Камбоджа, например… Именно тогда и исчезало понятие совести, человечности как таковой. Человеческая, личная совесть заменялась групповой, национальной, клановой, «христианской» или какой-нибудь еще. Только не человеческой. Человечество состояло уже как бы не из людей, а из исполнителей ролей, представителей, элементов «своих» или «чужих». Закон существовал только для «своих», служил «своим» против «чужих». Но даже «своих» судьи судили по-разному, исходя из сиюминутных интересов идеи – закон оказывался вовсе не общим, не единым для всех. Разве это можно было назвать законом? «Закон – что дышло, как повернул, так и вышло»…
Триста лет назад юрист Томас Фулер высказал соображение, ставшее крылатым: «Как бы ты ни был велик – закон выше тебя». Вот образец мышления и не только для судьи.
Конечно, имеет значение и то, каков закон. В средние века, к примеру, закон был суров и бесчеловечен, и именно те, кто неукоснительно выполнял так называемый «божий закон», особенно успешно губили человеческую личность и жизнь. И каким бы ни был закон, но всегда, во все времена находились к тому же судьи, которые, оперируя положениями закона, судили вовсе не по закону… Что двигало Милосердовой, какая идея? Идея защиты Чести мундира? Или простая идея подчинения вышестоящим? Последняя ведь тоже диктуется извечной идеей – идеей Власти, обязательного подчинения одних другими… Не знаю, что именно двигало Милосердовой, но только знакомство с делом и свидетельства очевидцев убеждают: судья не следовала закону. Она нарушила одно из важнейших положений его: «Судьи независимы и подчиняются только закону». По роду своей деятельности Милосердова должна была исполнять нелицеприятный, одинаковый для всех граждан закон. А она руководствовалась предвзятостью – личными симпатиями и антипатиями к участникам, завязанностью своей в группе «республиканского правосудия». То есть она, по сути, тоже руководствовалась не общим, а личным.
Не лучше ее, конечно, и первый судья – Джапаров. Не лучше, но не менее для меня интересен. Да, как личность он, конечно, не подарок. Ничтожен он скорее всего как личность, но как образ, как тип – это просто находка. Бездумный и безответственный судья. Облеченное полномочиями ничтожество. Ведь мало того, что он приговорил к смерти Клименкина за два часа, едва выслушав обвинительное заключение следователя и показания семи свидетелей обвинения. В тот же день, как уже было сказано, на другом процессе – тоже «показательном»! – он осудил на расстрел и еще двоих (по свидетельству Каспарова, оба были впоследствии оправданы). Как же важен и как серьезен на самом деле этот неумный и несерьезный «тип»! И не о таком ли типе как раз у Достоевского в том смысле, что человечество, мол, пускай провалится, но только бы мне вовремя чаю попить? Ему доверили возможность судить, он и судит. Тут даже не групповые интересы, тут просто глухота личная, равнодушие, лень. Лень вдаваться в подробности, лень разбираться в обстоятельствах. Тупой эгоцентризм, даже не подчиненный схеме, животный. Чужая жизнь – копейка. И трудно даже сказать, кто опаснее – Милосердова или он…
Да, меняются времена, меняются роли. Окраска и масштаб деяний меняются, но суть человека, типы остаются прежними!
Ведь корыстолюбие, эгоцентризм только и ищут, под какой личиной проявиться. Любой флаг тут годится, любая идея. Вот Милосердова и Джапаров… Если в условиях спокойного, мирного времени, когда личному благополучию судьи, в общем-то, ничего и не угрожает – думай себе, не спеша и не суетясь, разбирайся в хитросплетениях происшедшего, ищи мотивы, улики, копай истину – если и тут торжествует столь поверхностная поспешность, нежелание разбираться, лень, стремление поскорее закончить, непонимание и неуважение, то что же тогда в «лихую годину»? Если в обычное мирное время Джапаров – троих в один день, то сколько же тогда? Состоявшие не из таких ли, как Милосердова и Джапаров, «тройки» вершили во время оно суд скорый, неправый, словно торопясь сократить численность граждан, долженствующих жить «в светлом будущем»?
Вот так и набрало человечество миллионы и миллиарды своих убиенных. Так и топчется оно на месте, ходит кругами, самоистребляясь при помощи типов.
Еще типы…
Но и другие, менее «масштабные», но не менее, а может быть, и более распространенные типы были интересны в деле Клименкина. Возьмите Ичилова. Чем не любопытнейший тип? Большой и сильный телом лжесвидетель. Слабая душа в мощном теле. Подковы небось руками гнул, а плакал в зале, когда адвокат своими вопросами припер его к стенке. Чем-то сумел же взять его Бойченко. Сломил волю, которой, видно, не слишком богато было в мясистом теле.
А какой прекрасный тип Светлана! Светлое что-то даже в имени… Жена дважды судимого и опять вот посаженного молодого человека, не блещущего внешними данными. Ах, милая Светлана, русская наша женщина, все терпящая, прощающая и тогда именно хранящая верность, когда, казалось бы, и смысла нет… Вновь и вновь возвращался я к этому образу. Конечно, она интересовала меня больше, чем сам Клименкин! Прекрасна русская душа, данная нам в награду за многочисленные мучения наши, а может быть, и ставшая причиной многочисленных этих мучений… Воистину: если суждено народу нашему сыграть роль в многострадальной истории человеческой, то на первом плане, может, и будет вот это, женское наше начало – самоотверженное и всепрощающее, любящее, несмотря ни на что и вопреки всему… Да так вот и стала жизнь Светланы после ареста любимого полной смысла, фантазировал я, думая об этой своей героине. Но как же тогда нелегка и непроста жизнь, если в горе только и проверяется истинная любовь! Вот она, российская наша судьба… Да, вот тут-то, вот тут водораздел и намечается, в вопросе любви. Только ли из-за верности идее, только ли из-за служебного рвения унижала в суде Светлану Наталья Гурьевна Милосердова? А не зависть ли тут была? Возможно, скрытая, не осознаваемая… Кто же знает! Все переплетено в человеке, будешь искать – чего только не найдешь… Сложно, сложно… И интересно!
Ну, в общем, чем больше я размышлял, чем дальше увлекался, тем труднее было взяться за конкретную повесть. Вот, к примеру, я Клименкина как-то все вниманием обхожу, хотя он и есть главный-то пострадавший (если не считать, правда, Семенова Анатолия). А ведь это же представить только, что пришлось ему, Клименкину, пережить! Два с лишним месяца в камере смертников, в ожидании расстрела за преступление, которого не совершал. Отказ от прошения о помиловании… Да, третья судимость, да, в каком-то смысле уже привык (если можно к тюрьме привыкнуть), сник – на воле пил в последнее время… – но ведь это легко так сказать, а вы представьте-ка себя на его месте. Двадцать лет от роду, только что жизнь начал. Ведь другой-то жизни не будет. Неудачно, ох, как неудачно начал, а тут еще и приговор к расстрелу. Ничего себе звоночек! Ничего себе предупреждение! Конечно, мы можем рассуждать на тему, что, мол, жизнь ученого или художника дороже не только обществу, но и ему самому, потому что он явственнее представляет себе ценность ее, яркость и насыщенность каждого дня – но ведь это будет только лишь рассуждение. Где критерий ценности жизни каждого? Где шкала отсчета?
Да, и фигура Клименкина вырастает в полный свой рост и тоже становится типом: невинная жертва! Таких в истории нашей было столько, что не сочтешь. Многие ли ограждены? Ау, бойченки, джапаровы, милосердовы! Ограждены ли вы-то сами? Можете ли вы сами-то быть уверены? А ведь сами, сами вы и поддерживаете атмосферу эту, когда от тюрьмы да от сумы…
Нет-нет, фантазии давать волю тоже особенно-то нельзя. Тут далеко зайти можно, не выпутаешься. А мне-то конкретную повесть надо. И скорее!
Начало
И вот еще что существенно. Начиная большую работу, пишущий никак не может совсем отстраниться от жизни вокруг него. Не может и не должен, пожалуй. Конечно, прошлое – это прошлое, оно утекло, слепок его остался лишь в памяти людей, и если писатель задался целью восстановить его, то, казалось бы, только оно для него сейчас и имеет значение, только то, что уже было. А то, что происходит сейчас, это уже как будто другое, оно не помогает, а скорей отвлекает от главной задачи.
Но это только на первый, поверхностный взгляд. А на самом деле?
Начнем с того хотя бы, что прошлое так же, в сущности, многозначно и неопределенно, как и настоящее. Сколько людей – столько мнений, никогда не можешь знать всего, подход любого человека всегда субъективен, и учесть все привходящие и исходящие моменты просто невозможно. К примеру: дело Клименкина, изложенное самим Клименкиным, будет наверняка сильно отличаться от того же самого дела, изложенного Бойченко, Милосердовой, Ичиловым или Светланой. Даже трактовки посторонних наблюдателей – таких, как журналисты Измирский, Петрова, Вознесенский отличаются – что я уже понял! – одна от другой. Что же говорить обо мне, который не был ни на одном из процессов, не со всеми участниками встречался, не видел многих в лицо.
Возникает нравственный, так сказать, вопрос: а могу ли я в таком случае об этом деле писать? Имею ли право? Имею ли право оценивать и судить? Оценивать – да, несомненно. Каждый имеет право оценивать со своей точки зрения, почему бы и нет. Но вот судить… Впрочем, и оценивать тоже непросто. Дело в том, что не количество сведений и известных фактов играет главную роль – всех сведений, всех фактов не знает никто… Да мне-то и не важна была особенно бытовая конкретность, буквальность. Важна мне была суть, характеры общие – типы, а также присущие нашей жизни закономерности, известные мне по другим обстоятельствам, другим событиям, но проявившиеся и здесь. Ведь бытовая конкретность – это случайность, она может быть той или иной, то есть Клименкин, к примеру, мог бы быть блондином или брюнетом, высоким или малорослым – это не имеет значения. Имеет значение его заикание – но только потому, что оно, по сложившимся обстоятельствам, стало уликой в деле. Скажу больше: бытовая конкретность, буквальность иногда даже очень вредит писателю, сковывает его свободу, мешает проявить главное, суть. Здесь тоже иллюзорность внешнего может сослужить плохую услугу…
Но, с другой стороны, на пишущего влияет, наоборот, все. Каждый документ настраивает его так или иначе, каждая встреча. Детали, акценты, художественная плоть будущего произведения зависят даже от моментов, как будто бы не относящихся непосредственно к тому, о чем человек пишет. Дело в том, что произведение его будет жить сразу в трех измерениях – прошедшем (которое приобретает, таким образом, конкретность), настоящем (ибо, читая, люди переживают это так, словно все происходит сейчас) и будущем (ведь так или иначе прочитанное всегда влияет на будущие поступки людей). Таким образом, в вечно изменчивой, движущейся непрестанно жизни даже прошлое не остается постоянным, оно меняется в представлении людей в зависимости от настоящего. И только одно может сделать его конкретным и определенным: художественное произведение. Ибо оно есть материализованная, а потому уже принявшая окончательную форму действительность. И пишущий знает это. И, «материализуя прошлое», не может и не должен отрешиться ни от настоящего, ни от будущего. Уйти в «башню из слоновой кости», пытаясь тем самым остаться наедине с прошлым и только с ним, всегда казалось для меня неподходящим. Прошлое интересует меня не само по себе, а только с точки зрения сегодняшней, а потому как же я могу хоть на малое время отойти от действительности? Верной ли будет моя «материализация», не нарушу ли я своим уходом от настоящего истинный ход времен?
Не знаю, понятно ли удается мне излагать свои мысли. Хочу добавить, что здесь есть некоторая связь с теорией относительности Эйнштейна. Он впервые ввел в физике важную роль наблюдателя, влияющего на результаты наблюдений.
Был и еще важный момент – национальный. Румер посоветовал как можно меньше напирать на него, потому что произошло-то все в республике, и арестовали они не своего, а – русского. Нет ли здесь национализма-шовинизма? Но мне казалось абсурдным и сейчас кажется таким же это опасение. Да, арестовали русского, да, в республике, но Ахатов, к примеру, был вовсе не туркмен, а казах, Бойченко – украинец. Милосердова вообще русская, сибирячка… Положительный же Алланазаров – туркмен, а уж тем более положительный, один из героев, можно сказать, Аллаков – тоже туркмен чистокровный. При чем же тут национальности?
Кстати, Джапаров-то хотел послать в расход на другом процессе и одного своего, туркмена… Так что наоборот, как раз очень даже показательно и наглядно с национальностями тут вышло: все перепуталось! Баринов – русский, Светлана – русская, Румер – еврей, Беднорц – поляк, Каспаров – армянин, Касиев – армянин тоже… Прокурор Виктор Петрович – русский, увы, Ичилов – татарин (но татарин и Салахутдинов…), Анатолий Семенов – русский… Пестрое соцветие – и никакой связи между нравственным и национальным. И в этом тоже великий смысл происшедшей истории! Не между нациями проходит граница, не между странами и людьми. Внутри каждого водораздел заветный.
И еще один момент важен был для меня: размер сочинения. Газета – не книга, не журнал, а нужно было писать именно для газеты. Румер пообещал страниц пятьдесят на машинке «пробить» – на три номера. Господи, пятьдесят страниц для такого-то богатого материала!
– Потом расширишь для журнала, – сказал Румер.
«Расширишь»! Это живое-то расширишь? Ведь если произведение художественное, то живое…
Плохо ли, хорошо ли, я – головой в воду! – начал:
«Шел второй час ночи 26 апреля 1970 года. Милиционеры линейного отделения милиции железнодорожной станции Мары совершали очередной обход…»
Вторая фраза получилась довольно корявой, но она была по крайней мере точной. Главное в начале – не критиковать самого себя, не оглядываться на каждом шагу.
Привходящее
Через несколько дней от Румера я узнал, что журнал «Новый мир» опубликовал в 12‑м номере за прошлый год повесть, которая по теме очень похожа на будущую мою.
– Это и хорошо, и плохо, – сказал Румер. – Хорошо потому, что эта вещь как бы прокладывает дорогу твоей, плохо же то, что ты теперь не будешь первым.
Удивительны совпадения в нашей жизни! – подумал я. Удивительным было и это. Идея, выходит, носится в воздухе…
Однако, прочитав повесть, я не нашел в ней большого сходства с тем, что собирался написать я.
Повесть называлась «Перед трудным выбором», автор – неизвестный до того писатель. Речь в ней шла о том, как главный герой, простой, в общем-то, человек, тихо живший со своей женой в домике на окраине Москвы, помог вызволить из тюрьмы невинного человека, осужденного за изнасилование, которого тот не совершал. Медленно велось повествование от первого лица – как однажды в зимний метельный вечер нагрянула к ним в домик полузнакомая женщина и попросила не за сына, не за родственника – за знакомого своей знакомой… Это не женщина, это судьба стукнула в двери героя повествования, и, как ни колебался он, однако победило в нем совестливое начало, и почувствовал он себя защитником. И принялся изучать письма заключенного, а потом направился в Верховный суд и поехал в сибирский поселок, где было совершено преступление, и изучал дело… И вызволил он наконец из тюрьмы невинного человека.
Однако сходство было чисто поверхностное. Многое мне, конечно, понравилось в этой повести – как может не понравиться святое праведничество, проявившееся в наше нелегкое время, да еще и увенчавшееся успехом! – но кое-что и не понравилось, потому что, при всем положительном, было в этой повести, как мне показалось, и то, что помешало ей стать по-настоящему достойным произведением. Я почувствовал этакую неистребимую уничижительность не столько даже героя, сколько, очевидно, самого автора перед властями. Несвободным казался мне и автор, и главный его герой, от лица которого велось повествование, а оттого благородные действия обоих были все же, на мой взгляд, какими-то ущербными. Да, герой восстал против несправедливости, допущенной государственным следователем, но только против частной, случайной несправедливости. У него и в мыслях, кажется, не было того, что несправедливость эта глубоко неслучайна, что она – следствие чего-то большего, чем недобросовестный характер следователя… Несовершенство государственной судебной машины хотя и прочитывалось в каких-то деталях, но помимо воли автора. Автор же, казалось, просто не смел идти в своих мыслях дальше. Именно не смел. Ему это, похоже, и в голову не приходило. А потому и восстание против несправедливости было здесь как бы вовсе и не восстанием, а просто более ревностным, чем у официального следователя, выполнением какого-то сомнительного долга. Долга перед машиной, а не перед людьми.
Не о свободе человека, не о презумпции уважения к личности и достоинству человека шла здесь речь, а о том, чтобы люди (в данном случае государственный следователь) как можно более ревностно и старательно выполняли свой долг перед машиной правосудия. Сама машина, рациональность ее устройства вовсе не подвергались сомнению, плоха была не машина, плохи были люди, которые ей служат. Всегда казался мне неверным и даже опасным такой подход.
Написано все было хорошо, затрагивало очень важную, наболевшую тему, но не освобождало человека, а, наоборот, еще больше закрепощало его.