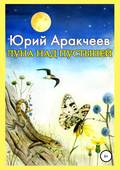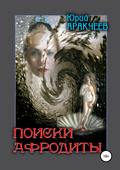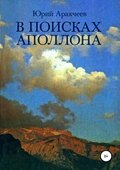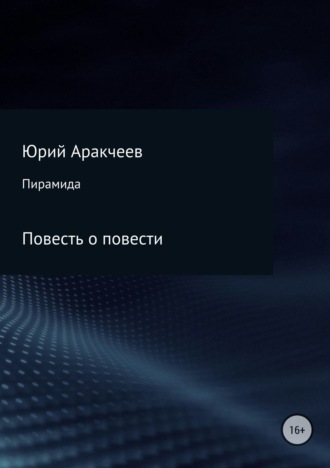
Юрий Сергеевич Аракчеев
Пирамида
Отъезд
После Виктора Петровича я посетил еще и начальника следственного отдела прокуратуры республики Иванова, и хотя человек этот был здесь новый и не знал дела Клименкина, он почему-то сам выразил желание со мной встретиться. Ничего, собственно, не говоря, он долго изучающе рассматривал меня, и чувствовал я себя весьма неуютно. Наконец мы расстались, но утром другого дня он позвонил мне в гостиницу (хотя я не оставлял ему телефона) и опять попросил о встрече. Это показалось мне уже и совсем странным, но я все же пошел. И опять ничего не говоря, со странной улыбкой он упорно рассматривал меня.
«Что, если бы у меня не было удостоверения центральной газеты и московского паспорта? – подумал я и вспомнил о Каспарове. – Своеобразная все же здесь публика».
Погода в Туркмении наладилась, было до 25 градусов тепла при ярком солнце, но, расхаживая в последний день по красивому Ашхабаду, я постоянно оглядывался – казалось, что за мной наблюдают. Подозреваю, что так оно и было.
Только ступив на московскую землю, я почувствовал себя более или менее спокойно.
Что ж, подведем итог. Удалось встретиться со всеми интересующими меня участниками дела, кроме Н. Г. Милосердовой. Это, конечно, неудача, хотя не такая уж и большая. Ведь о многом сказали материалы третьего процесса. Из разговора с В. В. Петуховым выяснилось, что ко времени третьего процесса было ей 49 лет. Вся жизнь ее была связана с судопроизводством: с двадцати двух лет была она секретарем суда, в тридцать три года – судья, в сорок четыре – член Верховного суда республики. Отзывались о ней здесь как об очень опытном, толковом работнике. Не случайно, конечно, выбрали и в парторги. Увидел я и фотографию этой женщины. Лицо уверенного в себе, властного человека. Тонкие, сухие черты. Сказали, что одинока и детей будто бы нет. Но больше всего, конечно, о ней говорило дело. Свидетельства Касиева, Каспарова, Аллы, Люды, Петухова, Алланазарова дополняли картину. «По делам их узнаете их» – не случайно же сказано. Важно не то, что человек говорит и думает, важно, что он делает, – так писал и Лев Толстой. В наше время это особенно верно. Мы строим новое, справедливое общество. Ясно же, что строить его нужно не на словах, а на деле.
Итак, «эстафетный знак» оказался в моих руках. Он был в форме пока еще не написанной повести.
Часть третья. Главная тема
Конец ноября 1975 года. Я только что вернулся из Туркмении и горю гражданским пылом. Ждет газета. Ждут Беднорц, Румер. Ждут – очень ждут! – Каспаров, Алла, Люда, Тихонов, Касиев и другие жители города Мары. Пора поставить все на свои места, назвать своими именами.
Да, дело Клименкина закончилось, наступил для героя, казалось бы, хэппи-энд… Хотя какой уж там хэппи-энд: четыре с половиной года отсидел с клеймом убийцы. К тому же четыре с половиной года борьбы, похоже, никого ничему не научили – никто из виновников этой истории не наказан за неуважение к закону, нет никакой гарантии, что такое не повторится.
Тут ясна, конечно, моя роль. Попытаться понять, осветить происшедшее, показать, кто есть кто и как все было на самом деле.
Каспаров, между прочим, говорил, что работники милиции и прокуратуры и сейчас не оставили его в покое, грозят при встрече, и, конечно, возможны всякие провокации. После визита к прокурору Виктору Петровичу, а потом к начальнику следственного отдела Иванову я особенно понял, что это не пустые слова – вот тут тоже может помочь документальная повесть. Разумеется, я не буду претендовать на роль всеобщего Судии. Но постараюсь, чтобы все было документально, честно.
Чем больше я думал над делом, тем яснее понимал: прав был Румер! Оно – наглядный урок.
Ведь такого рода ситуации создаются в нашей жизни постоянно, и каждый из нас оказывается то в одной подобной роли, то в другой.
Бываем мы и в роли Клименкина, когда возводят на нас напраслину, и нам, естественно, необходимо защитить свое имя. И видим тогда подчас, что некоторые из наших приятелей ведут себя подобно «приятелям» Клименкина. Нередко и сослуживцы наши готовы по первому же предложению какого-нибудь «следователя Абаева» осудить, «отметить о недостойном поведении» и даже «общественного обвинителя» выдвинуть – до того, как суд определит, виновен подсудимый или невиновен. Бываем мы и в роли этих самых «приятелей» и «сослуживцев», увы. И в роли адвокатов, следователей, а особенно, конечно, в роли судей случается бывать нам нередко. Сказано же, что жизнь – театр, а мы в нем – актеры.
Вот и покажу на примере дела Клименкина. Разобраться бы. Осмыслить. Задуматься. Взглянуть через эту модель каждому на себя, примерить. И, может быть, чему-то научиться.
Ответственность задачи и вдохновляла меня, и тревожила. Справлюсь ли? Смогу ли?
Это был для меня трудный год (впрочем, если подумать, то какой нетрудный?). В конце 1974‑го вышла первая книга, которую составили повести и рассказы, написанные в основном лет восемь назад. А до этого рукописи странствовали по редакциям, неизменно получая отказы, и напечатан был только один рассказ.
Вторая небольшая книжка, которая должна была выйти в том же издательстве всего лишь через год-два после первой, была непонятно почему «зарублена»…
Может показаться, что подробности моей литературной судьбы никак не относятся к делу Клименкина. Но это не так. Чем дальше, тем больше я убеждался в том, что, увы, относятся.
Начинать работу над столь серьезной повестью – документальной к тому же! – именно тогда, когда гораздо более безобидные вещи отвергаются по причине их «остроты», не самое лучшее время. Раньше-то я наивно полагал, что стоит пробить «брешь» первой книгой, как остальное пойдет само собой: как у Джека Лондона… Мои розовые надежды не оправдались. Ситуация усугублялась еще и тем, что острая, современная, документальная повесть, которую я должен писать – в отличие от произведений просто «художественных», – может довольно скоро потерять свою актуальность. В том и особенность документальной публицистики – ее нужно печатать быстро, без малейшего опоздания! Дело Клименкина продолжается, «эстафета» у меня, справедливость должна быть восстановлена до конца!
«Зарезана» была не только вторая моя книжка, но и третья. И тоже по причине нелепой, неподвластной, казалось бы, элементарной логике. И это не говоря уже о романе, который был написан десять лет назад и побывал во многих редакциях.
Временами казалось, что передо мной стена. Несмотря – повторяю – на успех первого рассказа (причем в самом лучшем нашем «толстом» журнале!) и первой книги – с предисловием одного из самых лучших наших писателей! Несмотря на хорошие рецензии в прессе…
Тут – подчеркиваю! – дело не в том, что не печатали именно мои вещи. А в том, какие. Почти никто из рецензентов не отказывал мне в литературных способностях. Вызывало нарекания и становилось основой для отказа другое: либо «акценты», либо «тематика». Если вещи были на «нужную, социальную, производственную» тему, то критиковали меня за «неправильное освещение действительности», «не те акценты», «пессимизм», «натурализм» и даже «очернительство нашей прекрасной действительности». Если же рассказы были о природе или любви, то в вину ставился, наоборот, «уход от острых проблем современности и от темы строительства коммунизма». Куда ни кинь, как творится, все – клин…
И все-таки «острую» и скорее всего «непроходную» повесть о деле Клименкина нужно было писать, отложив все остальное. И быстрее.
Но не хватало еще материала.
Командировка в Новосибирскую область, где жили Клименкины, была бы любопытной, но вряд ли необходимой. Хотя интересно, конечно, встретиться с самим Клименкиным, его невестой (а теперь, кажется, женой) Светланой, с матерью, Татьяной Васильевной, однако времени было мало, и я считал, что многие встречи могут только отвлечь от главного. Ведь – повторяю – не сам подсудимый был наиболее интересен во всей этой истории, да, собственно, и не само происшествие. А то, что вокруг.
Особенно меня интересовала Светлана. В ней я видел олицетворение извечной женской доли, ее судьба так характерна! А именно – то, что она не отреклась от Виктора, так долго терпела и еще до 26 апреля приехала к нему в Мары, забросив работу художницы, став грузчицей, и потом тоже ждала его, боролась в меру сил.
Вот ведь женская душа! То внезапно, без всяких видимых причин, вдруг бросает того, кого как будто любила, и переходит к другому, когда, казалось бы, ничто не препятствует ее спокойной и беспечальной жизни – мечте столь многих женщин! А то вдруг именно тогда, когда все против ее любви, она остается верной, выносит самые жесткие тяготы, и кажется, что несчастья только поддерживают ее любовь. Можно предположить, конечно, большое чувство Светланы к Виктору. Но тут интересно, что о Клименкине мало кто отзывался с симпатией. Все, с кем я говорил, характеризовали его как довольно невыразительную личность. Да и на фотографиях, которые были в деле, Клименкин не выглядел впечатляюще. И в поведении его на следствиях и процессах тоже ничего не было такого, что говорило бы о каких-то необыкновенных достоинствах его натуры. Из показаний самой Светланы на следствии и в суде (я ведь внимательно читал их в горсуде Мары) тоже не было видно, чем можно объяснить ее особенную верность ему.
Но что же тогда двигало Светланой, этой молодой девушкой? Может быть, она была очень некрасива, даже уродлива и, чувствуя свою неполноценность, считала, что Виктор – ее единственная надежда?
Но, как ни странно, те, кого я спрашивал о ней, говорили о Светлане как о девушке миловидной, совсем не дурнушке, скорее даже наоборот. В Мары мне удалось встретиться с бывшими подругами Светланы Гриценко, работавшими с ней на фабрике. И они тоже очень хорошо отзывались о ней, причем не только о ее человеческих качествах, но и о внешности. Показали даже ее фотографию, добавив, что в жизни она еще лучше… Милое, симпатичное лицо…
– Скажите, а Светлана пользовалась успехом у ребят? – спросил я у девушек.
– Да, за ней многие ухаживали.
– И она была верна Виктору?
– Она больше ни с кем не встречалась. Переживала за него очень. Ведь несправедливо же его посадили.
Вот так.
Разной бывает любовь… Может быть, Светланой двигало главным образом чувство человеческого достоинства, справедливости, святая женская верность? Верность тогда особенно, когда любимый в беде… Возможно, она сама этого и не осознавала.
Образ Татьяны Васильевны, матери Клименкина, тоже по-своему любопытен. Учительница Валентина Дмитриевна, по-моему, точнее всех охарактеризовала эту женщину. Ведь и матери бывают разные, а в образе Татьяны Васильевны Клименкиной интересовало меня весьма распространенное сочетание любви с деспотизмом. Постоянное желание быть в центре внимания, театральность поступков в соединении с искренностью, активность… Определенно она не отличалась покладистостью, не просто так, наверное, Бойченко завел на нее уголовное дело, не случайно и прокурор Виктор Петрович подверг ее наказанию. И даже то, что после самого первого процесса конвойный именно ее оттолкнул так, что она упала, тоже, очевидно, имело определенную причину. А заикание ее сына, и вялость его, и ранние судимости за хулиганство тоже, по меткому замечанию Валентины Дмитриевны, могли быть следствием именно материнского деспотизма, эгоцентризма, так называемой «слепой любви».
Так это или не так?
Ах, сколько же знал я подобных примеров! Как часто матери – именно матери! – становятся причиной того, что дети их – да, любимые, горячо любимые, – растут сломленными, неуравновешенными. И, конечно же, делается это все не умышленно, из самых лучших побуждений, под флагом пылкой материнской любви…
Меня проблема материнского деспотизма всегда волновала, но сейчас отвлекаться и на это было нельзя. Не то, не то главное здесь! В одной повести обо всем не скажешь, надо выбирать.
Что касается самого Клименкина, то хотя он и был центром, вокруг которого все вращалось, однако не в нем, повторяю, и не в его характере была главная суть. На месте Клименкина мог оказаться любой другой, и только два обстоятельства были важны в данном деле. Во-первых, судимости в прошлом, «подмоченность» биографии, а во-вторых, некоторая его твердость, выразившаяся в том, что он не подписал прошения о помиловании (Марк Вознесенский назвал это, правда, не твердостью, а глупостью, да ведь и не так существенно, что это на самом деле было). В остальном это был просто человек, жертва судебной ошибки. Можно сказать, что это был «человек вообще», «обыкновенный человек», по отношению к которому и родилась в русском народе поговорка: от сумы да от тюрьмы не отрекайся. И страшно, и важно было тут то, конечно, что на его месте мог оказаться каждый. А «твердость» или «глупость» тоже ведь не столь уж редкие качества…
Так что при всем уважении к личности конкретного Виктора Клименкина знакомиться с ним и как-то пристально его изучать не имело смысла сейчас.
И я ограничился тем, что послал письма всем троим, отдельно каждому, где попросил рассказать о деле и ответить на вопросы – кто, с их точки зрения, сыграл в происшедшем самую положительную роль, кто самую отрицательную, что бы они хотели сказать мне как автору будущей повести. Ведь искреннее письмо, ко всему прочему, так много говорит о том, кто его написал.
Гораздо более важным казалось мне теперь встретиться с теми, от кого зависело торжество или поражение законности – с положительными героями из Верховного суда СССР, Бариновым и Сорокиным.
Да, вот она, главная моя тема. Она в том, что в деле Клименкина столкнулись две силы – справедливости и несправедливости, добра и зла. Уважения к закону, личности, достоинству человека, с одной стороны, – и попрание всех этих главных нравственных ценностей, эгоизм, себялюбие, эгоцентризм, с другой. Ведь что было основным препятствием для выявления истины, для исправления судебной ошибки? Объединение республиканских судебных органов «во имя» защиты чести мундира. И с точки зрения самих республиканских органов это их объединение было, очевидно, оправдано. Они ведь как бы не лично за себя боролись…
А на самом деле?
А на самом деле получалось, что борются они даже не за честь мундира. Ведь они не были заинтересованы в самом, казалось бы, важном – в выявлении истины, что единственно могло бы действительно поддержать честь мундира тамошнего правосудия. Подробности и обстоятельства дела Клименкина как раз и свидетельствуют, что весь пыл служителей правосудия, все усилия их тратились не на это, не на истинную защиту чести мундира. Они тратились на защиту совсем другого. До судьбы человека, до выявления истинных преступников – то есть до того, чем и должно заниматься правосудие, – им, в сущности, не было дела. Не о своем долге перед обществом, перед людьми и вовсе не о защите какой-либо чести думали они.
Они думали только лишь о себе. О мелком, чисто личном благополучии своем. Служебном, материальном. Корысть двигала ими, а никакая не честь.
В столкновении общественного и антиобщественного, нравственного и безнравственного видел я главную тему будущей повести.
Верховный суд СССР
Итак, сначала Баринов. Румер сам позвонил, и выяснилось, что зампред отдыхает в санатории. Однако пока принять меня согласился парторг Верховного суда тов. Алмазов, который тоже был знаком с делом Клименкина.
Не без волнения входил я в старинное здание, поднимался по мраморным ступеням, искал в устланном ковровой дорожкой пустынном коридоре нужную дверь. Как все-таки сильна в человеке потребность в доверии, истине, неустанная жажда поддержки! Нужна, ах, как же необходима нам Высшая инстанция, куда можно прийти и выложить свои боли, дождаться наконец справедливого, Высшего суда… Неужели мы так и не найдем ее на Земле? «Есть грозный суд: он ждет; Он не доступен звону злата…» – писал наш поэт. А так ли на самом деле? Есть ли он, грозный-то Судия? Где он?
Итак, Верховный суд огромной, многомиллионной страны, святыня, где, кажется, не могут обитать простые смертные, где нет места человеческим слабостям и страстям, где сам воздух, кажется, должен быть разрежен и чист, как в горах. Сияющей снежной вершиной высится Верховный суд над просторами государства, и замученные, запутанные, страждущие смертные возносят свои молитвы сюда – именно сюда, и величественные Верховные судьи в незапятнанных белоснежных одеждах одаривают просителей, разрешая многочисленные их проблемы… Так думают, наверное, некоторые, подозреваю, так хочется пожалуй, думать многим, но…
Иллюзия! Вредная иллюзия… Сколько людей пострадало из-за нее, сколько разрушено судеб. Нет более высокого суда, чем суд сердца твоего, твоей совести, искать Верховный суд где-то вне – прискорбнейшая ошибка. Взваливать на плечи других то, что можешь решить только ты сам, – вот он, вечный соблазн, источник горестей и страданий. Хотя, конечно, так нужна всем нам порой защита.
Член Верховного суда, секретарь партийной организации Верховного суда, Иван Максимович Алмазов, конечно же, оказался вполне обычным человеком, одетым в обыкновенный костюм – на улице, в толпе и не выделишь такого. Пристально, с особенным интересом смотрел я на него, не только члена Верховного суда, но и секретаря парторганизации! – и как ни старался, ничего особенного не мог разглядеть. Да ведь и естественно же это.
Иван Максимович сказал, что помнит в общих чертах дело Клименкина, что оно было оценочное, что на пленуме он голосовал за отмену последнего приговора. Зампред Верхсуда Баринов вернется из Барвихи в скором времени, тогда и можно будет с ним встретиться, предварительно, разумеется, позвонив и договорившись о дне. С Сорокиным тоже. Разумеется, лучше встретиться с ним после Баринова.
И все. Разговор наш, таким образом, был короток.
Ничего особенно выдающегося я так и не заметил в Алмазове за все время нашего разговора – он был вежлив, корректен, сдержан и только, – но все это-то как раз и не удивляло. Если бы все мы поняли наконец простую, казалось бы, истину: смотри прямо, трезво, честно, в себе прежде всего ищи источник бед своих, неудач, несуразностей, не жди могучего благодетеля, не сотвори себе кумира, не обольщайся. Не от многократных ли нарушений именно этой заповеди так страдала и до сих пор страдает моя Родина, думал я с горечью.
С тех пор прошло около месяца, и в декабре мы встретились наконец с самим Бариновым.
Заместитель Председателя Верховного суда СССР тоже, конечно, ничем особенно от других смертных не отличался. Невысокий, опрятный, внимательный человек встретил меня вежливо, вспомнил о деле Клименкина, сказал, что тогда еще, при первом пересмотре, подумал о том, что необходимо поставить себя на место обвиняемого – только так можно действительно разобраться, нащупать истину. У него привычка такая – дела, подлежащие пересмотру, давать разным людям, независимо друг от друга, чтобы максимально исключить возможность ошибки. Потому он в конце концов и пригласил Сорокина, члена Военной коллегии, человека со стороны.
Я внимательно вглядывался в лицо Сергея Григорьевича, пытаясь определить, что же он все-таки за человек. Лицо казалось очень обычным, простым, и была в нем только одна, пожалуй, характерная деталь: капризно оттопыренная нижняя губа. Ну и что из этого? Вообще же произвел он на меня впечатление человека уставшего, но вполне объективного и доброжелательного.
А в деле Клименкина Сергей Григорьевич Баринов сыграл несомненно положительную роль. Он вообще один из самых положительных героев этой истории, а его обращение к Сорокину вопреки субординации (ведь Сорокин – член Военной коллегии, а дело Клименкина – гражданское…) – акт неординарный, и направлен он был на поиск истины.
– В нашем деле самое главное – объективность, – приблизительно так говорил Баринов. – Я видел, что там много напутано, а главное – надо всеми довлело представление о неприглядной личности обвиняемого. Поэтому я и пригласил «человека со стороны». Мы иногда делаем так, в особо запутанных случаях. Поговорите с Сорокиным, он должен все хорошо помнить. И просьба: когда напишете материал, покажите его нам…
Он позвонил Сорокину тут же, при мне, и дал ему распоряжение меня принять.
Роль Сорокина в деле особенно важна. Если попытаться как-то охарактеризовать его заочно, то можно, наверное, сказать так: компетентный человек. Что-то объединяло для меня Сорокина с Вознесенским. Это как раз то, чего всегда так не хватает нам. Не разговоры о делах, не благие пожелания, а именно дело, конкретное добро. Никто не обязан быть святым, мессией, каким-то особенным филантропом и так далее. Но дело свое каждый обязан делать хорошо.
В разговоре по телефону Сорокин тоже понравился мне – своим живым, бодрым и в то же время мягким, интеллигентным голосом. Он выразил готовность к немедленной встрече, мы встретились, и впечатление подкрепилось, так сказать, визуально.
Полноватый, в очках, интеллигентный и мягкий, Сорокин был не похож на судью. Хотя – как он мне сказал – ему приходилось выступать неоднократно в роли судьи первой инстанции, да еще и по военным делам, а это, конечно же, требует решительности и твердости. Мы говорили не только о деле Клименкина, но и о литературе. Сорокина заинтересовала моя книга, он попросил почитать. Оказалось, он много читает и вообще в курсе культурной жизни. «Всякая власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно», – вспомнил он известное изречение, когда я задал ему прямой вопрос: что двигало теми, кто мешал торжеству справедливости.
Любопытно было узнать его мнение об участниках процесса, которое создалось из знакомства только лишь с документами.
– Что вы думаете о Каспарове? – спросил я.
– Интересная фигура, – сказал Сорокин, подумав. – Правда, если честно, то мне не совсем понятно, что двигало этим человеком. Его высокие слова о справедливости – это, конечно, хорошо, но… Не было ли у него немножко сведения счетов с тамошней милицией? В деле он, несомненно, сыграл роль положительную, но раз уж вы хотите писать повесть, то подумайте и об этой стороне. Вам виднее, конечно, вы с ним встречались. Но личность Каспарова интересная, с этим я согласен.
Мы прошли в канцелярию, и Сорокин затребовал папку надзорной инстанции, где содержались все документы, которые относились к делу Клименкина. Можно представить, с каким интересом я рассматривал все, что там было. Кое-что удалось выписать. Именно тут я еще раз убедился в том, что в Верховном суде Союза работают такие же люди, как и везде, то есть со всеми человеческими слабостями. Сорокин показал мне заключения двух консультантов, на которых основывался отрицательный ответ А. Ф. Горкина в «ЛГ». Затребовав из Туркмении все дело, которое после третьего процесса и приговора содержалось в шести томах, они тоже, по-видимому, прочитали только два – первый и шестой, ибо все их ссылки были только на два этих тома. Сорокин деликатно указал мне на это, объяснив, что отсюда он и понял необходимость сооружать «простыню».
– Но почему же так? – наивно спросил я. – Почему так поверхностно они отнеслись к делу?
Сорокин молча пожал плечами. А потом сказал:
– Бывает. Дел ведь много, работа у них тоже нелегкая.
Расстались мы в самом искреннем взаимном расположении.
Опять и опять думал я, как же все непросто, как зависит судьба каждого от обстоятельств подчас случайных. Действительно «дел много» у всех и «работа нелегкая». Но ведь от работы проверявших «Дело» консультантов зависела судьба, жизнь человека. И если бы не тот самый звонок Румера Баринову, после которого заместитель Председателя Верховного суда согласился принять корреспондентов, если бы не благородный пыл корреспондентов и адвоката в поисках истины, если бы не компетентность и добрая воля – порядочность! – Сорокина в свое время, то… Можно, всегда, наверное, можно исправить упущения, ошибки, нейтрализовать злую волю или просто недобросовестность, равнодушие, нежелание работать отдельных людей. Но как же негасимо должен в таком случае гореть огонь порядочности, нравственности, человечности в других людях, как важно создать в обществе атмосферу, благоприятную для такого огня!.. Нельзя требовать безошибочной работы, мудрости, высокой квалификации от всех людей в обществе – ошибки, проявления злой воли будут всегда, в любом общественном механизме. Но как сделать так, чтобы возможность исправления ошибок была наибольшей? Как же создать «режим наибольшего благоприятствования» для людей нравственных, «общественных», духовно богатых?