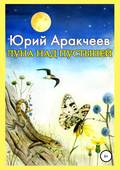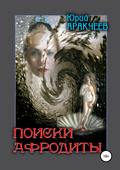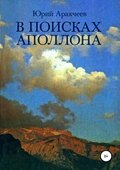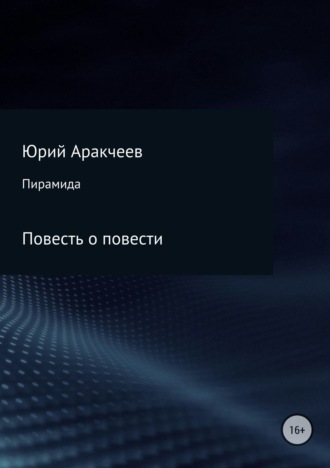
Юрий Сергеевич Аракчеев
Пирамида
Коммунальная квартира
Принято считать квартирные происшествия дрязгами. Милиция, как правило, даже и не реагирует на них. И то правда – поди разберись, особенно если ссорятся, к примеру, муж с женой. Сегодня поссорились – завтра помирились. То же и соседи. Сам «коммунальный» быт предполагает и провоцирует склоки и дрязги – никакая милиция не разберется. Муж-то с женой, видя друг друга изо дня в день, подчас начинают воспринимать это как пытку, что же говорить о соседях – людях чужих и разных, как правило, и по склонностям, и по интересам в жизни. Быт, особенно если он не устроен, сплошь да рядом, как кислота, разъедает основу человеческой нравственности – достоинство. А где страдает достоинство, там чего ж хорошего ждать?
Конечно, бывает так далеко не всегда. Наша квартира, например, при всей многочисленности ее обитателей, была одно время почти что образцово-показательной – и как раз тогда, когда было в ней наибольшее количество жильцов – двадцать четыре. Может быть, это объяснялось послевоенными общими трудностями – горе частенько сближает, может быть, давно сложившимися отношениями терпимости, солидарности еще со времен войны. Но потом семьи одна за другой стали получать квартиры, на их место вселялись новые… И все разрушилось.
Ну прямо срез общества можно стало изучать по одной нашей квартире! Были у нас представители рабочего класса, и служащие, и интеллигенция, и пенсионеры, и дети. И даже писатель нашелся, вот оно как.
Ясно же, что судьба повести моей самым непосредственным образом зависела от меня, ее автора… А моя жизнь теперь, в конце мая – июне, начала обретать все более неприятные особенности. Наши отношения с Жорой Парфеновым все обострялись. Слышал я и угрозы «зарезать» и, честно говоря, долю реальности в них видел. С одной стороны, он, конечно, просто красовался передо мной. Но с другой… Выпив, он моментально становился почти невменяемым.
И все бы ладно, но как работать? Как сосредоточиться, как искать все эти «интонации», «звуки», единственно верные слова, образы и так далее? Атмосфера, прямо скажем, сгущалась. Одно маленькое происшествие было особенно показательным.
Проясняя кое-какие детали повести, я, по совету Беднорца, звонил Александру Федоровичу Горкину – тому самому Горкину, который был секретарем Президиума Верховного Совета СССР еще при Сталине.
Звонил я теперь в основном из уличного автомата, а тут решил – из квартиры. Думал, что Жоры нет дома. И, как назло, дозвонился, и говорил с Горкиным, а в это время сосед мой услышал мой голос, заколотил в стену и закричал, что все равно меня скоро зарежет. Мог ли представить себе эту ситуацию человек, с которым я спокойно беседовал по телефону?
Наконец дошло у нас и до прямого рукоприкладства.
В коридоре я встретил Жору. Небритый, совсем опустившийся, он стал угрожать мне опять, из комнаты выглядывал его приятель – не Володя, другой, довольно хлипкий парнишка. Игнорируя его, я прошел в свою комнату и принялся бриться у зеркала. После бассейна я чувствовал себя уверенно, в форме и не запер дверь комнаты.
Дверь открылась, и на пороге возникло грузное пьяное существо. Сопя, он стал надвигаться на меня.
– Жора, уйди, – сказал я спокойно, но решительно, не прекращая бриться. – Уйди, мне некогда с тобой заниматься. Сейчас ко мне гости придут.
Сопя, он продолжал надвигаться на меня и наконец ударил. Несильно, пьяно, однако зеркальце выпало у меня из рук. Реакция моя была вполне естественной. Свободной – правой – рукой я не столько ударил, сколько толкнул его в скулу. Он отлетел к шкафу и неуклюже принял «боксерскую» стойку. В пьяных глазах его я увидел страх! Он, очевидно, вспомнил про мою боксерскую грушу, которая, кстати, висела тут же, потому и принял дурацкую «стойку». В один миг я почувствовал, что могу сделать с ним все, что хочу, что он пьян и беззащитен и что, может быть, есть смысл как следует проучить его… И вдруг его стало жаль. Он боялся меня – и это все решило. Не мог я бить испуганного пьяного человека, пусть и потерявшего человеческий облик! Лежачего не бьют, а он был лежачий, лежачий по существу…
Итак, что было делать? Почти все мои друзья и родственники знали о трагикомических, но все же чрезвычайных обстоятельствах, в которых я оказался. Многим такое было очень знакомо… Некоторые советовали на время уехать – например, на дачу к кому-нибудь, чтобы хоть закончить третий вариант и сдать Румеру, а потом уж решать, что делать дальше. Но такой выход казался мне все же отступлением, уступкой хамству и тупости, поражением в каком-то смысле.
Все виды и способы благородных переговоров «на высшем уровне» были к тому времени уже испробованы, но безрезультатно. И с женой его я говорил по-доброму, и с ним, когда он был трезв или сравнительно вменяем. Однажды в трезвом виде он даже извинился, играя, правда, ноздрями, и пообещал, что такого больше не повторится. Я стал тешить себя иллюзией, что, может быть, наконец-то наступит мир («облобызаемся, братие!») и даже подарил детскую книжечку их мальчишке. Увы, «высокой договоренности» хватило ровно до первого возлияния.
Командировка и очерк
Как бы то ни было, но третий вариант повести я закончил. И отнес Румеру. Можно было ехать в командировку от «Правды».
– Поезжай, поезжай, – сказал Румер опять с настойчивостью. – Если твой очерк выйдет в «Правде», это очень облегчит наши дела. Я говорил с замом, он считает, что пробить повесть будет очень трудно, главный вряд ли пойдет сейчас на публикацию. Конечно, мы будем пытаться, со своей стороны, я сделаю все. Будем ждать подходящего момента. Но ты обязательно поезжай! А я пока буду читать твой последний вариант и давать, кому надо.
В тот же день я позвонил Виталию Андреевичу, приехал к нему в редакцию, и мы тотчас наметили место командировки. Виталий Андреевич представил меня редактору сельхозотдела. Это был сравнительно молодой, серьезный, но и приветливый мужчина.
– Самое главное: попробуйте отразить чувство хозяина на своей родной земле, – приблизительно так растолковал он тему будущего моего очерка. – И постарайтесь найти личность. Такие есть у нас среди механизаторов. Истинные передовики – это всегда личности.
Я уехал в первых числах июля, командировка (десять дней) прошла удачно, я познакомился даже не с одним, а с двумя действительно интересными людьми, механизаторами-комбайнерами, материал, как говорится, просился на страницы газеты. Очерк написал быстро, и – о радость! – он понравился Виталию Андреевичу. Настолько прошла для меня успешно первая командировка от «Правды», что тогда же я начал на ее материале писать еще и повесть.
И вот – о исторические минуты жизни! – в конце августа мой очерк под символическим названием «Своя песня» был напечатан в «Правде». Почти полностью! С некоторыми изменениями и купюрами, но не столь уж большими…
Да, опять похвала. Еще одному хорошему человеку. И не в том, конечно же, дело, что благодаря Виталию Андреевичу и только ему был напечатан мой первый очерк на страницах центральнейшей нашей газеты. А в том, что, редактируя, Виталий Андреевич заботился прежде всего о деле. Конечно, редактор отдела меня, как говорится, «нацеливал», но обычно-то как бывает? Нацеливать-то нас нацеливают, однако потом все получается как раз наоборот. Покажите героя нашего времени, но смягчите то, с чем герою приходится во имя своих идеалов бороться. Покажите личность, но только так, чтобы личность эта не слишком-то выделялась. Покажите чувство хозяина, но так, чтобы «хозяин» знал меру и не заносился перед вышестоящим начальством. Показывайте, показывайте наши недостатки, будьте принципиальными, но… поймите же… это льет воду на мельницу… не очерняйте слишком-то… Дайте героизм, но… без страданий!
И редактор – первый, кто уверенно, спокойно начинает постепенное и привычное убиение живого. Какая там «интонация», «звук», «дыхание правды», «соответствие написанного задуманному» и прочие эмпиреи! Есть правила, есть железные установки. Есть, конечно же, мнение. И – катись ты со своими «дыханиями-звуками».
Виталий Андреевич Степанов, работавший в самой главной газете, сохранил уважение к живой личности, вот в чем фокус. Ему-то, сотруднику отдела, единственному, насколько знаю, по связи с писателями, так легко было бы напялить личину удобную – и по отношению к вышестоящим («чего изволите, гражданин начальник?»), и к «исполнителям заказа», писателям и журналистам («придется вам согласиться, товарищ – это ведь главная газета ЦК!»). Но нет, он оставался живым, чувствующим, эмоционально раскованным человеком. Уважающим живое, уважающим правду. Уважающим мнение «исполнителя».
И не в том дело, будто считаю свой первый правдинский очерк шедевром, а в том, что Виталий Андреевич как первая – и самая ответственная инстанция – на пути между писателем и читателем – помогал автору выйти на страницы газеты живым…
Легко себе представить, чем был для меня очерк в «Правде». Увидеть свою фамилию на страницах самой главной газеты, да еще под довольно большим материалом, да еще если этот материал не изуродован – это, я вам скажу, событие. Очерк понравился в редакции и секретариате, редактор отдела не скрывал своей расположенности ко мне, он предложил опять ехать от них куда угодно, в любую точку Советского Союза.
Вот такая образная фраза пришла мне тогда на ум: «Внезапно подкатил подрагивающий бронетранспортер Судьбы…» Прямо, можно сказать, к дверям комнаты в моей коммуналке.
Позвонила старая приятельница, с которой мы лет восемь назад работали на телевидении, с тех пор встречались очень редко, но она была в курсе моих литературных мытарств:
– Я вас от всей души поздравляю! Я так рада за вас. Уверена, что теперь все ваши вещи пойдут. Одна строчка в «Правде» – это событие, великий успех, а у вас целый очерк! Вы не представляете, как я рада, я даже расплакалась, когда увидела…
Я тоже чуть не расплакался, когда услышал ее. Я ведь то же самое думал. В порыве откровенности, благодарности я сказал редактору отдела про «Высшую меру», объяснил этим свою задержку с командировкой, добавил и то, что у меня много написано, а не печатают вот – в ответ на его вопрос о том, как вообще складывается моя судьба. Редактор серьезно и внимательно посмотрел на меня, улыбнулся и сказал:
– Ну, что ж, теперь, наверное, легче будет?
– Дай-то бог, – с чувством ответил я.
Увы, я не знал тогда, что легче не будет. Что подкатил именно бронетранспортер, а не дилижанс с занавесками. Не раз потом вспоминал я слова Юрия Трифонова, которые сказал он при нашей встрече после выхода моего первого сборника с его предисловием:
– Запомните: легче не будет. Будет труднее, если вы останетесь верным себе. Легче не будет!
Почему?
Ну почему все же так слабо добро? – частенько думаем мы в горечи и печали. Почему именно то, что, казалось бы, нужно всем – добросовестность, взаимная поддержка, солидарность людей в хорошем общем деле, – почему это бывает так редко? Тогда как обратное – сплошь да рядом? Как дошли мы до того, что о естественных, казалось бы, человеческих свойствах, о порядочности говорим как о героизме?
Мы боимся иметь свое мнение… Как в анекдоте: «У вас есть свое мнение?» – спрашивает сурово руководящий товарищ. «Да, есть… – нерешительно отвечает подчиненный, но тут же спохватывается: – Но я с ним решительно не согласен!»
В деле Клименкина ведь что особенно характерно? То же самое! С чего началось? С того, что Ахатов, недолго думая, принял первую же, удобную для него версию, арестовал Клименкина – и это как раз можно понять. Но дальше-то, дальше…
Приятели предали, сослуживцы на своем «собрании» тотчас общественного обвинителя выдвинули – на поводу у следователя пошли, следователь Джумаев давил и на них, и на обвиняемого, и на свидетелей. Тут же и классические лжесвидетели отыскались.
Да, конечно, заявил о себе и Каспаров – решительно согласился он со своим мнением, – за ним и другие не поддались, потому только и начался «обратный ход». Но сколько же было затрачено сил, сколько чуть ли не героизма понадобилось хорошим – а в общем-то, просто нормальным! – людям, чтобы добиться такой вот победы…
А дело-то почти с самого начала ясно было. Ведь произошла ошибка, всего-навсего – одна ошибка Ахатова. Точнее – одно только злоупотребление властью. А дальше…
Да, вот что не давало покоя. Если бы с самого начала люди, которые были втянуты в дело, говорили только правду и видели все так, как есть, а не так, как требовали какие-то побочные соображения, то не закрутилось бы ничего. Если бы все были «согласны со своим мнением»… Застопорилось бы дело на первых же оборотах! И не было бы стольких жертв с обеих сторон, и истинные преступники скорее всего были бы найдены. И самому Ахатову, пожалуй, пошло бы на пользу – глядишь, и понял, что нельзя так спешить, когда дело касается судеб людей, нельзя в самонадеянности своей заноситься. Всем лучше – и свидетелям, и сослуживцам, и следователям, и судьям, не говоря уже о подсудимом – всем! Так почему же…
Ну, хорошо, думал я. 25 – 30 лет назад те, кто имел свое мнение, подчас рисковали свободой и жизнью. Но теперь-то, после XX и XXII съездов, положение изменилось. Теперь никто как будто бы не ждал ночью требовательного стука в дверь. Так почему же… Даже мой малый опыт подсказывал: почти каждый из нас может сделать немало. А в деле Клименкина? Один-единственный Каспаров смог повернуть дело вспять, а появились потом и Румер, и Касиев, и Беднорц, и Сорокин… Так почему же все-таки согласных со своим мнением, верных ему, отвечающих за него у нас так мало?
Еще препятствие
Третий вариант «Высшей меры» был наконец передан главному редактору. Тот, по словам Румера, едва взглянув и поняв, что речь в повести идет о судебных проблемах, тотчас отдал ее одному из сотрудников газеты, который как раз писал на судебные темы. Естественно, что от него, от его мнения зависело очень многое, его авторитет мог либо помочь публикации, либо серьезно ей помешать.
Правда, ситуация, по словам Румера, осложнялась именно тем, что публицист сам регулярно публиковался в этой газете, на те же самые темы. Ему одному из первых, кстати, предложил когда-то Румер заняться делом Клименкина, но он отказался. Теперь возникал момент конкуренции… Реакция публициста на повесть была бурной, хотя и не совсем отрицательной. Как сказал Румер, у него были замечания по существу и нужно мне встретиться с публицистом, внимательно выслушать его и учесть. «Все-таки он хороший человек, и не исключено, что мы сквозь него пробьемся», – сказал Румер. Правда, сказал это как-то печально. Да и слова-то какие: «все-таки», «не исключено», «пробьемся»…
Я думал: реакция публициста не совсем отрицательная – вот что важно! Ведь он на самом деле квалифицированный специалист. Не поднимет же он руку на явного своего единомышленника.
Однако у Румера настроение перед моей встречей с публицистом было кислое.
Беднорц тоже насторожился. Он сказал, что давал повесть нескольким весьма авторитетным специалистам в области криминалистики, все, по его словам, отзывались «категорически положительно», а один доктор юридических наук, который, кстати, печатал статьи в той же самой газете и хорошо знал материалы упомянутого публициста, сказал, по словам Беднорца, так:
– Повесть написана верно и хорошо. Но это может сослужить не хорошую службу, а плохую. Вот посмо́трите.
Я, конечно, был с ним не согласен, но готовился к этой встрече серьезнейшим образом. Важно было настроиться так, чтобы, с одной стороны, внимательно выслушать все замечания по делу, по существу, а с другой – попытаться внушить моему оппоненту, что я вовсе не соперник ему. Да так ведь оно и было!
– Понимаешь, – сказал мне доверительно Румер перед самой встречей, – он тоже пробивался с большим трудом. И он мне прямо так и сказал, что ему неприятно будет, если… Я, говорит, бился-бился, в этот молодой написал одну повесть, и… Как ни объяснял я ему, что это далеко не единственная повесть, что ты пробиваешься уже много лет, он и слышать не хотел. Но ты не тушуйся. Постарайся из встречи с ним извлечь для себя все полезное. Он ведь действительно отличный специалист.
– Вещь, которую вы написали, конечно, сенсационна! – такими были первые слова публициста. – На малом пространстве вы затронули практически все больные вопросы нашей юрисдикции. Но у вас много ошибок, очень много ошибок!
Тут я насторожился. Дело в том, что все замечания юристов – и Беднорца, и Сорокина, и Баринова, и тех, кому давал рукопись Беднорц, – я учел. Не говоря уже о том, что сам неоднократно сверялся и с учебниками, и с энциклопедией, и с Уголовным и Процессуальным кодексами, и с Конституцией. Какие ошибки там могли быть? Но я самым внимательным образом слушал, не перебивая, записывал аккуратно и тем самым, наверное, как-то все же, пусть отчасти, но успокоил человека, конкурировать с которым не только не хотел, но, конечно, и не мог бы. Поэтому я попытался всячески объяснить, что написал для газеты только потому, что был послан в командировку именно от этой газеты, на самом же деле мой замысел – развернуть написанное после публикации в газете и отдать в журнал или в издательство. Но долг перед героями истории – особенно перед Каспаровым и другими положительными персонажами – обязывает меня выступить сначала именно в газете, слово которой так авторитетно.
Ошибок, на которые указал публицист, оказалось при внимательном рассмотрении очень мало. То есть их практически не было, а были, так сказать, оттенки, варианты истолкования, нюансы. Но я все выслушал, записал и поблагодарил…
Расстались мы, в общем-то, хорошо, договорившись, что после того, как, учтя его замечания и рекомендации, я сделаю новый вариант, он его еще раз посмотрит.
– Молодец, – похвалил меня Румер. – Я боялся, что ты сорвешься. Делай быстро новый, последний вариант – сократи еще, если сможешь, и покажи ему, а потом опять дадим главному.
И я принялся за четвертый вариант. Сделал его быстро и передал через Румера публицисту. Мы снова встретились.
– Сразу должен вам сказать: речь может идти только о публикации вашего материала в журнале, а не в газете. С этих позиций мы и будем говорить с вами. Вы поработали хорошо, грубых ошибок больше нет, теперь совсем другое дело. Если хотите, я помогу вам с журналом, скажите мне, куда вы отдадите рукопись, я туда позвоню.
Я слушал его обескураженно. Как это «только о публикации в журнале»? Да, правда, я поделился с ним своей мечтой о варианте журнальном, расширенном, но ведь сначала в газете же… Конечно, спорить с публицистом было мне бесполезно. Да и о чем спорить?
Я поблагодарил его, забрал материал и вновь отправился к Румеру.
– Что делать, Залман Афроимович?
– Оставь рукопись, – сказал он. – Будем пытаться через другого зама, первого. Придется еще ждать. Сначала дождемся твоего очерка в «Правде».
Очерка мы дождались. Но Румер все еще не мог сказать ничего утешительного. Редактор отдела «Правды» сам, лично предложил мне опять поехать в командировку. Началась уборочная страда на целине.
– Вы можете набрать великолепный материал, ценнейший, – агитировал он меня. – Этот год – юбилейный для целины, двадцать лет, так что тем более. Я бы на вашем месте поехал немедленно. Ваш первый очерк всем понравился, не надо тянуть. Куй железо, пока горячо, знаете, как говорят.
И буквально через несколько дней после выхода первого очерка я вновь поехал в командировку от «Правды». На этот раз в Казахстан.
Вторая поездка была еще удачней, чем первая: я набрал материала на несколько очерков – два из них потом вышли в «Правде», а один, как ни странно, в «Литературной газете»…
А с «Высшей мерой» заглохло совсем.
Румер говорил со мной по телефону кислым голосом, советовал не терять надежды, ждать, может быть, дать пока на всякий случай в какой-нибудь журнал.
Если в журнале возьмут, нам легче будет… – размышлял он, но не было уже в его словах никакого энтузиазма.
А еще он сказал, что у него есть замечания по четвертому варианту, и хотел, чтобы я опять кое-что переделал…
И, ко всему прочему, в квартире опять начал появляться Жора Парфенов.
Постановление ЦК и семинар в Переделкине
Однако я не успел ощутить по-настоящему прелесть наших встреч с Жорой, потому что по приезде из второй командировки – на целину – был тотчас приглашен на семинар «молодых рассказчиков» в Переделкине под Москвой. За что вдруг такое внимание? Сыграла, конечно же, свою роль первая публикация в «Правде», но вскоре стала ясна и другая причина. На подходе было постановление ЦК КПСС «О работе с творческой молодежью».
Значит, не только я бился об стенку! В постановлении было сказано много хороших и правильных слов о том, что у нас еще бывает небрежное отношение к представителям творческой молодежи во всех сферах искусства и литературы, что необходимо «со всей решительностью усилить», «повысить», «исправить», «помочь» и «наладить дальнейшее совершенствование».
Началась кампания, и я попадал в обойму…
Из богатого опыта мы все уже знаем, что, как правило, кампании начинаются более или менее бурно, а угасают более или менее быстро, но все же в начале кампании есть возможность вскочить на какую-то из ступенек.
Очевидно, это последнее очень хорошо понимали молодые рассказчики, собранные в Переделкине накануне выхода постановления. Началось, правда, с более или менее творческих «обсуждений» работ каждого из собравшихся. Но очень быстро все поняли, что к атмосфере творческого общения мы не привыкли.
На семинар «молодых рассказчиков» потянулись редакторы журналов, и естественно, что участникам семинара лучше было не сидеть на бесполезном «обсуждении» своих рассказов среди молодых коллег-неудачников, а встретиться с кем-то из редакторов. «Творческая встреча» стала приобретать слишком практический характер, что, в общем-то, и понятно. Атмосфера становилась все более неприятной. «Святой огонь» солидарности, дружбы, верности общему делу так и не вспыхнул.
Как не вспыхивал он и на тех «встречах», «семинарах», «обсуждениях», где мне приходилось бывать прежде… Не до огня. Напечатать бы, «протолкнуть» в какой-нибудь печатный орган.
Как-то Виктор Сергеевич Розов, которого я очень уважаю, в печати посетовал, что вот, мол, не стало творческого общения среди молодых – даже в Литературном институте! – и не принято теперь хвалиться тем, например, что написал хороший рассказ. Хвалятся, что удалось напечатать рассказ! И упрек, и печаль звучали в этих словах писателя… «Святая наивность!» – подумали, наверное, многие, читая эти слова. Да кому нужен-то хороший рассказ? Кого это на самом деле волнует? Напечатанный рассказ – это да. А хороший… Их, может, много по разным столам валяется. Десятилетиями. Ну и что? Тут и впрямь возненавидишь «святой огонь». Что в нем, в «огне» этом, если читатели о нем и не догадываются, а редакторы боятся…
И все же чувствовалось, что хотелось, очень хотелось многим из тех, кто собрался тогда в Переделкине, творческого разговора, общения, солидарности… Не получилось.
Как и многие, я уехал с семинара до его окончания. Ко мне тоже подходили некоторые редакторы, и я дал кое-какие рассказы, но если честно, ни на что не надеялся. Говорила со мной и редактор радио – с целью сделать передачу по очерку в «Правде». Мы проговорили полдня, но понимания так и не достигли. Интересна одна деталь: газета не напечатала эпизод, в котором механизатор, лучший комбайнер области, орденоносец, член обкома, увидев вопиющую бесхозяйственность диспетчера, тотчас связался с первым секретарем райкома, пожаловался ему, и тот распорядился глупое решение диспетчера отменить. Была, значит, проявлена та самая инициатива, к которой так призывала нас партия – инициатива каждого работника на своем рабочем месте. Естественнейший из поступков, казалось бы. Ан нет, как выяснилось, «слишком острым» оказалось это место, «непроходимым». Потому что ежели каждый, значит, будет чуть что на своего маленького начальника высокому жаловаться, то что же это начнется? Нарушение принципа единоначалия? Партизанщина?
Смешно и грустно, но именно так, очевидно, поняли этот эпизод и в газете, и именно так поняла его редактор радио, которой я предложил эпизод в передачу включить. Правда, в результате трехчасового разговора и в знак особого расположения ко мне она обещала постараться… пробить. И сообщила мне это с таким видом, словно брала на себя ответственность за немыслимую крамолу. Если это была крамола, то о чем вообще говорить?