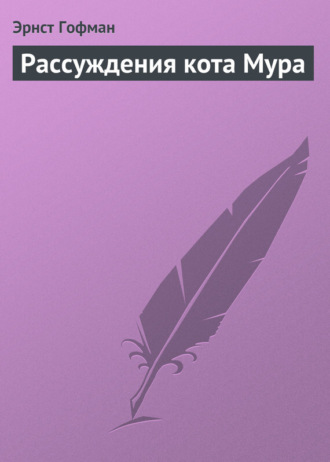
Эрнст Теодор Амадей Гофман
Рассуждения кота Мура
В таких гениальных головах, как моя, при всяком случае, при всяком новом житейском открытии являются особенные, своеобразные мысли. Так и теперь: зрело обдумавши мое душевное настроение и все мои отношения с Понто, я пришел к некоторым остроумным выводам, достойным того, чтобы ими поделиться. «Отчего это, – говорил я самому себе в раздумьи и положивши лапу на лоб, – отчего это великие поэты и философы, будучи вообще остроумны и мудры, кажутся такими беспомощными в так называемом знатном обществе? Они постоянно суются туда, где бы им не следовало быть в данную минуту, говорят именно тогда, когда следовало бы молчать, и молчат в тех случаях, когда нужны слова; они везде толкаются в направлении, противоположном сложившимся формам общества, и оскорбляют и себя, и других; одним словом, они похожи на того, кто, попав в толпу весело гуляющих людей, один из всех стремится к воротам и, с трудом пролагая себе путь, мешает всем остальным. Я знаю, что это приписывают недостатку светского воспитания и лоска, которые нельзя приобрести, сидя за письменным столом; но думаю, что приобрести эту культуру не очень трудно и что эта непобедимая неумелость ученых и поэтов зиждется на другом основании. Великий поэт или философ не был бы таковым, если бы не чувствовал своего превосходства; но, несмотря на то, что чувство это свойственно всем остроумным людям, поэту и философу не следовало бы выказывать его, так как другие не признают этого превосходства; оно нарушает равновесие, поддерживать которое составляет главную заботу так называемого знатного общества. Голос всякого отдельного члена общества должен присоединиться к полному аккорду, составляющему целое, а тон поэта звучит диссонансом, и если в других условиях он даже и очень хорош, то в данном случае плох, так как не подходит к целому. Хороший тон, точно так же как и вкус, заключается в отсутствии всего лишнего. Далее я думаю, что неловкость и дурное настроение, вытекающие из противоречивых чувств своего превосходства и своей ненужности, мешают философам и поэтам, впервые попавшим в светский круг, узнать его и стать выше него. Нужно, чтобы в данную минуту поэт или философ не слишком высоко ставил свое внутреннее превосходство: тогда он не слишком высоко будет ценить и так называемую «высшую светскую культуру», состоящую только в старании сгладить все углы и неровности и придать всем физиономиям один и тот же вид, вследствие чего они и сливаются воедино. Тогда, освободившись от неприятного чувства, может он непринужденно и легко изучить внутреннюю природу этой культуры и жалкие посылки, на которых она основана, и с помощью этого знания войти в этот странный свет, считающий свою культуру недостижимой. Так случается и с художниками, которых, как и писателей, и поэтов, время от времени приглашают в свой круг знатные люди, чтобы, согласно добрым обычаям, некоторым образом претендовать на меценатство. К сожалению, эти художники начинают обыкновенно сбиваться на ремесленников и потому бывают или смиренны до низкопоклонства, или развязны до грубости».
(Примечание издателя. – Мне жаль, Мур, что ты так часто рядишься в чужие перья. Я справедливо опасаюсь, что ты сильно потеряешь от этого во мнении благосклонных читателей. Не исходят ли все эти замечания, которым ты так кичишься, прямо из уст капельмейстера Иоганна Крейслера, и возможно ли вообще, чтобы ты обладал такой житейской мудростью, чтобы глубоко проникать в самое удивительное на земле, то есть в чувства человеческого писателя?)
«Отчего бы, – думал я дальше, – умному коту, будь он поэт, писатель или художник, не могло удаться возвыситься до познания высшей светской культуры и применять ее во всей красоте и прелести внешних проявлений? Разве природа дала преимущества этой культуры одному только собачьему роду? Если мы, коты, и отличаемся немного от этой гордой породы в том, что касается одежды, привычек и образа жизни, то ведь у нас есть мясо и кровь, тело и дух, и в конце концов собаки тоже не могут устроить свою жизнь иначе, чем мы. Собаки тоже должны есть, пить, спать и так далее, и им также бывает больно, когда их бьют».
Что было дальше?.. Я решил предоставить свое светское воспитание моему молодому знатному другу Понто и в полной гармонии чувств вернулся в комнату хозяина. Бросив взгляд в зеркало, я убедился, что даже серьезное желание стремиться к высшей культуре уже подействовало на мою внешность. Я смотрел на себя с величайшим наслаждением. Что может быть приятнее того состояния, когда мы вполне довольны собой?.. Я начал мурлыкать.
На другой день я не удовольствовался тем, чтобы сесть перед дверью, а пошел бродить по улице, и скоро увидел вдали барона Алкивиада фон Виппа, а за ним скакал мой веселый друг Понто. Ничего не могло быть более кстати.
Я постарался придать как можно больше достоинства своей осанке и подошел к другу с той неподражаемой грацией, которая, будучи неоцененным даром природы, не нуждается ни в какой выучке. Но – о ужас! – вот что произошло. Увидев меня, барон остановился, внимательно посмотрел на меня через пенсне и затем воскликнул: «Понто, allons, куси, куси! Кошка, кошка!» И фальшивый друг мой Понто в ярости наскочил на меня!.. В ужасе потерял я всякое самообладание от такого позорного предательства. Утратив способность к какому-либо сопротивлению, я постарался только как можно ниже пригнуться к земле, чтобы избегнуть острых зубов Понто, которые он с рычаньем и лаем оскалил на меня. Но Понто несколько раз перепрыгнул через меня, не задев меня, и шепнул мне на ухо:
– Мур, не будь дураком и не бойся! Ведь ты же видишь, что это не серьезно, я делаю это только для того, чтобы понравиться моему господину. – Понто повторил свои прыжки и даже сделал вид, что теребит меня за уши, хотя нисколько не сделал мне больно.
– Теперь, друг Мур, – шепнул мне наконец Понто, – заберись вон туда, в погреб!
Я не заставил повторять себе это два раза и вскочил в окно погреба с быстротою молнии. Несмотря на уверения Понто, что он не сделает мне никакого вреда, я все-таки очень боялся, потому что в таких критических случаях никогда нельзя знать, достаточно ли сильна будет дружба, чтобы победить природу.
Когда я был уже в погребе, Понто продолжал играть комедию, начатую им на потеху своего господина. Он рычал и лаял перед окном погреба, совал морду через решетку и делал вид, что совершенно вне себя оттого, что я от него убежал, и он не может меня догнать.
– Видишь ли ты, – сказал мне Понто, глядя в погреб, – видишь ли и признаешь ли ты теперь выгодные последствия высшей культуры? Я выказал сейчас своему господину послушание, не возбудив в тебе вражды, добрый Мур. Так поступают истинно светские люди, предназначенные судьбой быть орудием в руках сильных. Они должны бросаться вперед, но при этом обладать такой ловкостью, чтобы кусаться только там, где это выгодно им самим.
Я тотчас же открыл юному другу, как я жаждал воспользоваться его светской культурой, и спросил, может ли он и каким именно образом взять меня в ученье. Понто поразмыслил некоторое время и затем сказал, что лучше всего будет, если я с самого начала увижу живую и ясную картину высшего света, в котором он теперь имеет удовольствие вращаться, и самое лучшее будет, если я сегодня же вечером пойду вместе с ним к прелестной Бадине, у которой собирается общество во время представлений в театре. Бадина была левреткой, служившей у княжеской гофмейстерины.
Я принарядился как можно лучше, почитал немного «Об обращении с людьми» Книгге, прочел несколько новейших комедий Пикара, чтобы при случае выказать свои познания во французском языке, и вышел из дому. Понто не заставил себя долго ждать. Мы пошли по улице и вскоре достигли ярко освещенной комнаты Бадины, где я нашел пестрое общество, состоявшее из пуделей, шпицев, мопсов, болонок и других собак, разбившихся на кружки и группы.
Сердце мое сильно забилось в этом незнакомом обществе враждебных натур. Многие пудели смотрели на меня с некоторым презрительным удивлением, как бы желая сказать: «Что нужно этому коту в нашем великосветском обществе?» Или вдруг какой-нибудь элегантный шпиц начинал скалить на меня зубы, как будто желая показать, с каким удовольствием он вцепился бы в меня, если бы приличие, достоинство и воспитание гостей не считало непозволительным всякую драку. Понто вывел меня из затруднения, представив меня прекрасной хозяйке, которая уверяла меня с милой непринужденностью, что ей приятно видеть у себя кота с моей известностью. Только тогда, когда Бадина сказала мне несколько слов, некоторые гости с истинно собачьим добродушием подарили меня своим вниманием, заговорили со мной и вспомнили о моем писательстве и моих произведениях, которые иногда очень их забавляли. Это льстило моему тщеславию, и я почти не заметил, что меня спрашивали, не обращая внимания на мои ответы, хвалили мой талант, совсем его не зная, и ценили мои произведения, вовсе их не понимая. Природный инстинкт внушил мне отвечать так же, как меня спрашивали, то есть не обращая внимания на вопрос, и говорить вообще коротко и в таких общих выражениях, что они могли относиться решительно ко всему, не выражая никакого мнения, все время скользя по гладкой поверхности и не задевая глубины предмета. Понто уверил меня, будто бы один старый шпиц сказал ему, что я довольно забавен для кота и выказываю наклонность к хорошему разговору. Неуверенных в себе радует даже и такая малость! Жан-Жак Руссо рассказывает в своей «Исповеди», как он украл и видел, что наказали невиновную девочку за то воровство, которое он сделал, и не признался в нем, – и прибавляет, как тяжело ему вспоминать и признаваться в этой низости. Я нахожусь теперь в точно таком же положении. Мне нечего признаваться в злодействе, но если я желаю остаться правдивым, я не могу умолчать о глупом чувстве, которое овладело мной в тот же вечер и долго смущало меня до того, что я едва не лишился рассудка. А разве легче признаваться в глупости, чем в злодействе? Иногда еще труднее.
Скоро мне сделалось до такой степени тяжело и неприятно в незнакомом обществе, что невыносимо захотелось быть далеко отсюда, под печкой у моего хозяина. Меня угнетала нестерпимая скука, заставившая меня, наконец, забыть всякий хороший тон. Я тихонько забился в отдаленный уголок, чтобы предаться сну, который наводили на меня разговоры окружающих. Эти разговоры, которые, быть может, ошибочно приняты были мною в моем раздражении за самую глупую и бесцветную болтовню, доходили до меня теперь, как однотонный шум мельничных колес, при котором легко впадают в приятную дремоту, чтобы затем впасть в настоящий сон.
Во время этой дремоты, этого сладкого бреда мне показалось, что перед моими закрытыми глазами внезапно блеснул яркий свет. Я взглянул и увидел, что прямо передо мной стоит прелестная, белоснежная девица; как узнал я потом, это была прекрасная племянница Бадины – Минона.
Минона заговорила тем нежно-лепечущим голосом, который всегда так сильно действует на впечатлительное сердце огненного юноши.
– Я вижу, – сказала она, – что вы сидите здесь в полном одиночестве и как будто скучаете. Мне жаль вас! Но, конечно, такой великий поэт, как вы, витая в высших сферах, должен находить пустым и поверхностным течение обыденной жизни.
Я поднялся, немного смущенный, и мне было больно, что моя природа, пересилившая все теории о хороших манерах, понудила меня высоко поднять спину, как делают обыкновенно коты, чему Минона как будто улыбнулась.
Но, вернувшись сейчас же к хорошим манерам, я взял лапу Миноны, тихонько прижал ее к своим губам и заговорил о вдохновенных моментах, часто посещающих поэта. Минона слушала меня с такими явными знаками искреннего участия, с таким вниманием, что я все более и более воодушевлялся необыкновенной поэзией и наконец и сам перестал себя понимать. Минона, конечно, тоже мало поняла, но она пришла в восхищение и уверяла меня, что ее заветным желанием было познакомиться с гениальным Муром и что настоящая минута – одна из самых счастливых и прекрасных в ее жизни.
Что должен был я ответить?
Вскоре оказалось, что Минона читала мои произведения и мои чудные стихи, и не только читала, но и поняла их высокое значение. Многие из них она знала наизусть и произносила их с таким увлечением и грацией, что предо мной открылось целое небо поэзии, – в особенности потому, что прекраснейшая представительница собачьей породы говорила мои стихи.
– Прекрасная девушка, – воскликнул я в совершенном восторге, – вы поняли мои чувства, вы выучили наизусть мои стихи! Есть ли высшее блаженство для стремящегося к любви поэта?
– Мур, – прошептала Минона, – гениальный кот, можете ли вы думать, что чувствительное сердце и поэтический ум могли не оценить вас? – При этих словах Минона глубоко вздохнула, и этот вздох подал мне надежду.
Что же было дальше?
Я до такой степени влюбился в прекрасную борзую барышню, что в безумии и в ослеплении не заметил, как она вдруг остановилась среди порыва вдохновения, начавши самый пустой разговор с каким-то франтиком-мопсом, как она избегала меня весь вечер и обращалась со мной так, что я мог бы ясно понять, что ее похвалы и ее восторги тешили только ее самое. Но я все-таки был и остался слепым глупцом и следовал за прекрасной Миноной всюду, где только мог, воспевал ее в прекрасных стихах, делал из нее героиню многих милых и безумных историй, втирался в общество, к которому я не принадлежал, и испытал много горькой досады, насмешек и мучительных страданий.
Нередко в благоразумные минуты мне самому становилась ясна глупость моего поведения, но затем опять дурацким образом вспоминал я Тассо и многих новейших поэтов с рыцарскими нравами, которые избирали недосягаемую героиню, посвящали ей свои песни и обожали ее издали, как Дон-Кихот свою Дульцинею, – и мне снова хотелось быть не глупее и не менее поэтичным, чем они, и я клялся сохранить до смерти непоколебимую верность и рыцарские чувства к олицетворенной мечте моих любовных снов – к прелестной белой борзой девице. Поддавшись этому странному безумию, я переходил от одной глупости к другой, и даже друг мой Понто от меня отвернулся после того, как он серьезно предостерегал меня от тех злых мистификаций, которыми меня везде старались опутать. Кто знает, что случилось бы со мной еще, если бы надо мной не господствовала счастливая звезда! Руководимый этой счастливой звездой, пробирался я однажды поздно вечером к прекрасной Бадине только для того, чтобы увидеть возлюбленную Минону. Я нашел все двери закрытыми, и все мои ожидания, все надежды найти возможность проскользнуть к ней были тщетны. С сердцем, полным любви и муки, хотел я, по крайней мере, известить прекрасную о моей близости и начал под окном испанскую серенаду, самую нежную из всех, когда-либо сочиненных на свете. Вероятно, она очень жалобно звучала.
Я слышал лай Бадины, при этом урчал что-то и нежный голос Миноны. Но прежде чем я успел опомниться, быстро отворилось окно и на меня вылили ведро холодной воды. Можно себе представить, с какой быстротой вернулся я в родной дом. Пламя в груди и ледяная вода на шкуре так плохо гармонируют друг с другом, что из этого не могло выйти ничего, кроме болезни. Так случилось и со мной. Когда я пришел в дом моего хозяина, меня начала трясти лихорадка. По бледности моего лица, слабому блеску моих глаз, горящему лбу и неправильному пульсу хозяин догадался о моей болезни. Он дал мне теплого молока, которое я с жадностью вылакал, так как язык мой прилипал к гортани от жажды; затем я свернулся на своем ложе и вполне предался недугу, который овладел мной. Сначала я впал в горячечный бред о высшей культуре борзых собак, но потом мой сон стал спокойнее и наконец сделался так глубок, что я, без преувеличения, проспал три дня и три ночи сряду.
Когда я наконец проснулся, мне было легко и свободно; я совершенно излечился от лихорадки и – как странно! – также и от моей безумной любви. Мне сделалось совершенно ясна та глупость, к которой привел меня пудель Понто; я увидел, как нелепо было мне, природному коту, вмешиваться в общество собак, которые надо мной насмехались, не будучи в состоянии понять мой ум, и слишком держались за форму вследствие своей бессодержательности, мне же не могли дать ничего, кроме шелухи без зерен. Любовь к наукам и искусствам воскресла во мне с новой силой, и заботливость моего хозяина привлекала меня более, чем когда-либо. Наступили зрелые месяцы мужчины, и, не будучи ни кошачьим буршем, ни изящным светским франтом, я живо чувствовал, что не следует мне быть ни тем, ни другим, чтобы представлять собою то, чего требуют лучшие взгляды на жизнь.
Хозяин мой должен был уехать и счел за благо отдать меня на время в услужение своему другу, капельмейстеру Иоганну Крейслеру. Так как с этой переменой начинается новый период моей жизни, то я заканчиваю теперь описание моей юности, из которого, юноша-кот, ты можешь почерпнуть столько поучительного для твоей будущности.
(М. л.) …до ушей его достигли глухие, отдаленные звуки, и он услышал, как по коридору шли монахи.
Когда Крейслер совсем освободился от сна, он увидел из своего окна, что церковь освещена, и услышал пение хора. Полуночная служба уже кончилась; очевидно, случилось нечто необыкновенное, что заставило монахов опять собраться в храме, – и Крейслер должен был справедливо предположить, что причиной этого была нежданная и быстрая смерть какого-нибудь старого монаха, которого по обычаям монастыря принесли в церковь. Капельмейстер быстро накинул платье и отправился в церковь. По дороге он встретил заспанного отца Илария, который, громко зевая, шатался из стороны в сторону, не будучи в силах сделать ни одного твердого шага, и держал зажженную свечку не вверх, а вниз, так что воск капал на пол и ежеминутно грозил затушить свечу.
– Ваше преподобие, – сказал Иларий, когда Крейслер его окликнул, – это противно всем нашим обычаям! Экзеквием ночью, в этот час! И только потому, что здесь брат Киприан! Domine! Libera nos de hoc monacho![138]
Наконец Крейслеру удалось убедить полусонного монаха, что он не аббат, а Крейслер, и он с трудом от него добился, что ночью принесли труп неизвестного человека, которого знал, по-видимому, один только брат Киприан и который был, вероятно, не простой человек, так как аббат велел, по настоятельному требованию Киприана, сейчас же начать экзеквием, чтобы завтра после первой службы можно было перенести тело. Крейслер последовал за патером в церковь, которая при скудном освещении представляла страшное зрелище.
Зажгли только свечи большого металлического паникадила, свешивавшегося с высокого потолка главного алтаря, так что колеблющееся пламя едва освещало главную часть церкви, бросая в боковые проходы отраженный свет, при котором монахи казались статуями, проснувшимися для призрачной жизни и блуждавшими по церкви.
В самом ярком свете под паникадилом стоял открытый гроб, в котором лежал труп, и окружавшие его монахи тоже казались бледными и безжизненными, как мертвецы, вставшие из могил в час привидений. Глухими и хриплыми голосами пели они монотонные строфы реквиема; когда же они умолкали, снаружи доносился зловещий шум ночного ветра, и высокие окна странно звенели, будто тени умерших стучались в дом, где слышали благочестивый плач по мертвецу. Крейслер подошел к гробу и узнал в мертвом адъютанта принца Гектора.
Тогда поднялись так часто овладевавшие им мрачные духи и безжалостно вцепились острыми когтями в его израненную грудь.
– Дразнящий призрак, – сказал он себе самому, – для того ли ты привлек меня, чтобы у этого неподвижного юноши выступила кровь? Ведь говорят, что на трупах проступает кровь, когда приближается убийца. Ого, разве я не знаю, что у него вытекла уже вся кровь в те злые дни, когда он искупал свои грехи на одре болезни? У него не осталось ни капли крови, которой он мог бы отравить своего убийцу, даже если бы тот и близко к нему подошел, особенно Иоганна Крейслера, так как Крейслеру нечего делать с ехидной, которую он придавил к земле, когда она уже вытянула свое острое жало, желая нанести смертельную рану!.. Открой свои глаза, мертвец, чтобы я мог прямо взглянуть в них и чтобы ты увидел, что я не причастен к греху!.. Но ты не можешь этого сделать!.. Кто велел тебе ставить одну жизнь против другой? Зачем завел ты неверную игру с убийством и не приготовился к тому, чтобы проиграть в нее! Но какая кротость и доброта в чертах твоих, тихий и бледный юноша; смертная мука изгладила на твоем прекрасном лице всякий след греха, и я мог бы сказать, что небо откроет перед тобою двери своего милосердия, если бы это теперь было нужно, потому что в сердце твоем была любовь. А что если я в тебе ошибся?.. Если не ты и не злой демон, а моя счастливая звезда подняла на меня твою руку, чтобы вырвать меня из ужасной тюрьмы, которая ждет меня в черной преисподней… Тогда мог бы ты открыть свои глаза, бледный юноша, и увидеть все примиряющим взором. Должен ли я отойти от тебя с унынием или со страшной боязнью, что меня сейчас схватит черная тень, скользящая за мною?.. Да, смотри на меня… Но нет, нет, ты, пожалуй, взглянешь на меня, как художник Леонгард Этлингер, так что я подумаю, что это именно он, а не ты, и я должен буду спуститься с ним в мрачную глубину, откуда я часто слышу его глухой замогильный голос… Но что это?.. Ты улыбаешься?.. Твои щеки и губы покрываются краской? Разве ты не поддаешься орудию смерти? Нет, я больше не буду с тобой сражаться, но…
Крейслер, который во время этого разговора с самим собой бессознательно стал на одно колено и поставил локти на другое, подложивши руки под подбородок, вдруг быстро вскочил и, наверно, сделал бы что-нибудь странное и дикое, но в эту минуту монахи замолчали, и мальчики с хоров запели с нежным аккомпанементом органа «Salve, regina»[139]. Гроб закрыли, и монахи торжественно вышли из церкви. Тогда мрачные духи оставили бедного Иоганна, и, погруженный в уныние и скорбь, последовал он с опущенной головой за монахами. Он только что хотел подойти к двери, как в темном углу поднялась какая-то фигура и быстро подошла к нему.
Монахи остановились, и яркий свет их свечей упал на высокого, коренастого парня, которому можно было дать не больше двадцати лет от роду. Его лицо было безобразно и выражало дикое упрямство. Спутанные черные волосы спускались с головы, изорванная фуфайка из пестрой шерстяной материи едва прикрывала тело; панталоны едва доходили до голых икр, так что вполне было видно геркулесовское сложение его тела.
– Проклятый, кто позволил тебе убить моего брата? – дико закричал парень, так что голос его раздался по всей церкви, – и, подскочив к Крейслеру, как тигр, он схватил его за горло.
Но прежде чем Крейслер, испуганный этим неожиданным нападением, успел подумать о своей защите, около него был уже отец Киприан, крикнувший громким и повелительным голосом:
– Джузеппе, безбожный, грешный человек, что ты здесь делаешь? Где ты бросил старую мать?.. Сейчас иди вон!.. Ваше преподобие, господин аббат, велите позвать монастырских служителей, пусть они запрут этого злодея!
Как только подошел к нему Киприан, парень оставил Крейслера.
– Ну, ну, – воскликнул он сварливым тоном, – не делайте дураков из людей, которые хотят вступиться за свое право, святой отец! Я сам уйду, вам не нужно напускать на меня монастырских служителей.
С этими словами он быстро убежал через боковую дверку, которую забыли запереть и через которую он, вероятно, и пробрался в церковь. Явились монастырские служители, но решили, что не сто́ит преследовать бежавшего в такую глубокую ночь.
По свойству натуры Крейслера на него благодетельно действовало все необычайное и таинственное, когда ему удавалось победить бурю, грозившую его уничтожить.
Так случилось и теперь: аббату показалось странным и непонятным то спокойствие, с которым Крейслер явился перед ним на другой день и заговорил о потрясающем впечатлении, произведенном на него в этой необычайной обстановке видом трупа того, кто хотел его убить и кого он убил сам по печальной необходимости.
– Ни церковь, ни светский суд, – сказал аббат, – не могут, милый Иоганн, считать вас виновным в смерти этого грешного человека. Но вы долго еще не отделаетесь от упреков внутреннего голоса, говорящего вам, что лучше самому пасть, чем убить противника, – и это доказывает, что предвечному угоднее жертва собственной жизни, чем ее сохранение, если сохранить ее удается лишь посредством кровавого дела. Но оставим это; есть нечто более близкое, о чем мне нужно с вами поговорить. Какой смертный представляет себе, как может измениться положение вещей в ближайшую минуту? Недавно еще был я твердо уверен, что для спокойствия вашей души не может быть ничего лучше того, как отказаться от мира и вступить в наш орден. Теперь я другого мнения и посоветую вам, при всей моей любви и уважении к вам, скорее оставить аббатство. Не заблуждайтесь на мой счет, дорогой Иоганн! Не спрашивайте меня, зачем подчиняю я свои взгляды воле другого, который грозит сломать все, что я создал с таким трудом. Чтобы понять меня, вы должны глубоко проникнуть в тайны церкви, если только я захочу говорить с вами о моем образе действий. Но я действительно могу говорить с вами свободнее, чем со всяким другим. Знайте же, что в скором времени пребывание в аббатстве не будет приносить вам благодетельного покоя. Весь монастырский устав будет изменен, свобода, совместимая с благочестивыми нравами, кончится, и в стенах этих будет царствовать с неумолимой строгостью мрачный дух фанатического монашества… О милый Иоганн, ваши чудные песни не будут больше возносить ваш дух к высочайшему благочестию, хор будет упразднен, и скоро мы не услышим ничего, кроме однозвучных респонсорий старших братьев, с трудом протянутых хриплыми голосами.
– И все это случится, – спросил Крейслер, – из-за приезжего монаха Киприана?
– Да, дорогой мой Иоганн, – уныло сказал аббат, опуская глаза, – и я невиновен в том, что не может быть иначе.
Аббат помолчал немного и затем прибавил, возвышая голос:
– Но все, что может усилить крепость и пышность церкви, должно совершиться, и никакая жертва не бывает слишком велика!
– Кто тот всемогущий и повелевающий вами святой, – с неудовольствием сказал Крейслер, – одного слова которого было достаточно, чтобы отогнать от меня человека, хотевшего меня убить.
– Дорогой Иоганн, – отвечал аббат, – вас коснулась тайна, которую вы пока еще не вполне понимаете. Но вскоре вы узнаете многое, – быть может, даже больше, чем знаю я сам; это случится через мейстера Абрагама. Киприан, которого мы недавно назвали своим братом, – один из избранных. Он удостоен того, что может вступить в непосредственные сношения с небесными силами, и мы должны теперь же почитать его как святого. Что же касается того парня, который пробрался в церковь во время экзеквиема и напал на вас, то это – полусумасшедший беглый цыган, которого наш суд много раз уже приговаривал к плетям за то, что он воровал у крестьян откормленных кур. Чтобы укротить его, не нужно особого чуда.
При последних словах углы рта аббата искривились легкой иронической улыбкой, которая сейчас же исчезла.
Крейслером овладело горькое, неприятное чувство; он увидел, что при всех преимуществах ума и понимания аббатом руководило ложное ослепление и что все аргументы, приводившиеся им тогда, когда он побуждал его поступить в монастырь, точно так же служили предлогом для скрытых соображений, как те, которые он приводил теперь, доказывая противоположное. Кейслер решил оставить аббатство и совершенно устраниться от тех зловещих тайн, которые при дальнейшем его пребывании здесь могли опутать его сетями, из коих он не мог бы освободиться. Когда же он подумал о том, что он скоро вернется в Зигхартсгоф к мейстеру Абрагаму и опять увидит и услышит ту, что была его единым помышлением, он почувствовал в груди сладостное стеснение, которым выражается пламенное любовное стремление.
Весь углубившись в себя, шел Крейслер по главной дорожке парка, когда его догнал отец Иларий и сейчас же заговорил:
– Вы были у аббата, Крейслер? Он все вам сказал? Так я был прав? Все мы погибли! Этот духовный комедиант… Вылетело слово, ну это между нами! Когда он, – вы знаете, кого я подразумеваю, явился в Рим монахом, его святейшество папа сейчас же принял его в аудиенции. Он упал на колени и поцеловал папскую туфлю. Но, не сделав ему никакого знака, его святейшество заставил его пролежать целый час. «Это будет твоим первым церковным наказанием», – сказал папа, когда монаху позволено было, наконец, встать и вслед затем начал длинную проповедь о греховных заблуждениях, в которые впал Киприан. Затем тот выдержал долгое испытание в потайных покоях и вышел оттуда святым!.. Давно уже не было святых!.. Чудо, – вы ведь видели картину, Крейслер? – чудо, говорю я, получило свое настоящее оформление прежде всего в Риме. Я – не более как честный бенедиктинец, искусный praefectus chori (хормейстер), как вы меня называете, и выпиваю стаканчик ниренштейна или боксбейтеля во славу благодатной церкви, но… все мое утешение в том, что он недолго здесь останется. Он должен странствовать. Он, конечно, будет делать чудеса. Смотрите, Крейслер, смотрите, вот он идет по дорожке. Он увидел нас и знает, как должен вести себя.
Крейслер увидел монаха Киприана, который медленным, торжественным шагом шел по дорожке, устремив неподвижный взор к небу и сжав руки, как бы в порыве благочестивого экстаза.
Иларий быстро удалился, но Крейслер остался, погруженный в созерцанье монаха, весь вид и все существо которого носили на себе отпечаток чего-то странного и чуждого, как бы отличавшего его от всех остальных людей. Великий, необычный жребий оставляет видимые следы, и, может быть, чудная судьба сделала внешность монаха такой, какой она казалась теперь.
Монах хотел пройти мимо, не замечая в своем экстазе Крейслера, но тот почувствовал желание стать на дороге строгого посланника главы церкви и враждебного преследователя дивного искусства. Он сделал это и сказал:
– Позвольте мне, ваше преподобие, выразить вам мою благодарность. Вы вовремя освободили меня вашим властным словом от руки грубого бродяги цыгана. Он бы задушил меня, как бешеная собака!
Как бы пробудившись от сна, монах провел рукою по лбу и долго и пристально смотрел на Крейслера, точно стараясь вспомнить, кто он. Затем лицо его выразило страшную суровость, и он воскликнул громким голосом:







