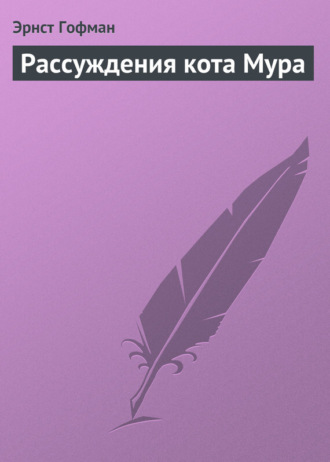
Эрнст Теодор Амадей Гофман
Рассуждения кота Мура
– Девушка, пойди во дворец, позови женщин и вели перенести принцессу! Она впала в глубокий сон, после которого проснется здоровой и веселой.
Юлия немедленно исполнила то, что ей было приказано.
Когда она привела женщин, она нашла принцессу заботливо укутанной в ее шаль.
Она действительно спала, а женщины уже не было.
– Скажи мне, – говорила Юлия на другое утро, когда принцесса проснулась вполне здоровая, без всяких следов расстройства, которого опасалась Юлия, – скажи мне, ради бога, кто эта удивительная женщина?
– Я не знаю, – отвечала принцесса, – я видела ее прежде только раз. Ты помнишь, в детстве у меня была ужасная болезнь, которой не понимали доктора. Однажды ночью я увидела, что у моей постели сидит женщина; она убаюкала меня, как сегодня, так что я впала в сладкий сон, после которого проснулась совсем здоровая. Прошлую ночь ее образ в первый раз припомнился мне, и я почувствовала, что она опять явится и спасет меня. Так и случилось. Я прошу тебя, из любви ко мне, не говори никому об этом событии и не показывай ни движением, ни словом, что с нами произошло что-то необыкновенное. Подумай о Гамлете и будь моим милым Горацио. Наверно, с этой женщиной было какое-нибудь таинственное приключение, но пусть это останется для нас тайной; мне кажется, что проникать в нее было бы опасно.
Разве не довольно того, что я здорова, весела и избавилась от тех призраков, которые меня преследовали?
Все дивились внезапному выздоровлению принцессы. Лейб-медик уверял, что на нее благотворно подействовала ночная прогулка в капеллу, встряхнувшая ее нервы, и он просто забыл предписать это средство.
А Бенцон говорила про себя:
– Гм… у нее была старуха! На этот раз это можно оставить так.
Теперь пришло время разрешить роковой вопрос биографа: ты…
(М. пр.) …любишь меня, прекрасная Мисмис? О, повторяй, повторяй мне это тысячу раз, чтобы я пришел в еще больший восторг и наговорил столько глупостей, сколько подобает герою, созданному воображением лучшего романиста. Но, дорогая, ведь ты уже заметила мою удивительную склонность к пению, так не будешь ли и ты настолько добра, чтобы спеть мне маленькую песенку?
– Ах, – отвечала Мисмис, – во-первых, я еще недалеко ушла в искусстве пения, а во-вторых, ты знаешь, что случается с молодыми певицами, когда они в первый раз поют перед знатоками и мастерами своего дела? Страх и робость сжимают им горло, и прекраснейшие звуки, трели и морденты самым роковым образом застревают в глотке, как рыбьи кости. Пропеть арию бывает положительно невозможно, и потому лучше начинать с дуэта. Попробуем спеть небольшой дуэт, если тебе это нравится!
Мне было это очень приятно. Мы сейчас же спели нежный дуэт «Едва я увидел тебя, к тебе понеслось мое сердце» и т. д. Мисмис начала робко, но вскоре ее ободрил мой сильный фальцет. Голос у нее был прелестный, исполнение законченно, мягко и нежно, – словом, она оказалась прекрасной певицей.
Я был восхищен, хотя и видел, что друг мой Овидий остался ни с чем. Ввиду того, что Мисмис так отличилась в искусстве cantare[69], нечего было прибегать к chordas tangere[70], и мне даже не понадобилась гитара.
Мисмис пропела с удивительной легкостью, выразительностью и изяществом известную арию «Di tanti palpiti»[71] и т. д. Из героически-сильного речитатива она прекрасно перешла в andante, отличавшееся чисто кошачьей нежностью. Ария эта точно нарочно для нее написана; сердце мое переполнилось, и я испустил громкий, радостный крик. Ах, этой арией Мисмис могла бы воодушевить целый мир чувствительных кошачьих душ!
Мы исполнили еще один дуэт из новой оперы, и он так удался нам, точно музыка была нарочно для нас написана. Из груди нашей вылетали блестящие рулады, состоявшие по большей части из хроматических гамм.
Я должен заметить, что вообще нашей породе свойственны хроматизмы, и потому всякий, кто захочет для нас сочинять, хорошо сделает, если будет придерживаться хроматизмов в мелодии и во всем остальном. К сожалению, я забыл имя замечательного мастера, сочинившего этот дуэт; это очень хороший человек, и музыка его вполне мне по вкусу.
Во время пения появился черный кот, пожиравший нас сверкающими глазами.
– Сделайте одолжение, не подходите, любезный друг, – закричал я ему, – а не то я выцарапаю вам глаза и сброшу вас с крыши; если же вы желаете с нами петь, то это другое дело.
Я знал, что у этого черного юноши прекрасный бас, и потому решил спеть одну вещь, не особенно мной любимую, но зато очень подходившую по словам к моей близкой разлуке с Мисмис. Мы пели: «Ужели я, милый, не свижусь с тобой!»
Но едва начал я уверять вместе с черным котом, что боги будут ко мне благосклонны, как между нами упал огромный осколок черепицы, и страшный голос закричал:
– Замолчите ли вы, проклятые коты!
В смертельном ужасе бросились мы в разные стороны и разбежались по чердакам. О бездушные варвары! Их не трогают даже трогательные жалобы любовной тоски, они помышляют только о мщении и гибели!
Как уже сказано выше, то, что должно было вылечить меня от моей любви, заставило меня полюбить еще сильнее. Мисмис была так музыкальна, что мы фантазировали вместе самым приятным образом. Она восхитительно пела мои сочинения, вследствие чего я совсем одурел и до такой степени страдал от любви, что совсем исхудал и побледнел. Наконец, после долгих размышлений мне пришло на ум последнее, хотя и отчаянное, средство вылечиться от моей любви. Я предложил Мисмис лапу и сердце. Она согласилась, и вскоре мои страдания совершенно прошли. Молочный суп и жаркое получили свою цену, веселое расположение духа вернулось, борода моя пришла в порядок, шкурка приобрела прежний блеск, так как я теперь даже больше прежнего занимался своим туалетом, чем не могла нахвалиться моя Мисмис. Несмотря на это, я сочинял еще стихи к моей Мисмис, и они были тем прекраснее и правдивее, что я шел все дальше и дальше в выражении мечтательной нежности и дошел, наконец, до ее высочайшего проявления. Я посвятил своей милой еще одну толстую книгу и таким образом сделал в области литературной эстетики все, что можно требовать от честного, искренне влюбленного кота. Вообще мы с моей Мисмис вели самую домовитую, спокойную и счастливую жизнь на соломенном половике перед дверью хозяина. Но есть ли прочное счастье в этом мире? Вскоре я стал замечать, что Мисмис часто бывает рассеянна в моем присутствии. Когда я говорил с ней, она отвечала что-то бессвязное, часто вырывались у нее глубокие вздохи, и она могла петь только томные любовные песни и сделалась наконец совсем больной и слабой. Когда же я спрашивал, что с ней, она гладила меня по щекам и отвечала: «Ничего, ничего, мой милый папаша». Но все это мне не нравилось. Часто ждал я ее напрасно на соломенном половике и тщетно искал ее в погребе и на земле; когда же я находил ее и делал ей нежные упреки, она оправдывалась тем, что для ее здоровья необходимы длинные прогулки, а один врач из породы котов будто бы прописал ей даже морское путешествие. И это мне не нравилось. Она умела заглушать мой гнев и успокаивать меня своими ласками, но и в этих ласках было что-то особенное, что охлаждало меня, а не согревало, и это мне тоже не нравилось. Не признаваясь себе в том, что такому поведению Мисмис должны быть особые причины, я видел, однако, что во мне угасла последняя искра любви к прекрасному и что близ нее я испытывал смертельную скуку. Поэтому я пошел своей дорогой, а она своей; если же мы сходились иногда вместе на соломенном половике, то делали друг другу трогательные упреки, были нежнейшими супругами и воспевали нашу мирную жизнь.
Случилось однажды, что черный бас посетил меня в комнате моего господина. Он начал говорить какие-то отрывочные таинственные слова, потом вдруг порывисто спросил меня, как поживаю я с Мисмис, – словом, я отлично видел, что у черного кота есть на сердце нечто, что он желает мне поведать. Наконец все объяснилось. Некий юноша, служивший в войске, возвратился и жил по соседству на небольшой пенсион, получаемый им от одного трактирщика, в виде рыбьих костей и объедков со стола. Он был хорош собой, сложен как Геркулес, носил богатый иностранный мундир черного, серого и желтого цвета, а на груди у него красовался почетный знак горелого сала, данный ему за храбрость после очистки от мышей большого амбара в сообществе немногих товарищей. Кот этот нравился всем кошкам в окружности. Все сердца бились ему навстречу, когда он входил отважный и смелый, высоко подняв голову и бросая вокруг огненные взгляды. Он-то, как уверял черный кот, и влюбился в мою Мисмис; она отвечала ему взаимностью, и не подлежало сомнению, что каждую ночь у них были тайные свидания за трубой или в погребе.
– Меня удивляет, любезный друг, – говорил черный кот, – как вы при вашей проницательности давно не заметили этого. Впрочем, любящие мужья часто бывают слепы. Мне очень жаль, что долг дружбы заставил меня открыть вам глаза, так как я знаю, что вы все еще влюблены в вашу прелестную супругу.
– О Муциус! – воскликнул я. – О Муциус (так звали черного кота), люблю ли я ее, прекрасную изменницу?! Я молюсь на нее, все мое существо принадлежит ей! Нет, она не могла так поступить! Муциус, черный обманщик, получи награду за твое гнусное дело!
Я поднял лапу и выпустил когти, но Муциус посмотрел на меня дружески и сказал очень спокойно:
– Не горячитесь, милейший! Вы разделяете участь многих прекрасных мужчин. Всюду царствует непостоянство, и, к несчастью, в нашей породе не менее, чем в других.
Я опустил поднятую лапу, несколько раз высоко подпрыгнул, как бы в величайшем отчаянии, и яростно воскликнул:
– Возможно ли, возможно ли? О небо! О земля! Ну что еще! Уж не призвать ли адский пламень? И кто же? Черно-серо-желтый кот! Она, она, столь нежная супруга, позорно изменить могла тому, кто на груди ее прелестной в любовных снах блаженно почивал? О, лейтесь, слезы, лейтесь о неверной! О небо! Тысяча проклятий! Черт занес на крышу этого пестрого молодца!
– Успокойтесь, – сказал мне Муциус, – вы слишком предаетесь ярости и неукротимой скорби. Как истинный друг, я не буду больше мешать вам в вашем приятном отчаянии. Если вы хотите убить себя, то я мог бы ссудить вас очень хорошим порошком против крыс, но я не хочу этого делать, так как вы – милый и очаровательный кот, и было бы слишком жаль вашей молодой жизни. Утешьтесь, пусть бегает Мисмис; на свете много прелестных кошек. Прощайте, милейший!
С этими словами Муциус прыгнул в открытую дверь.
Когда я, спокойно лежа у печки, обдумывал те разоблачения, которые сделал мне Муциус, я почувствовал, что внутри меня шевельнулось нечто похожее на тайную радость. Я знал теперь, что произошло с Мисмис, и мучения неизвестности кончились. Но если я больше из приличия выказал надлежащее отчаяние, то те же самые приличия требовали, по моему мнению, того, чтобы наказать черно-серо-желтого кота.
Ночью я подстерег влюбленную пару за трубой и со словами: «Адский животный похититель!» – напал на моего соперника. Но он, значительно превосходя меня своей силой, что я, к несчастью, слишком поздно заметил, жестоко избил меня, так что шкура моя во многих местах повисла клочьями, – и затем быстро скрылся.
Мисмис лежала в обмороке, но, когда я приблизился к ней, она вскочила почти так же быстро, как ее любовник, и умчалась за ним на чердак.
Хромая, с окровавленными ушами, поплелся я к своему господину и, удовлетворяясь той мыслью, что честь моя спасена, нисколько не считал позором вполне предоставить Мисмис черно-серо-желтому коту.
«Какая жестокая судьба, – думал я, – из-за небесно-романтической любви попал я в водосточный желоб, а семейное счастье привело меня к еще более горьким испытаниям».
На следующее утро я немало удивился, когда, выйдя из комнаты хозяина, нашел Мисмис на соломенном половике.
– Милый Мур, – сказала она спокойно и кротко, – мне кажется, я люблю тебя уже не так, как прежде, и это меня очень печалит.
– О дорогая Мисмис – отвечал я нежно, – это леденит мне сердце, но я должен сознаться, что с тех пор, как произошли некоторые события, я тоже сделался к тебе вполне равнодушен.
– Не обижайся, – продолжала Мисмис, – не сердись, дорогой друг, но мне кажется, что ты давно уже стал для меня совершенно невыносим.
– Праведное небо, – воскликнул я вдохновенно, – какая симпатия душ: я чувствовал то же самое!
Мы пришли к тому соглашению, что мы оба сделались друг другу невыносимы, и потому нам необходимо навеки расстаться, после чего мы нежно обнялись и плакали радостными, блаженными слезами.
Затем мы расстались, и каждый был убежден в величии души другого и хвалил его всякому, кто только хотел слушать.
– Бывал в Аркадии и я! – воскликнул я и ревностнее, чем когда-либо, принялся за науки и искусства.
(М. л.) – Да, – сказал Крейслер, – я говорю вам, что этот покой для меня страшнее разъяренной бури. Это – глухое затишье перед разрушительной грозой; все при дворе так настроено; сам же князь Ириней похож на золотообрезной альманах в формате in duodecimo[72], выставленный напоказ. Напрасно, подобно второму Франклину, изобретает он громоотводы, устраивая необыкновенно блестящие праздники: молния все-таки ударит и, может быть, уничтожит даже его государственное платье. Правда, принцесса Гедвига напоминает теперь всей своей особой светло и ясно льющуюся мелодию, сменившую те дикие и беспокойные аккорды, которые вырывались прежде из ее истерзанной груди; теперь она выступает в своей просветленной гордости рука об руку с прекрасным неаполитанцем, а Юлия дарит ему свои благодатные улыбки и принимает его любезности, которые принц, не спуская глаз с нареченной невесты, умеет отпускать Юлии так ловко, что они, как рикошеты, могут лучше попасть в ее неопытную молодую душу, чем выстрелы, направленные прямо в цель. А еще говорили вначале, как рассказывала мне Бенцон, что Гедвига испугалась monstro turchino, а кроткой и спокойной Юлии, этому небесному дитяти, прекрасный général en chef[73] показался василиском! О, вы правы, чуткие души! Или я не читал во всемирной истории Баумгартена, что змей, бывший в раю, блистал золотой чешуей? Это приходит мне на память, когда я смотрю на расшитого золотом Гектора. Впрочем, Гектором звали также одного очень достойного бульдога, отличавшегося необыкновенной любовью и преданностью моей особе. Мне хотелось бы, чтобы он был со мной, и я мог его наускивать на его высокопоставленного тезку, когда тот вертится между двумя прелестными сестрами. Или вот скажите мне, мейстер, – вы знаете столько фокусов, – как бы это так сделать, чтобы при всяком удобном случае обращаться в осу и так жалить эту княжескую собаку, чтобы сбивать ее с проклятого тона?
– Я дал вам договорить, Крейслер, – начал мейстер Абрагам, – и спрашиваю вас теперь, можете ли вы меня спокойно выслушать, если я открою вам некоторые вещи, подтверждающие ваши предчувствия?
– Разве я не настоящий капельмейстер? – ответил Крейслер. – Я говорю это не в философском смысле слова, не в смысле преданности капельмейстерству, а просто имея в виду особую способность смирно сидеть в порядочном обществе, когда вас кусает муха.
– В таком случае, – продолжал мейстер Абрагам, – узнайте, Крейслер, что один странный случай дал мне возможность глубоко заглянуть в душу принца. Вы были правы, сравнивая его со змеем в райском саду. Под красивой оболочкой, которой вы не будете отрицать, кроется гибельный яд или, лучше сказать, предательство. У него недоброе на уме: я заключил по очень многому, что он обратил свои взоры на прелестную Юлию.
– Ого! – воскликнул Крейслер, бегая по комнате. – Где же твои нежные песни, белая птица? Принц – искусный малый, он протягивает свои когти и к разрешенным, и к запретным плодам. Берегись, прекрасный неаполитанец! Ты не знаешь, что Юлию оберегает честный капельмейстер с музыкой в крови, и как только ты к ней подойдешь, он примет тебя за проклятый кварт-квинт-аккорд, который следует разрешить. И капельмейстер сделает то, что нужно, то есть разрешит тебя, пустив тебе пулю в лоб или проткнув тебя шпагой.
Тут Крейслер вынул свою шпагу, стал в позицию и спросил мейстера, достаточно ли у него уменья, чтобы пронзить княжескую собаку.
– Успокойтесь, успокойтесь, Крейслер, – сказал мейстер Абрагам, – вовсе не нужно таких геройских подвигов, чтобы испортить игру принцу. Против него есть другое оружие, и я дам вам его в руки. Вчера я был в рыбачьем домике, а принц проходил мимо со своим адъютантом. Они меня не видали. «Принцесса хороша, – сказал принц, – но маленькая Бенцон просто божественна! Вся кровь моя вскипела, когда я ее увидел; она должна быть моей прежде, чем я подам руку принцессе. Как ты думаешь, она неприступна?» – «Какая женщина устоит перед вами, ваша светлость?» – отвечал адъютант. – «Но, черт возьми, – продолжал принц, – она, кажется, невинное дитя». – «И незлобивое, – перебил адъютант, – а невинные и незлобивые дети обыкновенно покорно подчиняются, ошеломленные натиском привычного к победе мужчины. После же считают все за предопределение божие да еще чувствуют необычайную любовь к победителю. То же может случиться и с вами, ваша светлость». – «Это было бы довольно глупо! – воскликнул принц. – Но если бы я мог увидеть ее одну! Как это сделать?» – «Ничего нет легче, – отвечал адъютант, – я заметил, что малютка часто гуляет одна по парку… Если вы…» Здесь голоса стихли, и я ничего не мог больше понять. Очевидно, сегодня же будет приведен в исполнение какой-нибудь адский план, и нужно его предупредить. Я мог бы это сделать сам, но по некоторым причинам я теперь не желал бы показываться принцу. Поэтому, Крейслер, вы сейчас же должны отправиться в Зигхартсгоф и поспеть к сумеркам, когда Юлия выходит к озеру кормить ручного лебедя. Ту же дорогу подстерег, вероятно, и итальянский злодей. Но получите оружие и необходимые инструкции, Крейслер, чтобы выказать себя хорошим полководцем в борьбе с опасным принцем.
Биограф снова приходит в отчаяние из-за отрывочности материалов, из которых он должен склеивать свой рассказ. Если здесь не было ясно высказано, какие инструкции давал мейстер Абрагам капельмейстеру, то позже появится само оружие, и все же, любезный читатель, тебе невозможно будет понять, в чем заключается это обстоятельство.
Несчастный биограф не знает пока ни одного словечка из этой инструкции, посредством которой честный капельмейстер был, по-видимому, посвящен в совершенно особую тайну. Потерпи немного, любезный читатель! Вышеупомянутый биограф готов прозакладывать свои пальцы, что эта тайна все же выяснится до окончания книги.
Теперь мы можем рассказать, что, когда солнце начало заходить, Юлия, повесив на руку корзинку с белым хлебом, напевая, пошла по парку к озеру и остановилась посреди моста, недалеко от рыбачьего домика. А Крейслер лежал в засаде, в кустах, с хорошей подзорной трубой, в которую он смотрел через кусты, скрывавшие его от посторонних глаз. Лебедь плескался в воде, Юлия бросала ему куски, которые он жадно глотал. Юлия громко пела и не заметила, как подошел к ней принц. Когда он внезапно очутился перед ней, она отступила, как бы в испуге. Принц схватил ее руку, прижал ее к груди, к губам и потом лег совсем близко от Юлии у перил моста. Юлия бросала хлеб, а принц с жаром говорил, смотря в озеро на лебедя.
«Не строй же таких дьявольски сладких гримас! Разве ты не видишь, что я сижу совсем близко от тебя и могу дать тебе пощечину?.. Но, боже, отчего разгораются таким ярким пурпуром твои щеки, небесное дитя! Отчего ты так странно смотришь на этого злодея? Ты улыбаешься! Да, это огненный яд, от которого должна раскрыться твоя грудь, как цветочная почка, свернутая в прекрасные лепестки и открывающаяся от солнечного луча, чтобы скорее погибнуть!» Так говорил Крейслер, наблюдая за парой, которую приближала к нему его подзорная труба. Принц тоже начал бросать хлеб, но лебедь не ел его кусков и стал громко кричать. Тогда принц обвил Юлию рукой, бросая хлеб так, чтобы лебедь думал, что его кормит Юлия. При этом рука принца почти касалась руки Юлии.
«Так, так, светлейший бездельник, – говорил Крейслер, – держи крепче свою добычу, хищная птица; здесь, в кустах, есть некто, кто уже метит в тебя и сейчас подрежет твои блестящие крылья так, что плохо придется тебе и твоей охоте».
Тут принц взял Юлию под руку, и оба пошли к рыбачьему домику. Но неподалеку от него из кустов выступил Крейслер, подошел к гуляющим и сказал, низко склонившись перед принцем:
– Дивный вечер! Необыкновенно чистый воздух и живительный аромат; ваша светлость, вероятно, чувствует себя, как в прекрасном Неаполе.
– Кто вы, милостивый государь? – резко спросил принц.
Но в ту же минуту Юлия высвободилась из-под его руки, приветливо подошла к Крейслеру, протянула ему руку и сказала:
– Как хорошо, что вы снова здесь, милый Крейслер. Знаете ли вы, что я о вас очень соскучилась? Мама говорит, что я веду себя как глупое, плаксивое дитя, если вы хоть один день не зайдете. Я могла бы заболеть от досады, если бы подумала, что вы пренебрегли мной и моим пением.
– Ага, – воскликнул принц, бросая убийственные взгляды на Юлию и на Крейслера, – вы – monsieur de Krösel. Князь отзывался о вас с большой похвалой.
– О, – сказал Крейслер, и все его лицо задрожало в тысяче складок, – да будет благословен за это светлейший князь; таким образом мне, быть может, удастся получить то, о чем я хотел умолять вашу светлость, надеясь удостоиться вашей протекции. Я имею смелость думать, что вы с первого взгляда подарили меня своим расположением, так как, проходя, вы чрезвычайно оригинально изволили обозвать меня болваном, а так как только болваны годятся на что-нибудь путное, то…
– Вы большой шутник, – перебил его принц.
– О, вовсе нет, – продолжал Крейслер, – я люблю шутки, но только дурные, а этим нельзя шутить. Кстати, я бы очень хотел отправиться в Неаполь и записать на моле некоторые песни рыбаков и бандитов ad usum delphini[74]. Вы добры и любите искусство, милейший принц, быть может, вы не откажете мне в рекомендациях.
– Вы большой шутник, monsieur de Krösel, – снова перебил его принц, – я люблю это, да, я очень это люблю, но теперь я не буду мешать вашей прогулке. Adieu!
– О, нет, ваша светлость, – воскликнул Крейслер, – я не могу упустить случая показаться вам во всем моем блеске! Вы желали войти в рыбачий домик, там есть фортепиано; фрейлен Юлия, вероятно, не откажется спеть со мной дуэт.
– С величайшим удовольствием! – воскликнула Юлия и повисла на руке Крейслера.
Принц стиснул зубы и гордо прошел вперед. На ходу Юлия шепнула Крейслеру на ухо:
– Крейслер, что за странный тон!
– О боже мой, – также тихо ответил Крейслер, – и ты покоишься, убаюкиваемая нелепыми снами, когда приближается змея, готовая убить тебя ядовитым жалом.
Юлия посмотрела на него с величайшим изумлением. Только один раз, в минуту сильнейшего музыкального вдохновения, Крейслер говорил ей «ты».
По окончании дуэта принц, который во время пения много раз кричал bravo, bravissimo, рассыпался в бурных знаках одобрения. Он покрыл руки Юлии огненными поцелуями, клялся, что никогда еще пение не потрясало его так сильно, и в подтверждение этого умолял Юлию позволить ему напечатлеть поцелуй на небесных губках, из которых лились эти райские звуки.
Юлия в испуге откинулась назад. Крейслер стал перед принцем и сказал:
– Так как светлейший принц не желает сказать мне ни слова похвалы, которую я надеялся заслужить как композитор и хороший певец, то я вижу, что я недостаточно сильно действую своими слабыми музыкальными познаниями. Но я также большой знаток в живописи и буду иметь честь показать вашей светлости небольшой портрет, изображающий особу, замечательная жизнь и странный конец которой мне настолько известен, что я могу рассказать их всякому, кто пожелает меня слушать.
– Распущенный человек! – пробормотал принц.
Крейслер извлек из кармана ящичек, вынул из него небольшой портрет и показал его принцу. Тот взглянул на него, и вся кровь сбежала с его лица, глаза его остановились, губы задрожали. «Maledetto!»[75] – пробормотал он сквозь зубы и выбежал вон.
– Что это такое? – в смертельном страхе воскликнула Юлия. – Ради всех святых, что это такое, Крейслер? Скажите мне всё!
– Пустяки, – отвечал Крейслер, – так, шутки, чертова забава! Посмотрите, какими огромными шагами бежит через мост его светлость! Боже мой, он противоречит своей нежно-идиллической натуре, он больше не смотрит в озеро и не нуждается в том, чтобы кормить лебедя, милый, добрый… дьявол!
– Крейслер, – проговорила Юлия, – ваш тон заставляет меня содрогаться, я чую недоброе; что произошло у вас с принцем?
Капельмейстер отошел от окна, у которого он стоял, и с таким глубоким волнением посмотрел на стоявшую перед ним Юлию, точно призывал доброго духа, чтобы отвратить от нее страх, вызывавший на глаза ее слезы.
– Нет, – сказал Крейслер, – ни одно враждебное разногласие не должно нарушать небесного благозвучия, живущего в твоих чувствах, невинное дитя! Духи ада ходят по свету в блестящем одеянии, но над тобой у них не будет власти, и ты не должна узнавать их в их черных делах! Успокойтесь, Юлия! Не спрашивайте меня, все уже прошло!
В эту минуту вошла Бенцон в большом беспокойстве.
– Что случилось? Что случилось? – воскликнула она. – Как бешено пролетел мимо меня принц, не заметив моего присутствия! У самого дворца его встретил адъютант, они горячо разговаривали друг с другом, потом принц дал адъютанту, вероятно, какое-то очень важное поручение: адъютант стрелой полетел в павильон, где он живет, а принц направился во дворец. Садовник сказал мне, что ты стояла на мосту с принцем; тогда я, сама не знаю уж – почему, – у меня явилось предчувствие чего-то ужасного, – я поспешила сюда; скажите, что же случилось?
Юлия рассказала, как было дело.
– Тайны? – резко спросила Бенцон, бросив на Крейслера пронзительный взор.
– Милейшая советница, – ответил Крейслер, – бывают минуты, случаи и положения, когда, по моему мнению, человек должен держать язык за зубами, так как сто́ит ему открыть рот, чтобы вышли замешательства, раздражающие благоразумных людей.
Он остался при этом мнении, несмотря на то, что Бенцон, по-видимому, оскорбляло его молчание. Капельмейстер проводил мать и дочь до дворца, а потом пошел обратно в Зигхартсвейлер. Когда он скрылся в заворотах парка, из павильона вышел адъютант принца и пошел вслед за Крейслером. Вскоре в глубине леса раздался выстрел.
В ту же ночь принц покинул Зигхартсвейлер; он оставил князю письмо, где обещал вскоре вернуться. Когда на следующее утро садовник обыскивал парк со своими людьми, он нашел шляпу Крейслера с кровавыми следами. Сам Крейслер исчез неизвестно куда…………………………………. Его………………………………







