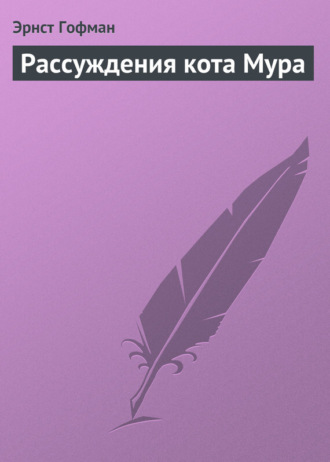
Эрнст Теодор Амадей Гофман
Рассуждения кота Мура
При этих словах князь поцеловал у Бенцон руку гораздо нежнее, чем это допускалось, по-видимому, его положением, летами и обстановкой. Бенцон с горящими от радости глазами ответила, что она давно уже жаждала минуты по душе поговорить с князем, так как хотела сообщить ему многое, что не будет ему неприятно.
– Ваша светлость, – сказала Бенцон, – тайный советник посольства опять написал, что наше дело внезапно приняло более благоприятный оборот, что…
– Довольно, – перебил князь, – довольно, дражайшая, не будем заниматься государственными делами. Князья тоже надевают халаты и ночные колпаки, когда, почти изнемогая под бременем правления, отправляются на покой, хотя прусский король Фридрих Великий, как, вероятно, известно такой начитанной женщине, составлял исключение и даже в постели надевал войлочную шляпу. Я хочу сказать, что князья также имеют в себе слишком много того… ну, одним словом, как говорится, мещанских интересов, основанных на браке, отеческих радостях и т. д., и не могут вполне отрешиться от этих чувств. Поэтому по меньшей мере простительно, если они предаются им в те минуты, когда государство и заботы о надлежащем состоянии двора и страны не требуют всего их внимания. Добрейшая Бенцон, такова настоящая минута! В моем кабинете лежат семь готовых подписей; теперь же позвольте мне совершенно забыть о князе и дайте мне здесь, за чаем, побыть отцом семейства, немецким отцом семейства из баронов фон Гемминген. Позвольте мне поговорить о моих – да, о моих, – детях, которые причиняют мне столько горя, что я часто прихожу в совершенно неприличное расстройство чувств.
– Речь будет о ваших детях, ваша светлость, – спросила Бенцон резким тоном, – то есть о принце Игнатии и о принцессе Гедвиге? Говорите, говорите, ваша светлость! Может быть, я могу подать вам совет и утешение так же, как и мейстер Абрагам.
– Да, – продолжал князь, – совет и утешение, которые могут быть мне очень полезны. Знаете ли вы, добрейшая Бенцон, что я хочу сказать по поводу принца? Конечно, он не нуждается в особых дарах ума, которыми природа наделяет обыкновенно тех, кто по самому своему положению должен оставаться в тени, но немного побольше esprit (ума) ему не мешало бы иметь; он ведь есть и останется simple (простаком)! Посмотрите на него! Он сидит и болтает ногами, делает в игре ошибку за ошибкой, фыркает и смеется, как семилетний мальчик! Бенцон, entre nous soit dit[108], нет возможности передать ему искусство письма даже в самом необходимом размере: его княжеская подпись похожа на какие-то каракули. Праведное небо! Но что же из этого выйдет? Недавно еще помешал мне в моих занятиях страшный лай перед моим окном; я выглядываю из окна, чтобы велеть прогнать несносного шпица, и что же я вижу? Поверите ли, это был принц, который лаял, как сумасшедший, гоняясь за сыном садовника. Они вместе играли в зайца и собаку! Есть ли тут смысл, и княжеская ли это забава? Может ли принц проявить когда-нибудь хотя бы малейшую самостоятельность?
– Для этого нужно, – отвечала Бенцон, – чтобы принц как можно скорее женился и нашел бы жену, привлекательность, кротость и ясный разум которой пробудили бы его уснувшие чувства, и которая была бы настолько добра, чтобы могла вполне снизойти до него и привязать его к себе. Эти свойства необходимы в женщине, решившейся соединиться с принцем, чтобы спасти его от того состояния души, которое, – я говорю это с грустью, ваша светлость, – может перейти в конце концов в настоящее помешательство. Именно поэтому эти редкие качества должны быть оценены, и в данном случае не следует обращать слишком большое внимание на положение невесты в свете.
– Никогда, – сказал князь, хмуря брови, – никогда еще не было в нашем доме мезальянсов: оставьте эту мысль, я считаю ее невозможной. В остальном я всегда был, как и теперь, склонен исполнять ваши желания.
– Этого я не знала, ваша светлость, – резко сказала Бенцон. – Как часто должны были умолкать мои справедливые требования в силу химерических соображений! Но есть требования, перед которыми умолкает все остальное.
– Laissons cela![109] – перебил князь; затем он откашлялся и понюхал табаку. Немного помолчав, он продолжал: – Еще больше, чем принц, огорчает меня принцесса. Скажите, Бенцон, как могло случиться, что у нас родилась дочь с такими странными чувствами и с такой необычайной болезненностью, повергающей в удивление самого лейб-медика? Не отличалась ли всегда княгиня цветущим здоровьем, и была ли она когда-либо склонна к мистическим нервным припадкам? Что же касается меня, то я, кажется, всегда был силен духом и телом. Как могло случиться, чтобы наше дитя, – я должен в этом сознаться, к величайшему своему сожалению, – часто казалось мне совсем помешанным, лишенным всякого княжеского достоинства.
– Также и мне, – отвечала Бенцон, – совершенно непонятен организм принцессы. Мать была всегда ясна, разумна, лишена всякой порывистой страстности. – Последние слова проговорила Бенцон тихо и глухо, опустив глаза вниз.
– Вы хотите сказать княгиня? – спросил князь с ударением, так как ему казалось неприличным, что к слову «мать» не был прибавлен титул княгини.
– Про кого же другого могла я говорить? – натянуто отвечала Бенцон.
– Ах, – продолжал князь, – разве не показал мне последний роковой случай с принцессой, как напрасны были все мои старания и радость по случаю ее скорого замужества согласно моему желанию?.. Добрейшая Бенцон, entre nous soit dit, ведь последний каталепсический припадок принцессы, который я приписываю сильной простуде, был, по всей вероятности, достаточной причиной для внезапного отъезда принца Гектора. Он хочет разорвать, и – juste ciel![110] – я сам должен сознаться, что не могу его за это слишком винить, так что, если бы даже приличия не запрещали всякого дальнейшего сближения, то уже это одно должно удержать меня, князя, от новых шагов к исполнению желания, от которого я отказываюсь очень неохотно и единственно по необходимости. Вы должны согласиться со мной, дражайшая, что положительно страшно иметь жену, подверженную таким припадкам. Разве такая высокопоставленная каталепсическая супруга не может внезапно впасть в автоматическое состояние в присутствии самого блестящего двора и вынудить разных достойных особ подражать ей и оставаться неподвижными? Конечно, двор, одержимый общей каталепсией, должен представлять самое торжественное и возвышенное зрелище в мире, так как тут даже самые легкомысленные лица не могут не соблюсти требуемого достоинства. Но чувство, наполняющее меня в такие отеческие минуты, как настоящая, заставляет меня думать, что такое состояние невесты может возбуждать в высокопоставленном женихе леденящий ужас, и потому… Бенцон, вы такая отзывчивая и умная женщина, быть может, вы найдете возможность поправить дело с принцем, найти какое-нибудь средство?
– Оно не нужно, ваша светлость, – живо перебила князя Бенцон, – не болезнь принцессы так быстро оттолкнула принца, здесь есть другая тайна, и в ней замешан капельмейстер Крейслер.
– Как? – в удивлении воскликнул принц. – Как? что вы говорите, Бенцон? Капельмейстер Крейслер? Так, значит, правда, что он…
– Да, – продолжала Бенцон, – да, ваша светлость, столкновение между ним и принцем Гектором, которое принц пожелал ликвидировать, быть может, слишком героическим средством, – вот причина, заставившая удалиться принца Гек тора.
– Столкновение, – прервал князь Бенцон, – столкновение… ликвидировать… героическим средством!.. Выстрел в парке!.. окровавленная шляпа!.. Бенцон, но это невозможно: принц и капельмейстер!.. Дуэль, столкновение… и то и другое невероятно.
– Не подлежит сомнению, ваша светлость, – продолжала Бенцон, – что Крейслер слишком сильно подействовал на чувства принцессы, что тот необычайный страх, который она чувствовала сначала в его присутствии, обратился в гибельную страсть. Возможно, что принц был достаточно проницателен, чтобы это заметить, и что в Крейслере, с самого начала встретившем его с враждебной, насмешливой иронией, он нашел соперника, от которого решил отделаться, и так совершилось это дело, которое, конечно, можно извинить только вспышкой оскорбленного чувства чести и ревности. Благодарение небу, все кончилось лучше, чем можно было ожидать. Я признаю, что все это не объясняет быстрого отъезда принца, и что, как уже я говорила, здесь кроется еще какая-то смутная тайна. По словам Юлии, принц в ужасе бежал от портрета, который показал ему Крейслер… Но что бы там ни было, а Крейслер исчез, и кризис у принцессы прошел. Поверьте мне, ваша светлость, что если бы Крейслер остался, то в груди принцессы горела бы к нему сильнейшая страсть, и она скорее бы умерла, чем отдала свою руку принцу. Теперь же все принимает другой оборот: скоро вернется принц, и брак его с принцессой прекратит все ваши заботы.
– Скажите, пожалуйста, – сердито воскликнул князь, – какова дерзость этого гнусного музыканта! В него влюбляется принцесса и из-за него желает отказать в руке любезнейшему принцу! Ah, le coquin![111] Теперь я понимаю вас, мейстер Абрагам! Вы должны прогнать этого фатального человека так, чтобы он никогда больше не возвращался.
– Все меры, которые мог бы предложить мудрый мейстер Абрагам, – сказала советница, – будут совершенно излишни, так как случилось уже то, что всего желательнее: Крейслер находится в Канцгеймском аббатстве, и, судя по тому, что пишет мне аббат Хризостом, он, вероятно, откажется от мира и сделается монахом. Принцесса уже узнала это от меня в надлежащее время, и так как я не заметила в ней при этом никакого особенного волнения, то можно заключить, как я сказала, что опасный кризис прошел.
– Чудная, милая женщина, – заговорил князь, – какая забота о благе и счастье моего дома!
– В самом деле, – с горечью сказала Бенцон, – я делаю это? Разве я могу, разве я смею заботиться о счастье ваших детей?
Последним словам Бенцон придала особенное выражение, князь же молча смотрел вниз и играл большими пальцами сложенных рук. Наконец он тихо проговорил:
– Анджела! Все еще никаких следов? Совершенно исчезла?
– Да, – отвечала Бенцон, – и я боюсь, что несчастное дитя сделалось жертвой какой-нибудь низости. Ее, по слухам, видели в Венеции, но, очевидно, это ошибка. Согласитесь, ваша светлость, что было ужасно жестоко отрывать ваше дитя от материнской груди и посылать его в вечное изгнание! Эта рана, нанесенная мне вашей суровостью, никогда не перестанет у меня болеть!
– Бенцон, – сказал князь, – разве я не назначил вам и ребенку достаточного годового содержания? Что же я мог еще сделать? Не должен ли я был, если бы Анджела оставалась при нас, ежеминутно бояться, что откроются наши faiblesses (слабости) и неприличным образом нарушат покой двора? Вы знаете княгиню, добрая Бенцон! Вы знаете, что у нее часто бывают престранные фантазии.
– Итак, – отвечала Бенцон, – деньги и годовое содержание должны вознаградить мать за все ее страдания, муки и горькие жалобы о потерянном дитяти? Право же, ваша светлость, есть другой способ заботиться о своем ребенке, доставляющий матери больше радости, чем всякие деньги!
Эти слова Бенцон сказала с таким взглядом и таким тоном, которые немного смутили князя.
– Дражайшая, – начал он с замешательством, – зачем такие странные мысли? Разве вы не знаете, что мне также очень неприятно, очень прискорбно бесследное исчезновение нашей милой Анджелы? Из нее вышла, вероятно, очаровательная девушка, ведь она родилась от таких прелестных родителей.
Тут князь еще раз нежно поцеловал руку Бенцон, но советница, однако, быстро отдернула ее и зашептала князю на ухо с горящим, пронизывающим взором:
– Сознайтесь, ваша светлость, что вы были несправедливы и жестоки, когда настояли, чтобы ребенок был удален. Не ваш ли долг удовлетворить теперь желание, исполнение которого я, по своей доброте, считаю действительно некоторым вознаграждением за все мои страдания?
– Бенцон, – еще виноватее прежнего ответил князь, – чудная, добрая Бенцон, разве нельзя найти нашу Анджелу? Дорогая, я сделаю геройский шаг, чтобы исполнить ваше желание. Я доверюсь мейстеру Абрагаму и посоветуюсь с ним. Он опытный и умный человек; может быть, он нам поможет.
– О, – перебила Бенцон, – о мудрый мейстер Абрагам! Так вы думаете, ваша светлость, что мейстер Абрагам действительно расположен что-нибудь для вас сделать, что он предан вашему дому? Что может он сделать для Анджелы, когда все розыски в Венеции и во Флоренции оказались напрасными, и, что всего хуже, у него отнято таинственное средство, которым он прежде пользовался, чтобы узнавать неизвестное?
– Вы разумеете его жену, злую волшебницу Кьяру? – сказал князь.
– Еще очень сомнительно, – отвечала Бенцон, – заслуживает ли этого названия, быть может, только вдохновенная женщина, одаренная необыкновенными силами. Во всяком случае было несправедливо и бесчеловечно отнять у мейстера жену, которой он предан был всей душой, и которая составляла часть его «я».
– Бенцон, – воскликнул князь в совершенном испуге, – Бенцон, я вас сегодня не понимаю! У меня голова идет кругом! Разве вы не были сами за то, чтобы удалить опасное существо, посредством которого мейстер вскоре мог овладеть всеми нашими тайнами? Разве не вы послали эрцгерцогу мою бумагу, в которой я написал, что так как в стране давно уже запрещено всякое волшебство, то особы, которые занимаются делами такого рода, не должны быть терпимы и ради безопасности должны быть на время заключены в тюрьму? Ведь только ради того, чтобы пощадить мейстера Абрагама, не был начат открытый процесс против таинственной Кьяры, а ее без шума схватили и отправили, я и сам не знаю – куда, так как я больше об этом не заботился. В чем же можете вы меня теперь упрекнуть?
– Простите, – отвечала Бенцон, – простите, ваша светлость, но этот упрек касается слишком быстрого способа действия, и вы его действительно заслужили. Знайте же, ваша светлость, что мейстеру Абрагаму известно, что его Кьяра отправлена по вашему приказанию. Он спокоен и приветлив, но неужели вы думаете, что в душе его не кипят ненависть и мщение против того, кто отнял у него самое дорогое, что было у него на земле? И этому человеку хотели вы довериться и открыть ему свою душу?
– Бенцон, – сказал князь, отирая со лба капли пота, – Бенцон, вы расстраиваете меня ужасно, я хотел сказать – выше всякого описания! Милосердный боже! Может ли князь до такой степени выйти из себя? Черт возьми! Ах, боже мой! Я, кажется, бранюсь сегодня, как солдат! Бенцон, отчего вы не говорили этого раньше? Он все уже знает! В рыбачьем домике, когда я был совершенно вне себя под влиянием припадка принцессы, я излил ему все свое сердце. Я говорил об Анджеле, я открылся ему, Бенцон! Это ужасно! J’étais – un[112] – осел! Voilà tout![113]
– И он ответил? – натянуто спросила Бенцон.
– Кажется, – продолжал князь. – Да, мейстер Абрагам как будто говорил о нашей прежней привязанности и о том, каким счастливым отцом мог бы я быть, тогда как теперь я несчастлив. Но одно несомненно: когда я окончил мои признанья, он сказал, улыбаясь, что давно уже это знал и что, быть может, очень скоро будет известно, где находится Анджела. Тогда исчезнут многие мечты и устранятся многие заблуждения.
– Это сказал мейстер? – дрожащими губами произнесла Бенцон.
– Sur mon honneur[114], – ответил князь, – он сказал именно это. Тысяча проклятий! Извините, Бенцон, но я рассержен; а что если старик захочет мне мстить? Бенцон, que faire?[115]
Князь и Бенцон молча смотрели друг на друга.
– Светлейший князь, – тихо прошептал камер-лакей, поднося князю чай.
– Bête![116] – закричал князь, порывисто вскакивая и выбивая этим движением из рук лакея поднос вместе с поставленной на нем чашкой.
Все в ужасе повскакали из-за карточных столов. Игра была кончена; князь, с трудом сдерживая себя, с приветливой улыбкой бросил испуганному обществу «Adieu!» и удалился с княгиней во внутренние покои. Тем не менее на всех лицах можно было ясно прочесть: «Боже мой, что это значит! Князь не играл, долгой горячо говорил с советницей и пришел потом в такой страшный гнев!»
Но Бенцон не могла даже и подозревать, что ожидало ее на ее квартире, находившейся в боковом здании, прилегавшем к дворцу. Как только она вошла, навстречу ей бросилась Юлия, совершенно вне себя, и… Но биограф очень рад: на этот раз он может рассказать, что случилось с Юлией во время княжеского чая, гораздо лучше и яснее, чем многие другие факты доселе несколько спутанного рассказа.
Итак, мы знаем, что Юлии было позволено вернуться домой раньше. Лейб-егерь освещал ей дорогу факелом. Но едва только отошли они на несколько шагов от дворца, как лейб-егерь вдруг остановился и высоко поднял факел.
– Что там такое? – спросила Юлия.
– Эге, – отвечал лейб-егерь, – заметили ли вы, фрейлен Юлия, фигуру, которая быстро промелькнула мимо нас? Не знаю, что и думать, а только вот уже несколько вечеров, как шныряет здесь человек, который так прячется, что, верно, у него на уме что-нибудь недоброе. Мы уж его выслеживали на все лады, но он проскальзывает у нас меж рук и пропадает из глаз, как какое-то привидение или как сам нечистый, с нами крестная сила!
Юлия вспомнила о черной фигуре в окне павильона и почувствовала страх.
– Скорее вперед, вперед! – закричала она егерю, который сказал ей, смеясь, что милой барышне нечего бояться, так как прежде, чем что-нибудь с ней случится, привидение должно ему сломать шею, – да кроме того у неизвестного, появляющегося в окрестностях дворца, такое же точно тело с ногами, как у других честных людей, и притом он – трус, боится света.
Юлия отослала спать свою девушку, которая жаловалась на лихорадку и головную боль, и без ее помощи надела ночной наряд.
Когда она осталась одна в своей комнате, в душе ее еще раз прошло все то, что говорила ей Гедвига в таком состоянии, которое Юлия желала бы приписать только ее болезненному возбуждению. Но все же было очевидно, что болезненное возбуждение имело свои особые психические причины. Девушки с такими чистыми и нетронутыми чувствами, как Юлия, редко произносят верные суждения в таких запутанных случаях. Так и Юлия, еще раз перебравши все в своем уме, решила, что Гедвига одержима той самой ужасающей страстью, которую она сама под влиянием предчувствия так страшно ей описала, и что принц Гектор был тот мужчина, которому она отдала все свое сердце.
– И потом, – заключила она, – уже бог знает – как, явилась у Гедвиги безумная мысль, что принц занят другой любовью. Эта мысль мучила ее как ужасный, вечно преследующий призрак, и оттого произошло ее болезненное душевное расстройство.
– Ах, дорогая моя Гедвига, – сказала Юлия самой себе, – как только вернется принц Гектор, ты сейчас же убедишься, что тебе нечего бояться подруги! – Но в ту минуту, как Юлия прошептала эти слова, мысль, что принц ее любит, так ясно заговорила в ее душе, что она испугалась ее силы и жизненности и почувствовала неописуемый страх. Ее пронизало сознание, что, быть может, и права принцесса, и тогда погибель ее, Юлии, несомненна. То странное впечатление, которое произвели на нее взгляд принца и все его существо, снова пришло ей на память, и трепет ужаса опять пробежал по всем ее членам. Она вспомнила тот момент на мосту, когда принц кормил лебедя, обхвативши ее рукой, и все замысловатые слова, которые он тогда говорил, – и, как ни невинно представлялось ей тогда все происходившее, те же слова показались ей теперь полными глубокого смысла. Она вспомнила также и о роковом сне, когда она чувствовала себя охваченной железной рукой; тот, кто держал ее так крепко, был принц; вспомнила, как, проснувшись, она увидала в саду капельмейстера, как вся его душа сделалась ей ясна, и она подумала, что он защитит ее от принца.
– Нет, – громко воскликнула Юлия, – это не так! Этого не может быть, это невозможно! Сам злой дух поселил во мне бедной эти греховные сомнения! Нет, он не может иметь надо мною власти!..
Вместе с мыслью о принце и о той опасной минуте в душе Юлии шевельнулось чувство, угрожающий характер которого выразился только в том, что оно возбудило в ней стыд, заливший ее щеки краской и вызвавший на глазах слезы. Хорошо, что кроткая, чистая Юлия обладала достаточной силой, чтобы отогнать злого духа и не допустить его до границы, где бы он мог утвердиться. Здесь нужно еще раз заметить, что принц Гектор был самый красивый и любезный мужчина, какого только можно себе представить, что его искусство нравиться было основано на глубоком знании женщин, которое он приобрел в течение жизни, полной счастливых приключений, и что молодая, неопытная девушка могла быть испугана победоносной силой его существа.
– О Иоганн, – сказала она нежно, – о дорогой, добрый друг мой, неужели не найду я в тебе защиты, которую ты мне обещал? Неужели не можешь ты сам, утешая, говорить со мной небесными звуками, которые вечно раздаются в моей душе?
Тут Юлия открыла фортепиано и начала играть и петь те произведения Крейслера, которые она любила больше всего. И в самом деле, вскоре она почувствовала себя утешенной и развеселилась. Пение перенесло ее в другой мир: для нее не существовали больше ни принц, ни Гедвига, болезненные фантазии которой смущали ее.
– Ну еще мою любимую канцонетту! – сказала Юлия и запела слова, положенные на музыку многими композиторами: «Mi lagnerà tacendo»[117] и т. д.
И в самом деле Крейслеру особенно удалась эта песня. Сладостная печаль страстной любовной тоски была выражена в простой мелодии с силой, которая непреодолимо трогала всякое чувствительное сердце. Юлия кончила и, вся погруженная в думу о Крейслере, взяла еще несколько аккордов, как бы служивших отголосками ее внутренних чувств. Вдруг отворилась дверь, Юлия оглянулась, и, прежде чем она успела встать, принц Гектор уже лежал у ее ног, крепко схватив ее руки. Она громко закричала от страха, но принц заклинал ее пречистой девой и всеми святыми, быть спокойной и только на две минуты подарить ему небесную радость: лицезреть ее, Юлию, и слушать ее речи. Затем он заговорил в выражениях, обличавших безумие бешеной страсти: он говорил, что ее одну он боготворит, что мысль о браке с Гедвигой для него ужасна, убийственна, что он хотел бежать, но, привлеченный назад силой страсти, которая исчезнет только с его смертью, вернулся, чтобы видеть и говорить с Юлией и сказать ей, что в ней одной его жизнь, его счастье, все, все!
– Уйдите, – в смертельном страхе воскликнула Юлия, – уйдите! Вы меня убиваете, принц!
– Никогда, – воскликнул принц, в страстном порыве прижимая к устам руки Юлии, – никогда! Эта минута принесет мне жизнь или смерть! Юлия! Небесное дитя! Можешь ли ты оттолкнуть меня, когда в тебе вся моя жизнь, все мое блаженство? Нет, Юлия, ты любишь меня! Я знаю это! О, скажи же, что ты меня любишь, и передо мной откроется небо неизреченного блаженства!
Принц обнял Юлию, почти лишившуюся чувств от ужаса, и порывисто прижал ее к груди.
– Горе мне, – изнемогающим голосом воскликнула Юлия, – горе мне! Неужели никто надо мной не сжалится?
Вдруг окна осветились блеском факелов, и за дверьми послышались голоса. Юлия почувствовала, что ее уста обжег пламенный поцелуй, и затем принц быстро скрылся.
Итак, Юлия, как уже было сказано, совершенно вне себя бросилась навстречу входившей матери и с ужасом передала ей все, что случилось. Та начала с того, что, как могла, утешила бедную Юлию, уверив ее, что, к стыду принца, она откроет то убежище, где он находится.
– О, не делай этого! – сказала Юлия. – Я не знаю, что со мной будет, если узнают об этом князь и Гедвига…
Она, рыдая, спрятала лицо на груди матери.
– Ты права, – отвечала советница, – ты права, мое доброе, милое дитя. Пока никто не должен ни знать, ни подозревать, что принц находится здесь и преследует тебя, мою милую, кроткую Юлию! Заговорщики должны молчать! А что есть такие, которые в союзе с принцем, в этом не может быть сомненья: только с их помощью и мог он скрываться в Зигхартсгсфе и прокрасться в нашу квартиру. Непонятно, как это мог принц скрыться из дома, не встретив меня и Фридриха, который мне светил. Старого Георга нашли мы в глубоком, неестественном сне; а где же Нанни?
– Ах, боже мой, – прошептала Юлия, – к несчастью, она больна, и я должна была ее отпустить.
– Может быть, я ее вылечу, – сказала Бенцон и быстро открыла дверь в соседнюю комнату. Там стояла больная Нанни, причесанная и одетая: она подслушивала и теперь в ужасе упала к ногам Бенцон.
Нескольких вопросов советницы было достаточно, чтобы узнать, что принц через старого кастеляна, считавшегося таким преданным слугой…
(М. пр.) …должен я был узнать! Муциус, мой верный друг, мой дорогой брат, умер от несчастного случая с задней ногой. Печальная весть сильно меня огорчила; только теперь почувствовал я, чем был для меня Муциус. В следующую ночь, как сказала мне Пуф, в погребе того дома, где жил мейстер и куда перенесли тело, будет погребальное торжество. Я обещал не только явиться в назначенное время, но позаботиться о еде и питье, чтобы устроить погребальный пир, как принято по старинному благородному обычаю. Я действительно позаботился об этом, целый день перетаскивая свой богатый запас из рыбы, куриных костей и зелени. Для читателей, желающих узнать, как это было сделано и как могло случиться, что я перенес питье, я замечу, что мне без особых трудов помогла в этом одна приветливая служанка. Эта служанка, которую я привык часто встречать в погребе и посещать в ее кухне, по-видимому, особенно расположена была к нашей породе и в особенности ко мне, так что мы не могли встретиться, не поигравши друг с другом самым приятным образом. Она давала мне разные кусочки, которые были, положим, хуже тех, что я получал от хозяина, но все же я съедал их, причем часто из любезности делал вид, что они мне очень нравятся. Это очень трогало сердце служанки, и потому она делала то, что мне было нужно. Я вскакивал к ней на колени, и она так нежно чесала мне за ухом, что я испытывал упоительное блаженство и очень привык к руке, которая «по будням кухню подметает, а в праздник лучше всех ласкает». К этой-то милой особе подошел я в ту минуту, когда она хотела унести из погреба, где я был в то время, большой горшок молока, и выразил понятным для нее способом живейшее желание получить это молоко для себя. «Глупый Мур, – сказала девушка, знавшая мое имя, как и все в доме и по соседству, – ты, верно, не для себя одного захотел молока, а будешь потчевать и других. Ну, бери молоко, серая шкурка, я возьму наверху другое!» Она поставила молоко на землю, пощекотала меня немного по спине, причем я самым милым кувырканием выразил ей свою радость и благодарность, и пошла из погреба вверх по лестнице.
Заметь, о юноша-кот, что знакомство и даже дружеские, сердечные отношения с приветливой кухаркой бывают так же приятны, как и полезны для молодых людей нашего положения и нашей породы.
В полночь я отправился в погреб. О, печальный, раздирающий душу вид! Посредине, на катафалке, состоявшем из кучи соломы, что соответствовало, конечно, простоте вкусов покойного, лежало тело дорогого, любимого друга!.. Все коты были уже в сборе; мы молча пожали друг другу лапы, со слезами на глазах сели вокруг катафалка и запели жалобную песню, леденящие душу звуки которой мрачно раздавались под сводами погреба. Это была самая ужасная, безутешная скорбь, когда-либо слышанная в мире; человеческий орган неспособен произвести ничего подобного. Когда кончилось пение, вышел вперед очень красивый юноша в черной с белом одежде, стал у изголовья покойного и начал следующую речь, которую он дал мне потом в письменном виде, хотя и говорил ее наизусть.
НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ,
СКАЗАННАЯ НА МОГИЛЕ БЕЗВРЕМЕННО ПОГИБШЕГО КОТА МУЦИУСА, ИЗУЧАВШЕГО ИСТОРИЮ И ФИЛОСОФИЮ, СОЧИНЕННАЯ ЕГО ВЕРНЫМ ДРУГОМ И БРАТОМ
КОТОМ ГИНЦМАНОМ,
ИЗУЧАЮЩИМ ПОЭЗИЮ И КРАСНОРЕЧИЕ
– Дорогие братья, удрученные скорбию! Великодушные, смелые бурши! Что такое кот? – Разрушающийся, бренный предмет, как и все рожденное на земле! Если верно, как утверждают знаменитые физиологи и врачи, что смерть, которой подвержены все твари, состоит главным образом в полном прекращении дыхания, – о, тогда дорогой друг и достойный брат наш, этот храбрый союзник в го́ре и в радости, о, тогда благородный наш Муциус действительно мертв! Смотрите! Вот лежит он, благородный, на холодной соломе, распластав все четыре лапы! Ни малейшая струя дыхания не вылетает из навеки сомкнутых уст! Закрылись глаза, то сиявшие прежде переливами зеленого золота, то сверкавшие нежным любовным огнем, то блиставшие губительным гневом! Смертельная бледность разлита по его лицу, уши сонно поникли, хвост повис! О брат мой Муциус, где твои резвые прыжки, твоя веселость, твой светлый нрав, твое ясное радостное «мяу», веселившее все сердца, твои мужество, стойкость, твои ум и шутки? Все, все похитила злая смерть, и теперь ты, быть может, даже не знаешь, жил ли ты на свете. А между тем ты был сама сила, само здоровье, не поддававшееся никакой телесной боли, – и казалось – будешь жить вечно! Ни одно колесо твоего внутреннего механизма не было попорчено, и ангел смерти не замахивался мечом своим над твоей головой, когда механизм остановился, чтобы никогда больше не быть пущенным в ход! Нет, враждебное начало насильственно ворвалось в организм и дерзостно повредило то, что еще долго могло бы служить. Да, еще часто могли бы приветливо сиять эти глаза, часто могли бы раздаваться из этих уст и вырываться из этой застывшей груди веселые речи и песни, часто мог бы извиваться в волнистых линиях этот хвост, выражая веселый нрав и внутреннюю силу, не раз доказали бы еще эти лапы силу и ловкость смелыми прыжками, и вот… О, может ли допускать природа, чтобы то, что она созидала с трудом и на долгое время, было безвременно разрушено? Или в самом деле существует мрачный дух, называемый случаем, в деспотически дерзком своеволии врывающийся в движения, которые обусловливают, по-видимому, всякое существование сообразно вечному принципу природы?.. О, если бы мог умерший ответить на это опечаленному, но живому собранию!..
Достойные слушатели и дорогие братья, не будем, однако, останавливаться на таких глубокомысленных соображениях, но предадимся печали о безвременно утраченном друге Муциусе! Принято, чтобы произносящий надгробную речь сообщал присутствующим полную биографию покойного со всеми похвальными случаями и примечаниями, и этот обычай очень хорош, так как таким сообщением можно возбудить скуку даже и в наиболее огорченных слушателях, а эта скука, по опыту и наблюдениям достойнейших психологов, наиболее препятствует всякой печали, и, следовательно, оратор исполняет таким образом одновременно два долга: оказывает должную честь усопшему и утешает оставшихся. Мы знаем примеры, и они вполне естественны, когда наиболее удрученные горем уходили довольными и веселыми после такой речи; они так радовались избавлению от муки таких речей, что забывали даже о потере усопшего.







