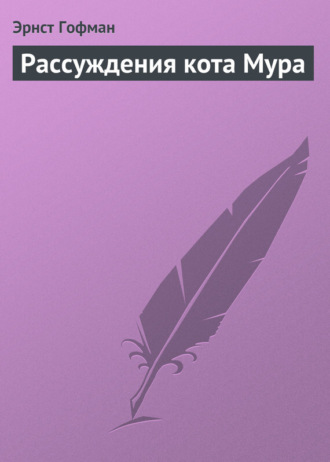
Эрнст Теодор Амадей Гофман
Рассуждения кота Мура
Князь Ириней считал себя очень значительной княжеской особой и потому, конечно, не раз мечтал о всяких придворных интригах и опасностях. Последние слова егеря очень тяжело легли ему на сердце, и на несколько минут он впал в глубокое раздумье.
Егерь, – сказал он затем с широко раскрытыми глазами – егерь, ты прав. Дело о неизвестном человеке, который здесь шныряет, и о свете, который виден ночью в павильоне, значительнее, чем это может казаться в первую минуту. Моя жизнь в руках божьих; но меня окружают верные слуги, и если один из них пожертвует собой для меня, я, конечно, щедро награжу его семейство. Распространи это между моими слугами, добрый Лебрехт. Ты знаешь, что княжеское сердце свободно от всяких опасений и свойственного человечеству страха смерти, но существуют обязанности к своему народу, для него нужно себя сохранять, – в особенности, когда наследник трона еще несовершеннолетний. Я оставлю дворец не прежде, чем разоблачу козни в павильоне. Лесничий должен явиться вместе с егерями и остальными служителями, все мои слуги должны вооружиться. Павильон следует сейчас же окружить, дворец накрепко запереть. Позаботься об этом, мой добрый Лебрехт! Я сам наточу свой охотничий нож, а ты заряди мои пистолеты, но не забудь спустить курки, чтобы не случилось несчастья. И пусть мне дадут знать, когда комнаты павильона будут взяты приступом и осажденные принуждены будут сдаться, чтобы я мог пройти во внутренние покои. Пусть тщательно обыщут пойманных прежде, чем их приведут к трону, чтобы никто не мог сомневаться… но что ты стоишь? Что ты на меня смотришь? Чему ты улыбаешься? Что это значит, Лебрехт?
– Э, ваша светлость, – отвечал с лукавым видом лейб-егерь, – совсем не нужно звать лесничего и его людей.
– Отчего? – сердито спросил князь. – Отчего? Ты, кажется, смеешь мне возражать? А тем временем опасность возрастает с каждой минутой? Тысячу чер… Лебрехт, бросайся на лошадь! Лесничий, его люди, заряженные ружья – все это должно быть здесь в одну минуту!
– Да они уже здесь, ваша светлость, – сказал лейб-егерь.
– Как? Что? – воскликнул князь, раскрывая рот как бы для того, чтобы дать свободный выход своему удивлению.
– Как только рассвело, – продолжал егерь, – я уже был у лесничего. Павильон так тщательно окружен, что ни одна кошка не может оттуда выскочить, не только человек.
– Ты великолепный егерь, Лебрехт, – сказал растроганный князь, – и верный слуга княжеского дома. Если ты спасешь меня от этой опасности, то можешь смело рассчитывать на почетную медаль, которую я сам придумаю и велю отчеканить из серебра или из золота сейчас же после взятия приступом павильона, сколько бы у нас ни осталось людей.
– Если позволите, ваша светлость, – сказал лейб-егерь, – то мы сейчас же приступим к делу, то есть отворим двери павильона, поймаем негодяя, и все будет кончено; да, да, поймаем того молодца, который столько раз от меня ускользал, этого проклятого прыгуна, этого дьявольского молодчика, что непрошено расположился в павильоне, – словим этого мошенника, что обеспокоил фрейлен Юлию!
– Какой мошенник? – спросила советница Бенцон, входя в комнату. – Какой это мошенник обеспокоил Юлию? О чем это вы говорите, добрый Лебрехт?
Князь пошел навстречу Бенцон торжественным, значительным шагом, как человек, готовящийся к чему-то великому и важному, требующему напряжения всех его душевных сил. Он взял руку советницы, нежно пожал ее и сказал очень мягким голосом:
– Бенцон! Даже в уединении и в полной замкнутости особа князя подвержена опасности. Такова судьба князей: ни кротость, ни доброта сердца не уберегают их от враждебного демона, зажигающего в груди предательских вассалов зависть и желание властвовать! Бенцон! Самое горькое предательство подняло против меня покрытую змеями голову Медузы, и вы видите меня в величайшей опасности. Но вскоре настанет момент катастрофы; этому верному слуге буду я обязан, быть может, жизнью и троном! Если же суждено мне иное, я покорюсь своей участи. Я знаю, Бенцон, вы сохранили ваше расположение ко мне, и потому я могу патетически воскликнуть, как некий король в трагедии немецкого поэта, которою мне принцесса Гедвига недавно испортила весь чай: «Ничто не погибло, пока вы моя!» Поцелуйте меня, добрая Бенцон! Дорогая Мальхен, мы остались все те же!.. Боже милосердый, я забылся в своем смятеньи!.. Милая моя, будем сдержанны: когда появится изменник, мы уничтожим его одним взглядом. Лейб-егерь, пусть начнется приступ на павильон!
Лейб-егерь бросился было вперед.
– Стойте! – воскликнула Бенцон. – Какой приступ? На какой павильон?
По приказанию князя лейб-егерь еще раз дал подробный отчет о всем случившемся.
Пока лейб-егерь говорил, Бенцон становилось, по-видимому, все более и более неловко. Когда он кончил, она воскликнула со смехом:
– Произошло самое смешное недоразумение, какое только может быть! Я прошу вас, ваша светлость, сейчас же отослать лесничего со всеми его людьми. Тут не может быть речи ни о каком заговоре, вам не грозит ни малейшей опасности; неизвестный житель павильона уже взят в плен.
– Но кто же, – с удивлением спросил князь, – кто тот несчастный, что поселился в павильоне без моего разрешения?
Тогда Бенцон шепнула князю на ухо:
– Это принц Гектор. Он там скрывался!
Князь отступил на несколько шагов, как бы пораженный внезапным ударом невидимой руки, и затем воскликнул:
– Кто? Как? Est-il possible?[133] Бенцон, я брежу! Принц Гектор?
Взор князя упал на лейб-егеря, который, совершенно смущенный, мял в руках свою шляпу.
– Егерь, егерь, – закричал князь, – вон отсюда! Лесничий, люди, все домой, домой! Ни одного человека не должно быть видно!
– Бенцон, – продолжал он, обращаясь к советнице, – добрая Бенцон, можете вы себе представить, что Лебрехт назвал принца Гек тора «молодцом» и «мошенником»! Несчастный! Но это останется между нами, Бенцон; это государственная тайна. Скажите же мне, объясните мне, как могло случиться, что принц собрался уехать, а сам скрывался здесь, точно он искал приключений?
Наблюдения лейб-егеря вывели Бенцон из больших затруднений. Если она и убедилась в том, что с ее стороны было бы неблагоразумно открывать князю присутствие принца в Зигхартсгофе и тем менее его вторжение к Юлии, то во всяком случае дело не могло оставаться в этом положении, с каждой минутой становившемся все опаснее и для Юлии, и для тех отношений, которые сама Бенцон поддерживала с таким трудом. Теперь же, когда лейб-егерь открыл засаду принца и миновала опасность, избавление от которой совершилось не при особенно доблестных обстоятельствах, она не могла его выдать, не выгородивши Юлию. Итак, она объявила князю, что, вероятно, между принцессой Гедвигой и принцем произошла любовная ссора, что и заставило принца объявить о своем быстром отъезде и скрываться со своим верным камердинером вблизи возлюбленной. Нельзя не сознаться, что в таком поведении было нечто романтическое и причудливое, но какой же возлюбленный не склонен к этому? Кроме того, камердинер принца – очень большой поклонник ее Нанни, которая и открыла ей эту тайну.
– Ну, – воскликнул князь, – благодарение небу! Так это камердинер, а не сам принц пробрался в ваш дом и выскочил потом из окна на цветочные горшки, как паж Керубино. Мне уже приходили в голову разные неприятные мысли. Принц и – прыгать в окно! Как бы это плохо приняли в свете.
– Однако, – лукаво смеясь, отвечала Бенцон, – я знаю некую княжескую особу, которая не гнушалась доро́гой через окно, когда…
– Вы меня расстраиваете, Бенцон, – прервал князь советницу, – вы меня просто расстраиваете! Оставим прошлое и займемся лучше тем, как поступить теперь с принцем. Вся дипломатия, государственное право и придворные правила летят к черту в этом проклятом положении!
Должен ли я его игнорировать? Должен ли находить его правым? Как должен я поступить? Все путается в моей голове, точно я кружусь по комнате. Это все оттого, что княжеского рода особы вздумали заниматься романтическими штуками!
Бенцон действительно не знала, как оформить дальнейшие отношения с принцем. Но и это затруднение было устранено. Прежде чем советница успела ответить князю, в комнату вошел старый кастелян Руперт и подал князю маленькую сложенную записку, уверяя с плутовским смехом, что она пришла от высокой особы, которую он теперь уже не будет иметь честь держать под замком.
– Так, значит, Руперт, – милостиво сказал князь, обращаясь к старику, – ты знал?.. Ну да, я всегда считал тебя верным слугой моего дома, и теперь ты доказал это на деле, слушаясь приказаний моего высокопоставленного зятя. Я подумаю о твоей награде.
Руперт поблагодарил в самых почтительных выражениях и удалился из комнаты.
В жизни встречается довольно часто, что человека считают особенно честным и добродетельным в ту самую минуту, как он сделал мошенническую штуку. Это самое подумала Бенцон, знавшая, каковы были намерения принца, и вполне убежденная в том, что старый плутоватый Руперт был посвящен в эту тайну.
Князь развернул записку и прочел:
Che dolce più, che piu giocondo stato
Saria, di quel d’un amoroso core?
Che viver piu felice e più beato
Che ritrovarsi in servitu d’Amore?
Se non fosse e’huom sempre stimulato
Da quel sospetto rio, da quel timore
Da quel martir, da quella frenesia,
Da quella rabbia, detta gelosia!
«В этих стихах великого поэта найдете вы, князь, объяснение моего таинственного поведения. Я думал, что меня не любит та, которую я обожаю, в ком вся моя жизнь, стремление и надежда, к которой горит страстью мое пламенное сердце. Но, к счастью, теперь я убедился в другом; всего несколько часов тому назад узнал я, что я любим, и я выхожу из своего убежища… Любовь и счастье – вот лозунг, который обо мне возвещает! Вскоре я явлюсь приветствовать вас, князь, как почтительный сын ваш.
Гектор».
Быть может, благосклонному читателю не будет неприятно, если биограф оставит на время рассказ и набросает эскиз перевода итальянского стихотворения. Оно означает приблизительно следующее:
Что на земле есть слаще, веселее
Удела тех, кто страстно полюбил?
Тому и жизнь становится милее,
Кого Амур крылатый победил,
Когда б не то, что всех мучений злее,
Тот страшный яд, смертельных полный сил,
Когда душа неистово мятется,
Тот ужас, ад, что ревностью зовется.
Князь с большим вниманием прочел записку два, а потом и три раза сряду, и чело его все более и более омрачалось.
– Бенцон, – сказал он наконец, – что случилось с принцем? Стихи, итальянские стихи, обращенные к княжеской особе, к коронованному тестю, вместо ясного и разумного объяснения. Что это такое! В этом нет никакого смысла. Принц, по-видимому, возбужден совершенно непристойным образом. Насколько я понимаю, стихи говорят о счастии, любви и о мучениях ревности. Что хочет принц сказать своей ревностью? И, бога ради, к кому может он здесь ревновать?.. Скажите мне, добрая Бенцон, находите ли вы в этой записке хотя бы искру здравого смысла?
Бенцон ужаснулась скрытому смыслу, заключавшемуся в словах принца, который она легко могла угадать после того, что случилось вчера в ее доме. Но вместе с тем она удивлялась тонкому обороту, изобретенному принцем для того, чтобы получить возможность, не медля долее, выйти из засады. Она была далека от того, чтобы хоть чем-нибудь выдать свои мысли князю, но постаралась, однако, извлечь из положения вещей столько выгоды, сколько было возможно. Она думала, что Крейслер и мейстер Абрагам были люди, способные разрушить ее тайные планы, и против них считала она возможным употребить всякое оружие, данное ей в руки случаем. Поэтому она напомнила князю про страсть, возникшую в сердце принцессы.
– От проницательного взора принца, – продолжала она, – не могло укрыться настроение принцессы, а странное, сумасбродное поведение Крейслера, несомненно, могло дать повод заподозрить между ними какие-нибудь особые отношения. Этим и объясняется, почему принц грозил Крейслеру смертью, почему он, задумав убить Крейслера, не обратил внимания на горе и отчаяние принцессы, а потом, узнав, что Крейслер жив, вернулся, привлеченный любовной тоской, и тайно наблюдал за невестой. Стихи принца, говорившие о ревности, не могли касаться никого другого, кроме Крейслера, и поэтому нужно и разумно, воспрепятствовать пребыванию Крейслера в Зигхартсгофе, – тем более что он, по-видимому, составил вместе с мейстером Абрагамом заговор, направленный против всех придворных отношений.
– Бенцон, – серьезно проговорил князь, – я много думал о том, что вы говорили мне о недостойной склонности принцессы, и не верю ни одному слову. В жилах принцессы течет княжеская кровь.
– Думаете ли вы, ваша светлость, – горячо сказала Бенцон, краснея до самых глаз, – что женщина княжеской крови лучше всякой другой устоит против страстного биения сердца?
– Вы сегодня в очень странном настроении, госпожа советница, – с досадой сказал князь. – Повторяю, что если бы в сердце принцессы и возникла какая-нибудь недостойная страсть, то это был бы только болезненный припадок, так сказать, судорога, – ведь она же страдает спазмами, – да, болезненный припадок, от которого она очень скоро излечилась бы. Что же касается Крейслера, то это презабавный человек, которому не хватает только надлежащей культуры. Я не думаю, чтобы он был способен на такую страшную дерзость, как желание приблизиться к принцессе. Он дерзок, но совсем на другой лад. Поверьте, Бенцон, его странные манеры ясно показывают, что никакая принцесса не может увлечь его, даже если мы допустим мысль, что такая высокая особа может снизойти до того, чтобы в него влюбиться. Entre nous soit dit, он не очень-то дорожит высокопоставленными лицами, и в этом заключается безвкусное и смешное безумие, делающее его неспособным к придворной службе. Может быть, поэтому он хочет остаться вдали от двора; но если он вернется, я от души буду его приветствовать. Достаточно и того, что он, как узнал я от мейстера Абрагама… Да, от мейстера Абрагама! Его-то уж вы оставьте в покое, Бенцон! Его заговоры всегда клонились ко благу княжеского двора. Что я хотел сказать? Да, довольно того, что капельмейстер, как сказал мне мейстер Абрагам, принужден был скрыться отсюда самым неприличным образом, несмотря на то, что я дружески его принял; он всегда был и останется очень умным человеком, который забавляет меня, несмотря на свои дурацкие манеры, et cela suffit[134].
Советница оцепенела от бешенства, видя, как холодно с ней обращаются. Ничего не подозревая, наткнулась она на подводную скалу там, где думала уверенно и спокойно продолжать свой путь, как по тихой, глубокой реке.
Тем временем на дворе поднялся сильный шум. Въезжал длинный ряд экипажей, сопровождаемый отрядом эрцгерцогских гусар. Обер-гофмаршал, президент, княжеские советники и многие из знатных особ зигхартсвейлерского общества выходили из экипажей. До города дошли вести, что в Зигхартсгофе разыгралась революция, грозившая жизни князя, и теперь эти верные слуги прибыли вместе с другими почитателями двора, чтобы явиться перед особой князя вместе с защитниками государства, которые с большим трудом получили отпуск от губернатора. Князь не находил слов в ответ на громкие уверения собравшихся, что они готовы пожертвовать для его светлости жизнью. Он только что хотел заговорить, как вошел офицер, командовавший отрядом, и спросил князя о плане действий.
По свойству человеческой природы мы всегда испытываем очень неприятное чувство, когда опасность, вызвавшая в нас страх, превращается на наших глазах в пустое и глупое пугало. Нам доставляет радость мысль, что мы счастливо избегли настоящей опасности, а не то, что ее совсем не было.
Так было и теперь, так что князь едва мог сдержать свою досаду и раздражение на весь этот ненужный шум. Мог ли и должен ли был он сказать, что весь шум поднялся из-за свидания камердинера с горничной и романтической ревности влюбленного принца? Он поворачивался то туда, то сюда. Выжидательное молчание всей толпы, нарушаемое только веселым, сулящим победу ржанием гусарских лошадей, угнетало его, как свинец.
Наконец он откашлялся и начал очень патетично:
– Господа, чудесное предопределение неба… что вам нужно, mon ami[135]?
Этой фразой, обращенной к гофмаршалу, прервал князь собственную речь. Действительно, гофмаршал много раз кланялся и давал понять своим взглядом, что произошло нечто важное. Как раз в эту минуту доложили о прибытии принца Гектора.
Лицо князя тотчас же прояснилось; он увидел, что можно быть очень кратким по поводу мнимой опасности, грозившей его трону, и как по мановению жезла превратить достопочтенное собрание в приветствующий принца двор. Он так и сделал.
Весьма скоро явился принц Гектор в блестящей парадной форме, красивый, сильный и гордый, как молодой божок. Князь сделал ему навстречу два шага, но сейчас же отступил, как сраженный молнией. Рядом с принцем Гектором впрыгнул в зал принц Игнатий. Молодой принц становился с каждым днем глупее и неприличнее. Ему необыкновенно понравились гусары, стоявшие на княжеском дворе, он заставил одного из них дать ему саблю, лядунку и шапку и нарядился во все это великолепие. Он скакал по зале, делая короткие прыжки, будто сидя на лошади, с обнаженной саблей в руках и волочил по полу стальное лезвие, смеясь и фыркая от удовольствия.
– Partez, décampez, allez vous en! Tout de suite![136] – сверкая глазами и громовым голосом крикнул князь, увидев Игнатия, который в испуге поскорее выбрался вон.
Никто из присутствующих не был настолько бестактен, чтобы заметить принца Игнатия и всю эту сцену.
Князь во всем солнечном блеске своей прежней кротости и приветливости сказал несколько слов принцу, и затем оба, и князь, и принц, прошлись мимо круга собравшихся, говоря по два-три слова то тому, то другому лицу. Выход был кончен, то есть умные и глубокомысленные речи, которые произносятся в подобных случаях, были распределены надлежащим образом, и князь отправился с принцем в покои княгини, а затем, по настоянию принца, желавшего застать врасплох дорогую невесту, прошел и к принцессе. Они нашли у нее Юлию.
С поспешностью самого пламенного любовника подлетел принц к принцессе, нежно прижал ее руку к своим губам, клянясь, что он жил только мыслью о ней, что несчастное недоразумение заставило его вытерпеть адскую муку, что он не мог больше выносить разлуку с той, которую он обожал, и что только теперь открылось перед ним небесное блаженство.
Гедвига встретила принца с безмятежной веселостью, которая вообще не была ей свойственна. Она начала с принцем самый нежный разговор, какой только может вести невеста, не унижая своего достоинства; она не гнушалась даже тем, чтобы немного поддразнить принца его тайным убежищем, говоря, что она не может себе представить превращение красивее и приятнее того, когда болван для чепца превращается в голову принца. Ведь она принимала за болван для чепца ту голову, которая виднелась в верхнем окне павильона. Это подало повод к разным милым поддразниваниям счастливой пары, восхищавшим, по-видимому, даже князя. Он думал, что теперь-то он отлично видит великое заблуждение Бенцон относительно Крейслера, так как, по его мнению, любовь Гедвиги к красивейшему из мужчин выражалась слишком ясно. И дух, и тело принцессы, казалось, как-то особенно расцвели, как это и бывает обыкновенно с счастливыми невестами. Юлия представляла совершенную противоположность; как только она увидела принца, она вся съежилась под влиянием страха. Бледная, как смерть, стояла она с опущенными глазами, не в силах сделать ни одного движения, и едва могла устоять на месте.
Через некоторое время принц подошел к Юлии со словами: «Фрейлен Бенцон, если не ошибаюсь?»
– Подруга принцессы с самого детства: они – все равно что сестры!..
В то время, как князь произносил эти слова, принц взял руку Юлии и тихо-тихо шепнул ей: «Тебя одну желаю!» Юлия пошатнулась, слезы покатились из-под ее ресниц, и она, наверно, упала бы, если бы принцесса не поторопилась подставить ей стул.
– Юлия, – тихо сказала принцесса, нагнувшись над бедняжкой, – Юлия, возьми себя в руки. Разве ты не видишь, как тяжела моя борьба?
Князь открыл дверь и закричал, чтобы принесли оделюс[137].
– Этого со мной нет, – сказал шедший ему навстречу мейстер Абрагам, – но есть хороший эфир. С кем-нибудь случился обморок? Эфир тоже помогает.
– Так идите сюда скорее, мейстер Абрагам, – ответил князь, – и помогите фрейлен Юлии.
Но в то время, как мейстер Абрагам входил в зал, случилось нечто, совсем неожиданное.
Принц Гектор, бледный, как смерть, всматривался в мейстера; казалось, волосы поднялись у него на голове от ужаса, и проступил на лбу холодный пот. Шагнув вперед, он откинул назад все тело и вытянул вперед обе руки, напоминая Макбета, когда ужасная, кровавая тень Банко внезапно появилась за столом, на пустом месте. Мейстер спокойно вынул свой флакончик и хотел подойти к Юлии.
Тогда принц несколько пришел в себя, точно вернулся к жизни.
– Северино, это вы? – воскликнул он глухо, с выражением глубочайшего ужаса.
– Да, это я, – ответил мейстер Абрагам, нимало не теряя своего спокойствия, – мне приятно, что вы вспомнили меня, ваша светлость; я имел честь много лет тому назад оказать вам в Неаполе небольшую услугу.
Мейстер сделал еще один шаг вперед; тогда принц схватил его за руку, с силой увлекая в сторону, и между ними начался краткий разговор, непонятный ни для кого из находившихся в зале, так как он велся очень быстро и на неаполитанском диалекте.
– Северино, как попал к этому человеку портрет?
– Я дал портрет ему как защиту от вас.
– Знает он?
– Нет!
– Вы будете молчать?
– До некоторого времени – да!
– Северино! Все черти погнались за мной! Что значит «до некоторого времени»?
– До тех пор, пока вы будете умны и оставите в покое Крейслера и вон ту особу!
После этих слов принц оставил мейстера и отошел к окну. Тем временем Юлия справилась со своим волнением и, глядя на мейстера с неописуемым выражением раздирающей душу тоски, скорее прошептала, чем проговорила:
– Мой добрый, милый мейстер, ведь вы можете меня спасти? Не правда ли, у вас много средств? Ваша наука еще может направить все к лучшему!
Мейстер открыл в словах Юлии удивительное совпадение с предыдущим разговором, точно будто она все поняла в высоком ясновидении и узнала всю тайну!
Он тихо сказал ей на ухо:
– Ты – чистый ангел, и потому мрачный дух ада и греха не имеет над тобой власти. Доверься мне вполне, не бойся и держись всеми силами твоего духа. Думай также о нашем Иоганне.
– Ах, – горестно воскликнула Юлия, – ах, Иоганн! Ведь он вернется, не правда ли, мейстер? Я снова его увижу?
– Конечно, – ответил мейстер и приложил палец к губам. Юлия поняла его.
Принц старался быть непринужденным. Он рассказывал, что человек, которого здесь называют мейстером Абрагамом, много лет тому назад в Неаполе был свидетелем одного очень трагического события, в котором сам он, принц, признаться, был тоже замешан. Это событие теперь не время рассказывать, но впоследствии он не будет о нем умалчивать.
Буря в душе принца была слишком сильна, чтобы ее бушевание незаметно было на поверхности; расстроенное лицо принца, в котором не было ни кровинки, плохо вязалось с равнодушным разговором, к которому он принуждал себя, чтобы выйти из критического положения. Принцессе удалось лучше, чем принцу, победить натянутость этой минуты. С иронией, превращавшей в тончайшую насмешку даже подозрение и горечь, водила Гедвига принца по лабиринту своих мыслей. И этот опытный светский человек во всеоружии душевной испорченности, разрушающей всякую правду, не мог противостоять этому странному существу. Чем живее становилась Гедвига, чем огненнее и ярче вспыхивали молнии ее остроумной насмешки, тем смущеннее казался принц, и наконец чувство это сделалось ему настолько невыносимо, что он быстро удалился.
С князем случилось то, что всегда случалось с ним при подобных столкновениях: он не знал, что об этом думать, и удовольствовался несколькими французскими фразами, не имевшими особенного значения, с которыми он обратился к принцу, на что тот ответил ему такими же незначительными словами. Принц уже вышел за дверь, когда принцесса Гедвига вдруг изменилась в лице, начала пристально всматриваться в пол и громко вскрикнула странным, раздирающим душу голосом:
– Я вижу кровавый след убийцы!
Затем она, точно пробудившись от сна, страстно прижала к груди Юлию и шепнула ей:
– Дитя, мое бедное дитя, не давайся в обман!
– Тайны! – досадливо сказал князь. – Тайны, видения, глупости, романтические бредни. Ma foi, я не узнаю своего двора!.. Мейстер Абрагам, вы приведете в порядок мои часы, так как они неверно идут. Мне хочется, чтобы вы взглянули, что случилось с механизмом, который никогда прежде не останавливался. Но что такое «Северино»?
– Под этим именем, – отвечал мейстер, – я показывал в Неаполе свои оптические и механические опыты.
– Так, так, – сказал князь и пристально посмотрел на мейстера, как будто на губах у него вертелся вопрос, но потом быстро повернулся и молча оставил комнату.
Думали, что Бенцон – у княгини, но оказалось, что советница уже отправилась на свою квартиру.
Юлия стремилась на чистый воздух, и мейстер повел ее в парк, где, бродя по полуопустевшим дорожкам, разговаривали они о Крейслере и о его пребывании в аббатстве. Так дошли они до рыбачьего домика. Юлия вошла туда, чтобы отдохнуть. Письмо Крейслера лежало на столе, и мейстер нашел, что оно не заключает в себе ничего такого, что Юлии было бы неприятно узнать.
В то время, как она читала письмо, ее щеки делались ярче, и глаза разгорались мягким огнем, отражавшим ее тихую радость.
– Ты видишь, мое милое дитя, – ласково сказал мейстер, – как добрый дух моего Иоганна утешает тебя даже издали своими речами. Тебе нечего бояться страшных нападений, когда сама твердость, любовь и мужество защищают тебя от всякого зла.
– Милосердное небо, – воскликнула Юлия, поднявши свой взор, – спаси меня от меня самой! – Она в ужасе содрогнулась от слов, которые вырвались у нее помимо воли, и почти без чувств упала на стул, закрыв обеими руками пылающее лицо.
– Я не понимаю тебя, девушка, – сказал мейстер, – ты, может быть, и сама себя не понимаешь и потому должна заглянуть в свою душу до самого дна, не умалчивая и не щадя себя ни в чем.
Мейстер оставил Юлию в глубоком раздумьи и, скрестивши руки, смотрел на таинственный стеклянный шар. Грудь его сжалась тоской и странным предчувствием.
– Тебя, – сказал он, – тебя я должен спросить, с тобой посоветоваться, прекрасная, чудная тайна моей жизни! Не молчи, дай мне услышать твой голос! Ты ведь знаешь, что я никогда не был пошлым фокусником, хотя многие меня считали таким. Во мне горела любовь, которая сама есть вечный мировой дух, и в груди моей тлела искра, разгоравшаяся в яркое пламя от дыхания твоего существа!.. Не думай, Кьяра, что это сердце окаменело от старости и не может так же быстро биться, как тогда, когда я отнял тебя у бесчеловечного Северино; не думай, что я теперь менее достоин тебя, чем тогда, когда ты сама меня отыскала!.. О… дай мне только услышать твой голос, и я брошусь вперед, как юноша, и буду до тех пор бежать за этим звуком, пока не найду тебя, и тогда мы снова будем жить вместе и в волшебном согласии заниматься магией, которую все, даже самые обыкновенные люди, признают нужной, хотя в нее и не верят. И если тело твое уже не присутствует на земле и голос твой заговорит со мной из мира духов, я буду и этим доволен и буду так же искусен, как прежде… Но нет, нет! Как утешительно звучали слова, которые ты мне говорила:
Там для смерти места нет,
Где любовь не умирает.
Если грустен был рассвет,
Вечер ярко засияет!
– Мейстер, – воскликнула Юлия, поднявшись со стула и с глубоким удивлением прислушиваясь к речам старика, – мейстер, с кем вы говорите? Что вы хотите делать? Вы назвали имя «Северино». Праведное небо! Не тем ли именем назвал вас и принц, когда он оправился от своего ужаса? Какая страшная тайна скрывается в этом?
При этих словах Юлии сейчас же прошло приподнятое настроение старика, и на лице его появилось какое-то странное, комическое выражение притворной приветливости, давно уже на нем не бывавшее; это выражение удивительно противоречило прямодушию всего его существа и придавало его внешности характер неприятной карикатуры.
– Прекрасная девица, – заговорил он резким тоном, которым хвастливые фокусники расхваливают обыкновенно свои чудеса, – потерпите немного, и вскоре я буду иметь честь показать вам здесь, в рыбачьем домике, удивительные вещи. Эти танцующие человечки, маленькие турки бог знает сколько лет уже живут на свете; эти автоматы, попугаи, бесформенные картины и оптические зеркала – все это прекрасные магические игрушки; но лучшего у меня еще нет. Там моя невидимка; заметьте, она сидит наверху в стеклянном шаре; но она еще не говорит, она утомлена долгим путешествием, так как приехала прямо из дальней Индии. Через несколько дней, прекрасная девица, явится моя невидимка, и мы расспросим ее про принца Гектора, про Северино и про другие события прошлого и будущего!.. Теперь же будет только маленькая забава.
И мейстер забегал по комнате с быстротой и живостью юноши, завел машины и установил магические зеркала. Во всех углах началась жизнь и движение: автоматы заходили по комнате, покачивая головами, петух захлопал крыльями и запел, попугаи пронзительно закричали, а сама Юлия и мейстер Абрагам стояли и в комнате, и на дворе. Странное настроение мейстера навело на Юлию ужас, несмотря на то, что она достаточно привыкла к подобным представлениям.
– Мейстер, – сказала она в испуге, – мейстер, что с вами случилось?
– Дитя, – ответил мейстер со своей обычной важностью, – дитя, со мной случилось нечто прекрасное и чудесное, но не следует, чтобы ты это знала. Теперь же пусть эти живые мертвецы проделывают свои штуки, а я тем временем сообщу тебе многое, что тебе нужно и полезно узнать… Моя милая Юлия, твоя мать замкнула от тебя свое материнское сердце, я же хочу открыть его тебе, чтобы ты, заглянув туда, увидела грозящую тебе опасность и могла ее избегнуть. Узнай же прежде всего без дальнейших рассуждений, что мать твоя твердо решилась не более не менее, как…
(М. пр.) …я предпочитаю это оставить. Юноша-кот, будь скромен, как я, не спеши сейчас же выражать свою мысль стихом, когда есть в распоряжении прямая и честная проза. В книге, написанной прозой, стихи должны играть роль сала в колбасе, то есть, будучи рассеяны там и сям маленькими кусочками, придавать целому блеск и сочность, а вкусу – приятную сладость. Я не опасаюсь того, что мои коллеги по перу найдут это сравнение низким и неблагородным, так как оно относится к нашему любимому кушанью: в самом деле часто хорошие стихи так же полезны для посредственного романа, как жирное сало для тощей колбасы. Я говорю это как кот с эстетическим образованием и опытностью… Согласно моим философским и нравственным правилам, все отношения, образ жизни Понто и вся его манера подслуживаться господину должны были казаться мне недостойными и даже немного жалкими, но меня поразили его непринужденные манеры, изящество и приятная легкость в светских отношениях. Я всеми силами старался себя уверить, что я с моим научным образованием и с моей серьезностью во всех начинаниях стою́ значительно выше несведущего Понто, который только иногда на лету схватывает что-нибудь из наук. Но какое-то непобедимое чувство говорило мне, что Понто везде бы меня затмил; я чувствовал себя вынужденным признать, что есть более почетное звание, и к нему причислял пуделя Понто.







