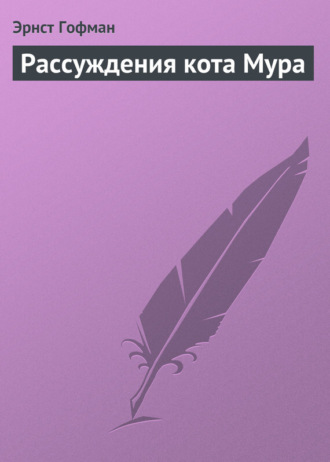
Эрнст Теодор Амадей Гофман
Рассуждения кота Мура
Различные шпицы, которым Ахилл оказывал иногда честь, играя с ними и ворочая их своими неуклюжими лапами, стали являться на его зов, как только наш хор начинал пение, и принимались так зверски лаять, что мы не могли услышать ни одной своей ноты. Мало того, некоторые из этих филистерских слуг ворвались на чердак и, не желая вступать с нами в открытый и честный бой, когда мы показали им когти, подняли такой неистовый гам с визгом и лаем, что если раньше мы мешали дворовому псу, то теперь уже сам хозяин дома не мог сомкнуть глаз, а так как гам этот не унимался, то он схватил плеть и бросился разгонять бушевавших над его головой.
О кот, читающий эти строки! Если у тебя в груди истинно мужественное сердце, в голове светлый разум, а уши твои не очень притуплены, то скажи мне, есть ли для тебя что-либо отвратительнее, противнее и ненавистнее, чем визгливый, пронзительный и во всех тонах диссонирующий лай разозленного шпица? Этим маленьким виляющим, тявкающим и вертлявым существам нельзя доверять, заметь это, кот! Поверь мне, что дружба шпица опаснее выпущенных когтей тигра! Но умолчим о горьком опыте, который мы, увы, слишком часто испытывали, и вернемся к дальнейшему течению нашего рассказа.
Итак, хозяин, как было сказано выше, взял плеть, чтобы разогнать бушевавших на чердаке. Но что же вышло? Шпицы завиляли хвостами, бросившись навстречу разгневанному хозяину, стали лизать ему ноги и уверили его, что весь этот гам был поднят только ради его покоя, несмотря на то, что сам он потерял из-за него всякий покой. Они лаяли только для того, чтобы выгнать нас, которые поднимают на крыше нестерпимый шум своими песнями во всевозможных пронзительных тонах. Хозяин поддался болтливому красноречию шпицов, тем более что дворовый пес при его расспросах подтвердил их слова, руководствуясь страшной ненавистью, которая таилась в его груди против нас. И вот начались преследования. Домовые слуги гнали нас отовсюду метлами, обломками черепицы и даже расставили везде западни и капканы, в которые мы должны были попадаться и, увы, действительно попадались! Даже дорогой друг мой Муциус попал в беду, то есть в капкан, который страшно повредил ему правую заднюю лапу!
Так прервалась наша веселая совместная жизнь. Я вернулся к печке хозяина, оплакивая в полном уединении судьбу моего несчастного друга.
Однажды в комнату моего господина вошел профессор эстетики Лотарио, а за ним вбежал Понто.
Я не могу выразить, какое неприятное чувство причинил мне вид Понто. Хотя он не был ни дворовым псом, ни шпицем, но все же принадлежал к породе, враждебное отношение которой помешало веселым сборищам кошачьих буршей, и этого было достаточно, чтобы, несмотря на всю дружбу, которую он мне выказывал, он был мне неприятен. Кроме того, мне показалось, что во взгляде Понто и во всей его особе было что-то нахальное и насмешливое, и потому я решил не говорить с ним. Тихо-тихо спустился я со своей подушки, одним прыжком очутился в печке, заслонка которой была открыта, и запер ее за собой.
Лотарио говорил с хозяином о чем-то мало интересном для меня, – тем более что все мое внимание было сосредоточено на юном Понто, который, с щеголеватым видом напевая какую-то песенку, танцевал по комнате, затем вскочил на подоконник и, как истый фанфарон, каждую минуту кланялся знакомым прохожим и даже слегка полаивал, конечно, для того, чтобы обратить на себя внимание проходивших красавиц его породы. Обо мне легкомысленный малый, по-видимому, даже и не думал, и, хотя я, как уже сказано, вовсе не желал разговаривать с ним, мне было все-таки неприятно, что он не осведомлялся обо мне.
Совсем иначе и, как думалось мне, приличнее и разумнее показал себя эстетический профессор Лотарио, который, поискав меня по всей комнате, сказал мейстеру:
– А где же ваш великолепный мосье Мур?
Для честного кошачьего бурша нет более позорного названия, чем роковое слово «мосье», но от эстетиков в мире многое терпят, и потому я прощаю профессору эту неприятность…
Мейстер Абрагам объяснил, что с некоторых пор я делаю все по-своему и по ночам редко бываю дома, вследствие чего кажусь усталым и слабым. Так и теперь: я только что лежал на подушке, и он положительно не понимает, куда я вдруг так быстро исчез.
– Я полагаю, – продолжал профессор, – я полагаю, мейстер Абрагам, что ваш Мур… но, может быть, он где-нибудь спрятался и подслушивает?.. Посмотрим-ка, где он.
Я тихонько попятился в глубину печки, но можно себе представить, как насторожил я уши, когда речь зашла обо мне. Профессор напрасно обыскал все углы к немалому удивлению хозяина, который воскликнул со смехом:
– Право, профессор, вы оказываете необыкновенную честь моему Муру!
– Ого, – отвечал профессор, – у меня не выходит из головы подозрение относительно педагогического эксперимента, посредством которого ваш кот превратился в писателя и поэта. Или вы забыли про сонет и рассуждение, похищенные моим Понто из лап вашего Мура? Но как бы то ни было, а я воспользуюсь отсутствием Мура, чтобы сообщить вам одно неприятное подозрение и настоятельно посоветовать вам внимательно следить за поведением Мура. Как ни мало занимаюсь я кошками, но от меня не укрылось, что многие коты, бывшие прежде очень приличными и вежливыми, теперь вдруг усвоили манеру, грубо противоречащую всем общепринятым обычаям и порядкам. Вместо того, чтобы смиренно изгибаться, как прежде, они сделались кичливы и дерзки, нисколько не боятся выказывать свою первобытную дикую натуру сверкающими взглядами и сердитым урчанием и даже показывают когти. Насколько мало заботятся они о спокойном и приличном поведении, настолько же мало заняты они и своей внешностью, не стараясь казаться благовоспитанными и светскими существами. Уже нет и речи ни о приглаживании усов, ни о придающем блеск лизаньи шерсти, ни об откусывании слишком длинных когтей. Взъерошенные и шершавые, бегают они с растрепанными хвостами, внушая ужас и отвращение всем благовоспитанным кошкам. Но что, по-видимому, наиболее достойно порицания и совсем не должно быть терпимо, так это их тайные сборища, устраиваемые по ночам, причем они предаются глупому занятию, которое называют пением; на самом деле это не более как бессмысленный крик, в котором нет ни настоящего такта, ни порядочной мелодии, ни гармонии. Боюсь, боюсь я, мейстер Абагам, что ваш Мур попал в худую компанию и принимает участие в недостойных увеселениях, которые могут принести ему только заслуженные побои. Мне было бы жаль, если бы труд, положенный вами на этого маленького серого господина, пошел даром, и вместо всяких наук он предался бы обыкновенной жизни простых завывающих котов!
Когда я увидел, как гнусно судят о моем дорогом друге Муциусе, у меня невольно вырвался болезненный крик.
– Что это? – воскликнул профессор. – Мур, очевидно, спрятался в комнате!.. Понто, allons[107], ищи, ищи!
Мгновенно Понто соскочил с подоконника и начал обнюхивать комнату. Перед печной заслонкой он остановился, зарычал, залаял и начал прыгать.
– Он в печке, это не подлежит сомнению! – сказал хозяин, открывая заслонку.
Я спокойно остался на месте, глядя на хозяина сверкающими, широко открытыми глазами.
– Действительно, он сидит в самой глубине печки! – воскликнул мейстер. – Ну, выходи сейчас оттуда!
Как ни мало желал я покинуть свое убежище, я должен был, однако, послушаться приказания хозяина, если не хотел допустить насилия над собой. Медленно выполз я из печки, но, едва показался на свет, профессор и хозяин воскликнули оба:
– Мур, Мур, на что ты похож! Это что за штуки!
Я был действительно весь в золе, и к этому присоединялось еще и то, что с некоторых пор моя наружность в самом деле сильно пострадала, так что я узнал себя в изображении схизматических котов, сделанном профессором; можно себе представить, какая жалкая фигура была у меня теперь. Сравнив эту жалкую фигуру с наружностью моего друга Понто, который был действительно хорош с своей видной, блестящей и красиво завитой шерстью, я, почувствовав глубокий стыд, печально и тихо забился в угол.
– Это ли приличный и благовоспитанный кот Мур! – воскликнул профессор. – Это ли изящный писатель и изобретательный поэт, пишущий сонеты и рассуждения?.. Нет, это самый обыкновенный кот, гуляющий с кошачьей бандой по крышам и только и умеющий, что ловить мышей на чердаках и в погребах. Скажи-ка мне, достопочтенный кот, скоро ли ты получишь ученую степень и взойдешь на кафедру с званием профессора эстетики? Хорошо докторское платье, в которое ты залез?
Так сыпались на меня насмешливые слова. Что оставалось мне делать, как не прижать к голове уши: так я делал обыкновенно в тех случаях, когда меня наказывали.
Наконец профессор и хозяин разразились громким смехом, пронизавшим насквозь мое сердце. Но едва ли не обиднее этого было для меня поведение Понто.
Он не только показывал всеми своими взглядами и движениями, что разделяет презрение своего господина, но прыжками в сторону открыто выражал страх подойти ко мне; вероятно, он боялся выпачкать свою красивую, чистую шкурку. Немалое испытание для кота, сознающего в себе такие совершенства, как я, выносить подобные обиды от какого-то щеголя пуделя.
Профессор пустился с хозяином в длинный разговор, не относящийся, по-видимому, ни ко мне, ни к моей породе, из которого я кое-что понял. Насколько я мог заметить, речь шла о том, что лучше: противиться ли открытой силой смутным и необузданным порывам экзальтированного юношества или же ограничивать их искусным и незаметным образом, развивая в нем самосознание, в котором эти порывы скоро сами уничтожаются. Профессор стоял за открытую силу, так как положение вещей требует для общего блага, чтобы всякий человек, несмотря на все его сопротивление, был сколь возможно рано вылеплен в форму, обусловливаемую целым по отношению к отдельным частям, иначе немедленно возникнет безобразное несоответствие, способное причинить всевозможные несчастия. При этом профессор говорил что-то непонятное для меня о выбрасывании в окошко и о провозглашении pereat (да погибнет!). По этому поводу хозяин сказал ему, что с молодыми экзальтированными душами бывает то же, что с сумасшедшими: открытое противодействие доводит их до еще большего безумия; если же привести их к сознанию их заблуждения, то они радикально излечиваются и никогда не возвращаются к прежнему.
– Ну, мейстер, – воскликнул наконец профессор, беря палку и шляпу, – что касается открытой силы против экзальтированных поступков, то вы согласитесь по крайней мере с тем, что она должна безжалостно вступать в свои права, когда эти поступки мешают жизни, а потому, возвращаясь к вашему коту, добавлю, что умные шпицы очень хорошо сделали, разогнав котов, которые зверски пели, да еще притом считали себя великими виртуозами.
– На это можно разно смотреть, – отвечал хозяин. – Если бы им предоставили петь, то, может быть, они и сделались бы тем, чем уже считали себя по заблуждению, то есть действительно превратились бы в хороших виртуозов, тогда как теперь они пока не знают настоящей виртуозности.
Тут профессор откланялся, и Понто побежал за ним, не удостоив меня даже прощальным поклоном, что он дружески делал прежде.
– Я и сам, Мур, был последнее время недоволен твоим поведением, – обратился ко мне хозяин, – пора тебе снова сделаться порядочным и разумным, чтобы заслужить лучшую репутацию, чем та, которой ты, по-видимому, пользуешься теперь. Если бы ты мог вполне меня понять, то я бы посоветовал тебе всегда быть приветливым и тихим и все предпринимаемое тобой совершать без всякого шума; таким образом всего легче заслужить добрую славу. В виде примера могу привести тебе двух людей, из которых один каждый день садится в укромный уголок и в тихом уединении выпивает одну бутылку вина за другой до тех пор, пока не дойдет до состояния полного опьянения, но посредством долгих практических упражнений он умеет, однако, так хорошо это скрывать, что никто об этом не подозревает. Другой же пьет изредка в обществе милых и веселых друзей; вино развязывает ему язык, он возбуждается и говорит много и горячо, не оскорбляя, однако, ни нравов, ни приличий, но именно его-то и называет свет страстным истребителем вина, тогда как тот, тайный пьяница, слывет за спокойного и умеренного человека. Ах, милый мой Мур, если бы ты знал свет, тебе бы ясно было, что филистер, постоянно протягивающий свои щупальцы, поступает лучше всех. Но как можешь ты знать, что такое «филистер», хотя и в твоей породе их, вероятно, довольно!
При этих словах хозяина я не мог удержаться от громкого и радостного чиханья и урчанья в сознании того совершенного знания котов, которое я приобрел как посредством уроков доброго Муциуса, так и личным своим опытом.
– Ага, Мур! – воскликнул со смехом хозяин. – Я, право, думаю, кот, что ты меня понимаешь. Пожалуй, профессор прав, подозревая в тебе особенный разум и боясь найти в тебе «эстетического» соперника.
Чтобы показать, что это действительно было так, я издал громкое и благозвучное «мяу» и без церемонии вскочил к хозяину на колени. Я не сообразил, что хозяин только что надел свой нарядный халат из желтого щелка с большими цветами и что я должен был запачкать его золой.
Сердито закричав: «Пошел вон!», хозяин так порывисто сбросил меня с себя, что я перекувыркнулся и, в страхе прижав уши и зажмурив глаза, скатился на пол.
Но каково же было добродушие моего хозяина!
– Ну-ну, – сказал он ласковым тоном, – я не хотел тебе зла, мой милый кот; я ведь знал, что у тебя были добрые намерения, – ты хотел показать мне свою привязанность, но сделал это глупым образом, а когда случается так, то уж никто не спрашивает про намерения. Ну, пойди сюда, мой маленький трубочист, нужно тебя почистить, чтобы ты снова принял вид порядочного кота.
Хозяин снял халат, взял меня на руки и не погнушался вычистить мою шкурку мягкой щеткой, а потом гладко причесать мне шерсть маленьким гребешком.
Когда туалет мой был кончен, и я начал гулять перед зеркалом, то я сам удивился тому, как я вдруг превратился в совершенно другого кота. Я не мог удержаться, чтобы не поурчать: так красив я себе показался, – и я не стану скрывать, что в эту минуту во мне зашевелились большие сомнения относительно необходимости и полезности клуба буршей. То, что я залез в печку, показалось мне сущим варварством, которое я мог приписать только какой-то одичалости, и мне совсем не нужно было предостережения хозяина, прикрикнувшего на меня:
– Не сметь больше залезать в печку!
На следующую ночь мне показалось, что я услышал за дверью легкое царапанье и громкое «мяу», которое было мне как будто знакомо. Я вскочил и спросил: «Кто там?» Мне ответил, как я сейчас же узнал по голосу, честный старшина Пуф:
– Это я, верный брат мой Мур, я должен сообщить тебе в высшей степени печальную новость.
– О боже, что…
(М. л.) – Я была очень неправа, моя милая, нежная подруга. Нет, ты для меня еще больше: моя верная сестра! Я мало тебя любила, мало тебе доверяла. Только теперь открою я тебе свое сердце, только теперь, когда я знаю…
Принцесса остановилась, из глаз ее брызнули потоки слез; она снова нежно прижала Юлию к сердцу.
– Гедвига, – мягко сказала Юлия, – разве ты прежде любила меня не всей душой? Разве у тебя были когда-нибудь тайны, которых ты не хотела мне доверить? Что ты узнала? Что ты теперь открыла? Но нет, нет! Ни слова больше до тех пор, пока снова твой пульс не начнет ровно биться и глаза твои не перестанут так мрачно гореть.
– Я не знаю, – сказала принцесса, внезапно приходя в раздражение, – чего вы все от меня хотите. Меня считают больной, а я никогда еще не чувствовала себя сильнее и здоровее. Вас напугал странный случай, бывший со мной, а между тем очень может быть, что эти электрические удары, приводящие в движение весь жизненный организм, мне необходимы; может быть, они полезнее всех средств, предлагаемых пустым и убогим искусством врачевания в его несчастном самообольщении. Как несносен мне этот лейб-медик, желающий управлять человеческой природой, точно перед ним часовой механизм, который можно вычистить и завести! Он наводит на меня ужас со своими каплями и эссенциями. И от этих вещей должно зависеть мое благо? Если так, то жизнь была бы страшной насмешкой над мировым разумом!
– Твое чрезмерное возбуждение как раз и показывает, что ты еще больна, милая Гедвига, – перебила принцессу Юлия, – и должна гораздо больше себя щадить, чем ты это делаешь.
– И ты хочешь терзать меня! – воскликнула принцесса. Порывисто вскочив, она подбежала к окну, открыла его и стала смотреть в парк.
Юлия последовала за ней, обняла ее одной рукой и с нежной грустью попросила ее хоть немного поберечься от резкого ветра и подумать о том покое, который лейб-медик считал для нее полезным. Принцесса отвечала ей, что именно эта холодная струя воздуха, идущая из окна, ее оживляет и укрепляет.
Тогда Юлия с глубоким чувством заговорила о недавнем прошлом, когда над ними властвовал какой-то грозный и мрачный дух, и о том, что нужно собрать все свои душевные силы, чтобы не поддаться этим событиям, вызывающим в ней чувство, которое можно сравнить только с смертельным страхом привидений. Сюда же относится и таинственное столкновение, происшедшее между принцем Гектором и Крейслером, заставляющее подозревать самые ужасные вещи, так как вполне очевидно, что бедный Иоганн мог пасть от руки мстительного итальянца и что он спасся только чудом, как уверяет мейстер Абрагам.
– И этот ужасный человек, – говорила Юлия, – должен был сделаться твоим мужем? Нет, никогда! Благодарение небу, ты спасена! Он не вернется. Никогда! Не правда ли, Гедвига? Ведь никогда?
– Никогда! – отвечала принцесса глухим, едва слышным голосом. Потом она глубоко вздохнула и заговорила тихо, точно во сне:
– Да, этот чистый небесный огонь должен только сиять и согревать, а не уничтожать губительным пламенем; из души художника сияет вызванная к жизни мечта, и она сама есть любовь! Так говорил ты здесь, на этом самом месте.
– Кто? – воскликнула пораженная Юлия. – Кто говорил это? О ком ты думаешь, Гедвига?
Принцесса провела рукой по лбу, как бы силясь вспомнить о настоящем. Потом она с помощью Юлии подошла к дивану и опустилась на него совершенно обессиленная. Обеспокоенная Юлия хотела позвать камеристок, но Гедвига мягко привлекла ее на диван и тихо прошептала:
– Нет, дорогая, ты должна остаться со мной; не думай, что я больна… Нет, это была только мысль о высочайшем блаженстве, сила которой хотела прорвать мою грудь, и небесный восторг принял вид убийственной боли. Останься со мной, милая девушка, ты сама не знаешь, какая удивительная волшебная власть у тебя надо мной! Дай я взгляну в твою душу, как в чистое, светлое зеркало, чтобы снова узнать себя самое! Юлия, мне часто кажется, что от тебя излучается небесное вдохновение, и слова из твоих нежных уст исходят как дыхание любви, как утешительное пророчество. Юлия, милая, останься со мной! Не оставляй меня никогда, никогда!..
Крепко держа Юлию за руки, принцесса вдруг упала навзничь с закрытыми глазами.
Как ни привыкла Юлия к минутам, когда Гедвига страдала от напряжения своего больного духа, но пароксизм, обнаружившийся теперь, показался ей совершенно непонятным и загадочным. Прежде оскорбляла в ней детские чувства страстная горечь принцессы, происходившая от несоответствия ее внутреннего чувства с жизнью и доходившая почти до ненависти. Теперь же Гедвига была, по-видимому, разбита скорбью и невыразимой печалью, и это безутешное состояние трогало Юлию. Жалость ее все увеличивалась по мере того, как возрастал страх за подругу.
– Гедвига, – воскликнула она, – о моя Гедвига! как могу я оставить тебя! Нет сердца, более преданного тебе, чем мое! Но только скажи же, скажи мне, доверься, какая мука терзает твою душу? И я буду с тобой скорбеть и плакать!
Тогда на лице Гедвиги появилась странная улыбка, нежная краска заиграла на ее щеках, и она прошептала, не открывая глаз:
– Не правда ли, Юлия, ведь ты не влюблена?
Смутное чувство охватило Юлию при этом вопросе принцессы: оно походило на жестокий страх.
В каком девичьем сердце не шевелится предчувствие страсти, которая составляет, по-видимому, главное условие женского существования, потому что только любящая женщина – настоящая женщина. Но чистая детская светлая душа заставляет дремать это предчувствие, не ища дальше и не желая в пустом любопытстве проникать в ту сладкую тайну, которая должна открыться только в минуту, обещанную нам невнятным стремлением. Так было и с Юлией, которая вдруг услышала то, о чем она не смела думать: в страхе, как бы застигнутая в каком-то неясном грехе, она силилась проникнуть в свою душу.
– Юлия, – повторила принцесса, – ты не любишь? Скажи мне, будь откровенна!
– Как странно, – ответила Юлия, – как странен твой вопрос; что могу, что должна я тебе ответить?
– Скажи же, скажи, – настаивала принцесса.
Солнечный свет проник в душу Юлии, и она нашла слова, чтобы выразить то, что она ясно увидела в своем сердце.
– Что за чувство руководит тобой, Гедвига? Зачем ты спрашиваешь меня об этом? – серьезно и твердо сказала Юлия. – О какой любви ты говоришь? Не правда ли, нужно чувствовать влечение к возлюбленному с такой непобедимой силой, чтобы только и жить мыслью о нем, чтобы отдать ему все свое «я», чтобы в нем одном было все наше стремление, надежда, желания, весь мир? И эта любовь должна достигнуть величайшей степени блаженства?.. У меня кружится голова от такой высоты, так как взор мой видит бездонную пропасть со всеми ужасами неизбежной гибели! Нет, Гедвига, такой любви, ужасной и греховной, мое сердце не знало, и я твердо верю, что оно всегда будет чисто и свободно от этого. Но случается также, что один мужчина из всех остальных вызывает в нас наибольшее уважение, и нас охватывает удивление перед огромной мужественной силой его духа. И даже более того: мы чувствуем, что в его присутствии в нас проникает какая-то сладкая, таинственная отрада, мы точно поднимаемся над самими собой, точно дух наш только тогда и пробуждается, и только тогда улыбается нам жизнь; мы бываем веселы, когда он является, и грустны, когда он уходит. Это ли зовешь ты любовью?.. Отчего же не признаться тебе, что исчезнувший Крейслер внушил мне такое чувство, и что я по нем горько тоскую?
– Юлия, – воскликнула принцесса, внезапно приподнимаясь и пронизывая ее горящим взором, – можешь ли ты представить его себе в объятиях другой, не чувствуя невыразимой муки?
Юлия покраснела и ответила тоном, показывающим, как сильно она была оскорблена:
– Никогда не представляла я себе его в моих объятиях.
– Ах, ты его не любишь, ты его не любишь! – воскликнула принцесса и снова упала на диван.
– О, – сказала Юлия, – о, если бы он вернулся! Невинно и чисто то чувство, которое питаю я к этому дорогому человеку, и если я никогда его не увижу, то мысль о нем незабвенном будет сиять в моей жизни чудной, светлой звездой. О, вероятно, он вернется! Иначе как же…
– Никогда, – прервала принцесса подругу резким, холодным тоном, – никогда не может и не должен он вернуться. Говорят, что он в канцгеймском аббатстве; он решил отказаться от мира в вступить в братство св. Бенедикта.
У Юлии навернулись на глазах слезы. Она молча встала и подошла к окну.
– Твоя мать права, – продолжала принцесса. – Да, она совершенно права! Хорошо, что исчез этот безумный, врывавшийся в нашу жизнь, как злой дух, и умевший так терзать наши души! Музыка была волшебным средством, которым он нас завлекал. Никогда больше не должна я его видеть.
Слова принцессы терзали Юлию, как удары кинжала; она схватила шляпу и шаль.
– Ты хочешь меня покинуть, мой нежный друг? – воскликнула принцесса. – Останься, останься! Утешь меня, если можешь! Над этими залами, над парком носится зловещий ужас! Узнай же…
И принцесса подвела Юлию к окну, показала на павильон, где жил прежде адъютант принца Гектора, и заговорила глухим голосом:
– Смотри, Юлия, эти стены скрывают ужасную тайну; кастелян и садовники уверяют, что с отъезда принца там никто не живет, что двери павильона крепко заперты, а между тем… О, смотри, смотри туда! Видишь там, в окне?
И действительно, Юлия увидала в окне, проделанном на фронтоне павильона, темную фигуру, которая в ту же минуту исчезла.
– Здесь, – сказала Юлия, чувствуя, как судорожно дрожала в ее руке рука Гедвиги, – нет никакой зловещей или необъяснимой тайны; наверное, кто-нибудь из слуг тайком пользуется пустым павильоном. Можно сейчас же обыскать павильон и узнать, откуда явилась фигура у окна.
Но принцесса ответила, что старый преданный кастелян давно уже сделал это по ее желанию и утверждает, что во всем павильоне нет никаких следов человека.
– Позволь мне рассказать тебе, что было здесь три ночи назад, – сказала принцесса. – Ты знаешь, что от меня часто бежит сон; тогда я встаю и до тех пор хожу по комнатам, пока мной не овладеет усталость, после чего я засыпаю. Случилось, что три ночи тому назад бессонница привела меня в эту комнату. Вдруг на стене задрожало отражение света; я взглянула в окно и увидала четырех человек; один из них нес глухой фонарь; они исчезли около павильона, но я не заметила, действительно ли они туда вошли. Вскоре осветилось это самое окно, и внутри замелькали тени. Потом снова стало темно, но вдруг через кусты засиял яркий свет, шедший, вероятно, из открытых дверей павильона. Свет все приближался, и наконец из кустов вышел бенедиктинский монах; он нес в правой руке факел, а в левой распятие. За ним шли четыре человека, неся на плечах гроб, завешенный черными покровами. Они прошли всего несколько шагов, и вдруг навстречу им выступила фигура, окутанная широким плащом. Они остановились, поставили на землю гроб. Человек, закутанный в плащ, снял покровы с гроба и открыл лицо мертвеца. Я едва не лишилась чувств, но все же видела, что люди подняли гроб и быстро пошли за монахом по узкой тропинке, которая выводит из парка на дорогу в Канцгеймское аббатство. С тех пор стала появляться в окне черная фигура, и, может быть, меня пугает призрак убитого.
Юлия склонна была счесть происшествие, рассказанное Гедвигой, за сон или за обманчивую игру расстроенного воображения. Кто же тот мертвец, которого вынесли при такой таинственной обстановке из павильона, где никого не было, и кто поверит, что этот неизвестный мертвец может являться в помещении, из которого его вынесли? Все это высказала Юлия принцессе и прибавила, что явление в окне можно приписать оптическому обману или же шутке старого мага – мейстера Абрагама, который нередко играет такими вещами и, может быть, превратил пустой павильон в место призраков.
– Ах, – улыбаясь сказала принцесса, к которой вернулось все ее самообладание, – как быстро находятся объяснения, когда дело идет о необыкновенном и сверхъестественном! Что же касается мертвеца, то ты забываешь о том, что случилось в парке, прежде чем нас оставил Крейслер.
– Боже мой! – воскликнула Юлия. – Неужели действительно совершилось ужасное дело? Но кто же и как?..
– Ты знаешь, – продолжала Гедвига, – ты ведь знаешь, что Крейслер жив. Но жив также и тот, кто в тебя влюблен. Не смотри же на меня с таким страхом! Разве ты раньше не подозревала? Я упоминаю об этом теперь для того, чтобы выяснить то, что могло бы тебя погубить, если бы это дольше скрывалось. Принц Гектор любит тебя, тебя, Юлия, – любит со всей дикой страстью, свойственной его нации. Я была и есть его невеста, а ты, Юлия, ты – его возлюбленная.
Последние слова принцесса произнесла особенным резким тоном, не придавая им, впрочем, выражения горечи.
– О праведное небо! – порывисто воскликнула Юлия, и из глаз ее брызнули слезы. – Гедвига, ты хочешь растерзать мое сердце! Какой мрачный дух вселился в тебя? Нет, нет, охотно снесу я, если ты, терзаемая злыми снами, хочешь вымещать все на мне несчастной, но никогда не поверю я в зловещего призрака! Гедвига, опомнись! Ты больше не невеста этого ужасного человека! Он явился нам как сама погибель! Он никогда не вернется, ты никогда не будешь ему принадлежать!
– Напротив, напротив! – возразила принцесса. – Опомнись ты, дитя! Только тогда, когда церковь соединит меня с принцем, быть может, кончится страшное недоразумение, делающее меня несчастной! Тебя спасает чудное предопределение неба. Мы разлучаемся, я следую за супругом, ты остаешься! – Принцесса смолкла, охваченная глубоким волнением; Юлия тоже не могла произнести ни слова; обе молча упали друг другу на грудь, обливаясь слезами.
Доложили, что подан чай. Юлия находилась в волнении, не свойственном ее спокойному и ясному нраву. Она не могла оставаться в обществе, и мать охотно позволила ей пойти домой, так как принцесса тоже нуждалась в покое.
На расспросы княгини фрейлен Нанетта ответила, что принцесса прекрасно чувствовала себя весь день и весь вечер, но пожелала остаться вдвоем с Юлией. Насколько она могла заметить, находясь в соседней комнате, принцесса и Юлия рассказывали друг другу разные истории, шутили и то смеялись, то плакали.
– Милые девушки! – тихо проговорил гофмаршал.
– Прелестная принцесса и милая девушка! – поправил князь, делая большие глаза на гофмаршала.
Испугавшись своей страшной ошибки, тот хотел разом проглотить кусок сухаря, размоченного в чае, но кусок застрял у него в глотке, гофмаршал разразился страшным кашлем и должен был оставить зал; он спасся от позорной смерти удавленника только тем, что находившийся поблизости гоффурьер исполнил на его спине своим опытным кулаком хорошо составленное соло для барабана.
После двух неловкостей, в которых он провинился, гофмаршал боялся сделать третью и потому не пожелал вернуться в зал, но просил извиниться за него перед князем, сославшись на внезапную болезнь.
За отсутствием гофмаршала расстроилась партия виста, в который обычно играл князь.
Когда приготовили игорные столы, все напряженно ждали, что сделает князь в этом критическом случае. Он же сделал только то, что, когда по его знаку остальные принялись за игру, взял руку советницы Бенцон, подвел ее к дивану и попросил сесть, причем сам поместился рядом.
– Мне было бы очень прискорбно, – сказал он тихим и мягким тоном, каким всегда говорил с Бенцон, – если бы гофмаршал подавился сухарем. Но, по-видимому, как я уже заметил, он сегодня рассеян; он назвал в конце концов девушкой принцессу Гедвигу и потому был бы невозможен в висте. Мне же именно сегодня, дорогая Бенцон, особенно желательно и приятно вместо игры перекинуться с вами, как прежде, в уединении несколькими словами. Ах да, как прежде! Вам одной известна моя привязанность к вам, дорогая! Она никогда не изгладится, княжеское сердце всегда останется верно вам, если только неотвратимые обстоятельства не потребуют иного.







