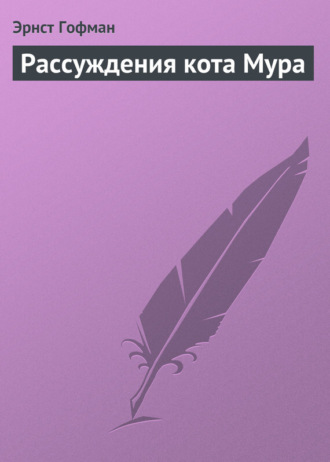
Эрнст Теодор Амадей Гофман
Рассуждения кота Мура
– Прекрасная, – начал я тихо, – будь моею!
– Отважный кот, – отвечала она смущенно, – кто ты и знаешь ли ты меня? Если ты так же правдив и прямодушен, как я, то скажи и поклянись, что ты меня действительно любишь!
– О, – воскликнул я вдохновенно, – клянусь всеми силами ада, священной луной и всеми звездами и планетами, которые появятся ночью, если небо будет благоприятно, – клянусь, что я люблю тебя!
– И я тебя тоже, – прошептала малютка и в нежной стыдливости склонила ко мне голову.
Я хотел обнять ее от всего сердца.
Тогда с адским ворчаньем наскочили на меня два гигантских кота. Они жестоко меня избили, исцарапали и вдобавок еще толкнули под желоб, где меня окатило грязной водой. Я насилу спасся от когтей кровожадных животных, не обращавших внимания на мое состояние, и, громко крича от страха, взбежал на лестницу.
Когда меня увидел хозяин, он воскликнул с громким смехом:
– Мур, Мур, на что ты похож! Ха-ха! Я понимаю, что случилось. Ты хотел делать то же, что кавалер, бродящий по саду любви, и вот что из этого вышло!
При этом, к немалой моей досаде, хозяин опять разразился громким смехом. Затем он налил в лоханку тепловатой воды, без церемонии окунул меня в нее несколько раз, так что я потерял зрение и слух от чиханья и фырканья, потом крепко завернул меня в фланель и положил в корзинку. Я почти лишился чувств от ярости и боли и не мог двинуть ни единым членом. Но понемногу тепло начало на меня приятно действовать, и мысли мои пришли в порядок.
– О, – жаловался я, – какое горькое испытание! Так вот она, любовь, которую я воспевал с прекрасным вдохновеньем! Вот оно, блаженство, наполняющее нас невыразимой негой и возвышающее до небес! Ах, они меня столкнули в водосточный желоб! Я отрекаюсь от чувства, которое приносит только побои, отвратительную ванну и невыносимое пребывание в презренной фланели! Но едва я почувствовал себя здоровым и свободным, как образ Мисмис опять неотступно встал у меня перед глазами, и, несмотря на весь свой позор, я с ужасом должен был признать, что я все еще влюблен. Я взял себя в руки и, как разумный и ученый кот, начал читать Овидия, так как отлично помнил, что в «Ars amandi»[58] были также рецепты против любви. Я прочел стихи:
Venus otia amat. Qui finem quaeris amoris,
Cedit amor rebus, res age, tutus eris[59].
С новым рвением погрузился я в науки, следуя этому предписанию, но Мисмис прыгала перед моими глазами на каждой странице; я думал, читал и писал только об одной Мисмис! «Автор разумеет, вероятно, другие занятия», – подумал я, и так как я слышал от других котов, что мышиная охота – необыкновенно приятное развлечение, то могло быть, что под словом rebus подразумевалось также и это. Для этого я отправился в погреб, как только стемнело, и ходил по темным переходам, напевая:
Дубравой темной крался я, курок ружья взведен.
И вот, вместо дичи, которую я хотел травить, увидал я ее прекрасный образ, выступивший из темноты. При этом мука любви пронзила мое слишком легко восприимчивое сердце.
Я сказал:
– Обрати на меня твои прекрасные взоры, о девственное утреннее солнце! Мур и Мисмис будут счастливыми, как жених и невеста.
Так говорил я, радостный кот, надеясь получить награду за победу. О бедный! Пугливая кошка умчалась, зажмурив глаза.
И так-то все сильней и сильней разгоралась моя любовь, которую точно на пагубу мне зажгла в моем сердце враждебная мне звезда. Яростно негодуя на свою судьбу, бросился я опять к Овидию и прочел следующие стихи:
Exige quod cantet, siqua est sine voce puella;
Non didicit chordas tangere, posce lyram[60].
– О, – воскликнул я, – к ней, к ней, на крышу!
Я буду искать мою нежную красавицу там, где увидел ее впервые, но она должна петь, и, если я услышу хоть одну фальшивую ноту, все пройдет, и я буду здоров и свободен. Небо было ясно, и луна, которою я клялся в любви прекрасной Мисмис, показалась как раз в то время, когда я ступил на крышу. Я ждал ее, и мои вздохи громко выражали муку любви.
Наконец я запел песню на самый печальный мотив; в ней говорилось приблизительно следующее:
Шумящие сени, журчащий ручей,
Ласкающий звоном игривых зыбей,
Вы все мне внемлите!
Скажите, скажите,
Мисмис, дорогая, куда вдруг ушла,
Нежданно сразивши жестокой разлукой?
Где дивная фея приют обрела?
Где скрыться могла?
Утешьте кота, удрученного мукой!
Скажи мне, луна,
О, где же она,
Невинный младенец и чудо созданья?
Ничто не излечит от злого страданья!
Мой мудрый советчик, мой верный оплот,
Страдавший от терний
Любовных мучений,
Спаси, умоляет истерзанный кот.
Вы видите, любезный читатель, что хороший поэт может не находиться ни в шумящем лесу, ни у журчащего ручья, и все же его будут касаться игривые зыби, и в них увидит он то, что захочет, и поэтому может воспеть все, что ему угодно. Если кто-нибудь будет слишком удивляться высокому совершенству этих стихов, я скромно замечу ему на это, что я был в экстазе и вдохновлялся любовью, а всем известно, что всякий, схвативший любовную лихорадку, если даже его рифмы бывают обыкновенно не лучше «муки» и «разлуки», «любовь» и «вновь» или еще хуже, внезапно делается поэтом и производит прекраснейшие стихи, подобно тому, как схвативший насморк разражается неудержимым чиханьем. Этому экстазу прозаических натур обязаны мы очень многим, и вследствие этого нередко бывало, что человеческие Мисмисы, не замечательные своей красотой, добивались на некоторое время большой славы. Но если это случается с сухим деревом, то что же должно быть со свежим? Я хочу сказать, что если и собачьи прозаики превращаются посредством любви в поэтов, то что же должно быть с настоящими поэтами в этот период их жизни?.. Итак, я сидел не в шумящем лесу и не у журчащего ручья, а на гладкой, высокой крыше; лунный свет был почти не в счет, – и все же я умолял в этих мастерских стихах лесные сени, ручеек и, наконец, моего друга Овидия прийти на помощь моей любовной тоске. Мне было немного трудно подыскивать рифмы к названию моей породы; обыкновенного слова «отец» я не мог поместить даже в минуту вдохновения. То, что я приискал рифмы, доказало мне еще раз преимущество моей породы над человеческой. К слову «человек» (Mensch), сколько мне известно, совсем нет рифмы, и потому, как заметил какой-то игривый драматург, человек (Mensch) – не рифмующее животное. Я же, напротив, рифмующее[61].
Недаром издавал я звуки, полные болезненной тоски, недаром заклинал леса, ручьи и лунный свет привести мне царицу моих мыслей: из-за трубы легкими, грациозными шагами вышла моя красавица.
– Это ты так прекрасно поешь, милый Мур? – воскликнула Мисмис, увидя меня.
– Как, – ответил я в приятном изумлении, – ты меня знаешь, прелестное созданье?
– Ах, – сказала она, – конечно! Ты понравился мне с первого раза, и мне было очень грустно видеть, как мои неучтивые родственники столкнули тебя…
– Оставим это, – прервал я ее, – не будем говорить об этом, милое дитя. О, скажи мне, скажи, любишь ли ты меня?
– Я справлялась о твоем положении, – продолжала Мисмис, – и узнала, что тебя зовут Мур и что ты не только роскошно помещен у одного доброго человека, но сверх того пользуешься всеми удобствами жизни и мог бы разделить их с нежной супругой. О, я очень люблю тебя, добрый Мур!
– О небо! – воскликнул я в величайшем восторге. – О небо! Возможно ли это? Что это, сон или действительность? О, удержись, удержись, мой разум! Неужели я еще на земле и сижу на крыше? Не витаю ли я в облаках? Неужели я – кот Мур, а не человек с луны? Приди ко мне на грудь, о возлюбленная! Но сначала, красавица, скажи мне твое имя!
– Меня зовут Мисмис, – с милой стыдливостью прошептала малютка и села рядом со мной.
О, как прекрасна была она! Ее белая шкурка отливала серебром при лунном свете. Ее зеленые глазки горели мягким, стыдливым огнем.
– Ты…
(М. л.) …конечно, мог бы, любезный читатель, узнать это несколько раньше, но дай бог, чтобы мне не пришлось больше прыгать в сторону, как я делал это доселе.
Итак, как уж было сказано выше, с отцом принца Гектора случилось то же самое, что с князем Иринеем: сам не зная – как, он выронил из кармана свою земельку. Принц Гектор, который был менее всего расположен к спокойной и мирной жизни, все же не пал духом, когда из-под него вытащили княжеское кресло, и хотел если не управлять, то по меньшей мере командовать.
Он поступил на французскую службу и был необыкновенно храбр, но, услышав от какой-то певицы: «Ты знаешь край, где зреют апельсины», – отправился в тот край, где зреют эти плоды, то есть в Неаполь, и вместо французской формы надел неаполитанскую.
Он так быстро сделался генералом, как это может случаться только с принцами. Когда умер отец принца Гектора, князь Ириней открыл большую книгу, где он собственноручно записывал все княжеские роды в Европе, и отметил смерть своего высокого друга и товарища по несчастью. После этого он долго смотрел на имя принца Гектора, затем очень громко воскликнул: «Принц Гектор!» – и так шумно захлопнул книгу, что испуганный гофмаршал попятился на три шага. Потом князь встал и начал медленно ходить по комнате, причем вынюхал столько испанского табаку, что его достало бы для приведения в порядок целого моря мыслей. Гофмаршал долго говорил ему о счастливом господине, обладавшем не только большим, но и прекрасным сердцем, то есть о юном принце Гекторе, обожаемом в Неаполе и монархом, и народом, и т. д. Князь Ириней, казалось, ничего этого не слышал. Он вдруг остановился прямо против гофмаршала, посмотрел на него страшным фридриховским взглядом и очень сурово сказал:
– Peut être[62], – и скрылся в соседнюю комнату.
– Боже мой! – сказал гофмаршал. – Светлейший князь возымел, вероятно, замечательную мысль, а может быть – даже и планы.
И это действительно было так. Князь Ириней думал о богатстве принца и о его сношениях с сильными мира сего; он уверил себя в том, что принц Гектор непременно променяет шпагу на скипетр, и ему пришло на ум, что брак принца с принцессой Гедвигой мог бы иметь самые важные последствия. Камергер, тотчас же посланный к принцу от лица князя для выражения сожаления по случаю смерти его отца, должен был под строжайшей тайной везти в кармане миниатюрный портрет принцессы, удавшийся даже в отношении цвета шеи. Нужно заметить, что принцессу действительно можно было бы назвать красавицей, если бы ее шея имела менее желтый отлив. Поэтому принцесса очень выигрывала при свечах.
Камергер исполнил тайное поручение князя, который не сообщал своих намерений даже княгине. Когда принц увидал портрет, он пришел почти в такой же восторг, как его сиятельный коллега в «Волшебной флейте». Подобно Тамино, он мог бы если не пропеть, то сказать: «Какое чудо красоты!» и затем прибавить: «Я поражен, я удивлен! Да, да, я, кажется, влюблен!»
Обыкновенно не одна любовь заставляет принцев стремиться к прекрасному, но принц Гектор не имел, кажется, никаких посторонних соображений, когда писал князю Иринею, что был бы в восхищении, если бы мог просить руки и сердца принцессы Гедвиги.
Князь Ириней отвечал, что он очень рад этому браку, которого желает от всего сердца, хотя бы в уважение к памяти своего умершего высокопоставленного друга, и потому не нужно никакого дальнейшего сватовства. Но так как необходимо соблюсти форму, то принц мог бы послать в Зигхартсвейлер какого-нибудь достойного человека приличного звания, уполномоченного им совершить бракосочетание по прекрасному старинному обычаю.
На это принц отвечал:
– Я приеду сам, ваше высочество!
Князю это было не по сердцу. Ему казалось, что венчание с уполномоченным было бы красивее, торжественнее и величавее, он уже заранее радовался этому празднику, и его успокоило только то, что перед венчанием будет большое торжество с орденом. Он хотел самым торжественным образом надеть на принца большой крест ордена их дома, который учредил его отец и которого не носил и не мог носить ни один из других рыцарей.
Итак, принц Гектор явился в Зигхартсвейлер, чтобы увезти принцессу Гедвигу и получить большой крест ордена, потерявшего свое значение. Ему нравилось то, что князь держал свое намерение в тайне; он просил его пребывать в этом молчании и в особенности не говорить ничего Гедвиге, так как хотел убедиться в ее любви, прежде чем начать сватовство.
Князь не мог хорошенько понять, что принц хотел этим сказать, и полагал, что, насколько ему известно, эта форма, то есть уверенность в любви перед венчанием, никогда не была в употреблении в княжеских домах. Если принц понимает под этим обнаружение некоторой привязанности, то ведь этого не должно быть до брака; но так как легкомысленная молодежь склонна перескакивать через все, касающееся этикета, то указанные чувства можно выяснить за три минуты до обручения. Как прекрасно-возвышенно было бы, если бы в эту минуту жених и невеста выказали друг к другу отвращение! К несчастью, впрочем, подобные правила высшего тона считаются в новейшие времена пустыми бреднями.
Когда принц Гектор впервые увидел Гедвиг у, он шепнул своему адъютанту на непонятном для всех неаполитанском диалекте:
– Клянусь небом, она прекрасна, но рождена близ Везувия, и его огонь горит в ее глазах.
Принц Игнатий очень кстати осведомился о том, есть ли в Неаполе красивые чашки и сколько их у принца Гектора. Проделав всю гамму приветствий, принц Гектор хотел снова обратиться к Гедвиге, но тут открылись двери, и князь пригласил принца взглянуть на величавую сцену, которую он приготовил в парадном зале, собрав большое общество, которое весьма мало подходило ко двору. На этот раз он был менее строг в выборе, чем обыкновенно, так как зигхартсвейлерский кружок в это время был на загородной прогулке. Бенцон и Юлия, однако, присутствовали.
Принцесса Гедвига была спокойна, сдержанна и безучастна. Она, по-видимому, не больше обращала внимания на прекрасного чужестранца с юга, чем на всякое другое новое лицо при дворе. Принцесса с неудовольствием спрашивала у краснощекой Нанетты, не сошла ли она с ума, когда та шептала ей на ухо, что иностранный принц удивительно хорош собой и она никогда в жизни не видала такой красивой формы.
Принц Гектор распустил перед Гедвигой пестрый, блестящий павлиний хвост своей любезности, а она расспрашивала его об Италии, о Неаполе, почти оскорбленная его преувеличенной слащавостью.
Отвечая, принц изобразил ей рай, в котором она была бы господствующим божеством. Он мастерски владел искусством говорить с дамами: все превращалось в гимн, восхваляющий их красоту и прелесть. Но среди этого гимна принцесса вдруг вскочила и бросилась к Юлии, стоявшей поблизости. Она прижала ее к своему сердцу, называя тысячью нежнейших имен и восклицая, что это – ее дорогая сестра, чудная, нежная Юлия. Тут подошел принц, несколько удивленный бегством Гедвиги. Он остановил на Юлии долгий и странный взгляд, так что та все больше краснела и наконец опустила глаза, а затем с беспокойством обернулась к матери, которая стояла за ней. Но принцесса еще раз обняла ее и воскликнула:
– Дорогая, милая Юлия! – причем на глазах у нее выступили слезы.
– Принцесса, принцесса, – тихо сказала Бенцон, – зачем такая неровность в поведении?
Но принцесса обратилась к принцу, у которого разом исчезло все красноречие, и если раньше она была спокойна, сурова и неприветлива, то теперь впала в странную, судорожную веселость. Слишком туго натянутые струны вдруг ослабели, и мелодии, звучавшие из глубины ее души, стали теперь мягче, нежнее и девственнее. Она была любезнее, чем когда-либо, и принц казался совсем очарованным. Наконец начались танцы. Принц вызвался показать неаполитанский национальный танец, и ему вскоре удалось прекрасно передать его танцующим, так что все шло очень хорошо и даже удачно был уловлен нежно-страстный характер танца.
Но никто не мог уловить этот характер лучше Гедвиги, которая танцевала с принцем. Она потребовала повторения, а после второго раза захотела начать танец в третий раз, не обращая внимания на увещания Бенцон, которая уже видела на ее лице зловещую бледность. Принцесса уверяла, что только теперь он может ей вполне удаться. Принц был в восторге. Он носился с Гедвигой, каждое движение которой было сама грация. В одной из многих запутанных фигур, составлявших танец, принц страстно прижал к груди свою прекрасную даму, но в ту же минуту Гедвига упала без чувств к нему на руки.
Князь нашел, что нельзя представить более неприличного случая на придворном балу, и только итальянское происхождение принца могло служить ему извинением…
Принц Гектор сам перенес бесчувственную Гедвигу в соседнюю комнату и положил ее на софу, где Бенцон стала тереть ей виски каким-то сильным средством, бывшим под рукой у лейб-медика. Впрочем, лейб-медик сказал, что обморок – не более как нервный припадок, происшедший вследствие возбуждения от танца, и должен скоро пройти.
Медик был прав: через несколько секунд принцесса открыла глаза с глубоким вздохом. Когда принц заметил, что принцесса очнулась, он ворвался в толпу дам, окружавших Гедвигу, стал на колени перед софой и горько жаловался на то, что он один виноват в этом случае, терзающем его сердце.
Но как только принцесса увидала его, она закричал с отвращением:
– Прочь, прочь! – и снова упала в обморок.
– Пойдемте, милейший принц, – сказал князь, беря за руку принца, – вы не знаете, что принцесса часто страдает престранными фантазиями. Боже мой, воображаю, какой странной показалась она вам в эту минуту. Представьте себе, любезнейший принц, что когда она была еще ребенком, то, entre nous soit dit[63], она один раз целый день принимала меня за Великого Могола и требовала, чтобы я ходил в атласных туфлях, на что я наконец согласился, хотя ходил только по саду.
На это принц Гектор без церемонии расхохотался князю в лицо и велел подать себе экипаж.
По желанию княгини Бенцон должна была остаться во дворце вместе с Юлией, чтобы ухаживать за принцессой. Княгиня знала, какое сильное нравственное влияние оказывала та на принцессу, а также знала и то, что это влияние смягчало обыкновенно болезненные припадки принцессы. Гедвига скоро оправилась у себя в комнате под влиянием неутомимых и кротких увещаний Бенцон. Принцесса уверяла, что во время танцев принц превратился в чудовищного дракона и уколол ее в сердце своим пылающим острым языком.
– Боже мой, – воскликнула Бенцон, – да ведь в таком случае принц Гектор – не что иное, как monstro turchino[64] из гоцциевской басни. Что за воображение!
В конце концов выйдет то же, что с Крейслером, которого вы сочли за страшного сумасшедшего!
– Никогда! – порывисто воскликнула принцесса и прибавила со смехом: – Я бы вовсе не хотела, чтобы мой милый Крейслер так же внезапно превращался в monstro turchino, как принц Гектор.
Когда на другое утро Бенцон, которая провела ночь с принцессой, вошла в комнату Юлии, та вышла ей навстречу бледная, усталая, с опущенной головой, точно больная голубка.
– Что с тобой, Юлия? – со страхом воскликнула Бенцон, не привыкшая видеть дочь в таком состоянии.
– Ах, мама, – печально сказала Юлия, – никогда больше не приду я сюда, у меня сердце переворачивается, когда я подумаю об этой ночи. В этом принце есть что-то ужасное; я не могу рассказать тебе, что было у меня на душе, когда он посмотрел на меня. В зловещих темных глазах его вспыхнула убийственная молния, которая чуть не превратила меня в пепел. Не смейся надо мной! Это был взгляд убийцы, намечающего свою жертву, которую он убьет одним страхом, прежде чем вонзит в нее кинжал; да, я повторяю, какое-то совсем незнакомое чувство, которого я не могу назвать, прошло, точно судорога, по всему моему телу. Я слышала о василисках, взгляд которых, как ядовитая огненная стрела, мгновенно убивает всякого, кто осмелится на них посмотреть. Принц похож на это страшное чудовище.
– Ну, – смеясь, воскликнула Бенцон, – мне в самом деле придется думать, что басня о monstro turchino не лишена основания, так как принц, несмотря на всю свою красоту и любезность, представляется двум девушкам драконом и василиском. Я привыкла к безумным фантазиям принцессы, но если моя спокойная, тихая Юлия, мое милое дитя, тоже вздумает предаваться нелепым грезам…
– А Гедвига? – прервала Юлия мать. – Я не знаю, какая злая, враждебная сила оторвала ее от моего сердца, а меня толкает на борьбу со страшной болезнью, которая свирепствует в ее сердце. Да, я называю болезнью состояние принцессы, которое бедняжка не могла побороть. Когда она вчера вдруг отвернулась от принца и начала меня ласкать и обнимать, я чувствовала, что она горела, как в огне. А потом этот танец, этот ужасный танец! Ты знаешь, как я ненавижу танцы, в которых позволяется мужчинам нас обнимать. Мне кажется, что в эту минуту мы забываем все, чего требуют приличия, и допускаем мужчинам такую власть над собой, которая должна быть неприятна хотя бы тем из них, у кого есть деликатные чувства. И вдруг Гедвига танцует без конца этот южный танец, который все больше и больше внушал мне отвращение. В глазах принца сверкала ужасная, дьявольская радость!
– Дурочка, – сказала Бенцон, – все это тебе только кажется! Однако я не стану осуждать твои взгляды, ты можешь их сохранить, но не будь несправедлива к Гедвиге; вообще же не думай больше ни о ней, ни о принце, выбрось это из головы. Если хочешь, я позабочусь о том, чтобы некоторое время ты не видала ни Гедвиги, ни принца. Твой покой не должен быть нарушен! Подойди ко мне, мое милое, доброе дитя! – И мать обняла Юлию с величайшей нежностью.
– Мама, – сказала Юлия, пряча пылающее лицо на груди матери, – может быть, те странные сны, которые меня расстроили, можно приписать ужасному беспокойству моей души?
– Что же ты видела? – спросила Бенцон.
– Мне казалось, – начала Юлия, – что я хожу по прекрасному саду, где цветут ночные фиалки и розы, и их нежный запах наполняет воздух. Странный блеск вроде лунного света переходил в звуки и песни, и когда он касался золотыми лучами цветов и деревьев, они содрогались от восторга, листья шелестели, а ручьи издавали тоскливые, тихие вздохи. Тогда я почувствовала, что я сама – та песня, которая неслась через сад, и, как только погаснет блеск звуков, я сама изойду в болезненной скорби. Но тут чей-то нежный голос сказал: «Ведь звук есть блаженство, а не уничтожение; я крепко держу тебя сильными руками, и в тебе покоится моя песня, которая вечна, как мечтание». Передо мной стоял Крейслер и говорил эти слова. В душу мою сошло небесное чувство надежды и успокоения, и я, сама не знаю – как, – я уж все скажу тебе, мама, – я упала к нему на грудь. Тогда я вдруг почувствовала, что меня крепко обхватила железная рука и ужасный насмешливый голос воскликнул: «Зачем ты противишься, несчастная? Ведь ты уже убита и будешь теперь моей!» Это были голос и рука принца. Я громко закричала и проснулась. Тогда я накинула ночной капот, подошла к окну и открыла его, так как в комнате было жарко и душно. Вдали увидала я человека, который смотрел в подзорную трубу на окна дворца, но потом побежал по аллее каким-то странным, можно сказать даже глупым, образом: он выделывал какие-то антраша и танцевальные па, воздевал руки к небу и при этом громко пел. Я узнала Крейслера. Его поведение меня рассмешило, но в то же время он представился мне благодетельным духом, который защитит меня от принца. Как будто только тут стала мне ясна душа Крейслера, и я увидела, что шутовская, насмешливая манера, которая многих оскорбляет, исходит из самого лучшего и верного чувства. Мне захотелось побежать в парк и рассказать Крейслеру обо всех ужасах моего страшного сна.
– Это очень глупый сон, а продолжение еще глупее! – серьезно сказала Бенцон. – Тебе нужен покой, Юлия, поспи немного, я тоже думаю поспать часа два.
И она вышла из комнаты, а Юлия поступила так, как ей было сказано.
Когда она проснулась, утреннее солнце ярко светило в окно, и сильный запах роз и ночных фиалок разливался по комнате.
– Что это, – с удивлением воскликнула Юлия, – мой сон?
Она осмотрелась и увидала, что через спинку дивана, на котором она спала, был перекинут прекрасный букет из роз и ночных фиалок.
– Крейслер, мой милый Крейслер, – тихо сказала Юлия, взяла букет и мечтательно задумалась.
Принц Игнатий прислал спросить, нельзя ли ему на часок повидаться с Юлией.
Юлия оделась и поспешила в комнату, где ждал ее принц с корзинкой фарфоровых чашек и китайских куколок. Добренькая Юлия по целым часам играла с принцем, который внушал ей глубокое сострадание. У нее не вырывалось ни одного обидного или насмешливого слова, как это часто случалось с другими, особенно с принцессой Гедвигой, и потому общество Юлии необыкновенно нравилось принцу, и он даже часто называл ее своей маленькой невестой. Чашки и куколки были расставлены, и Юлия держала речь от имени маленького арлекина к японскому императору, причем обе куклы стояли друг против друга. В эту минуту вошла Бенцон.
Некоторое время она смотрела на игру, потом поцеловала Юлию в лоб и сказала:
– Ты – мое милое, доброе дитя!
Наступили сумерки. Юлия, которая, по желанию матери, не должна была показываться за обедом, сидела одна в своей комнате и ждала мать. Но вот послышались тихие шаги, отворилась дверь, и вошла принцесса, вся в белом, смертельно бледная, с остановившимся взглядом, точно привидение.
– Юлия, – сказала она глухим и тихим голосом, – Юлия, называй меня глупой, распущенной, сумасшедшей, но не закрывай от меня своего сердца, так как мне нужны твоя жалость и твое утешение. Я была просто больна от возбуждения и утомления; виноват этот отвратительный танец, но теперь все прошло, и мне лучше. Принц уехал в Зигхартовейлер. Мне хочется на воздух, погуляем по парку.
Когда Юлия с принцессой были уже в конце аллеи, сквозь чащу засиял яркий свет, и они услышали приятное пение.
– Это вечерняя литания в капелле св. Марии! – воскликнула Юлия.
– Да, – сказала принцесса, – пойдем туда, помолимся! Помолись и за меня тоже, Юлия!
Юлия была глубоко огорчена состоянием подруги.
– Мы будем молиться, – сказала она, – чтобы никогда злой дух не властвовал над нами, чтобы наше чистое, светлое чувство никогда не нарушалось враждебным вмешательством.
Когда девушки подошли к капелле, которая была на дальнем конце парка, оттуда выходили крестьяне, певшие литанию перед образом св. Марии, разукрашенным цветами и освещенным лампами. Подруги опустились на колени. Тогда небольшой хор, стоявший в стороне алтаря, начал петь гимн «Ave, Maris Stella»[65], недавно сочиненный Крейслером.
Гимн начался тихо, затем раздавался все громче и громче до слов «dei mater alma»[66] и, замирая в словах «felix coeli porta»[67], уносился на крыльях вечернего ветра. Девушки стояли на коленях, глубоко погруженные в свои мысли. Священник шептал молитвы, а издали, точно хор ангельских голосов, звучащий из облаков ночного неба, раздавался гимн «О sanctissima»[68], который пели те же певцы.
Наконец священник благословил молящихся. Тогда девушки встали и упали друг другу в объятия. Неизъяснимая грусть, в которой были и горе, и радость, непобедимо рвалась из их сердец; горячие слезы, которые брызнули из их глаз, были не что иное, как капли крови, лившейся из их истерзанных сердец.
– Это был он, – прошептала принцесса.
– Да, он, – ответила Юлия.
Они поняли друг друга.
В неподвижном молчании ждал лес, когда поднимется луна и пронижет его своим трепетным золотом.
А хорал, продолжавший звучать в темноте ночи, казалось, поднимался навстречу пламеневшим облакам, которые раскинулись через горы, обозначая путь сияющей планеты, перед которой бледнели звезды.
– Ах, – сказала Юлия, – что же нас так волнует и наполняет наши души печалью? Послушай, каким утешением звучит вдали этот хорал. Мы помолились, и из золотых облаков говорят с нами светлые духи небесного блаженства.
– Да, моя Юлия, – серьезно и твердо отвечала принцесса, – оттуда веет на нас блаженством и святостью; я бы хотела, чтобы небесный ангел отнес меня к звездам, прежде чем овладеют мной мрачные силы. Я бы хотела умереть, но я знаю, что меня положат в княжеском склепе, и предки, которые там покоятся, не поверят, что я умерла, они пробудятся от смертного сна к ужасной жизни и повлекут меня за собой. И тогда я не принадлежала бы ни к живым, ни к мертвым и нигде не нашла бы покоя.
– Что ты говоришь, Гедвига? Боже мой, что ты говоришь? – в испуге воскликнула Юлия.
– Я уже видела это во сне, – сказала принцесса тем же твердым, почти равнодушным голосом. – А что если какой-нибудь страшный предок сделался в могиле вампиром и сосет мою кровь? Может быть, оттого и бывают у меня обмороки.
– Ты больна, – воскликнула Юлия, – ты очень больна, Гедвига! Тебе вреден ночной воздух, пойдем скорее назад.
Она обняла принцессу, которая молча ей покорилась.
Месяц высоко поднялся над Гейерштейном, освещая волшебным блеском кусты и деревья, которые шумели и шелестели на тысячи ладов, разговаривая с ночным ветром.
– Разве не хорошо на земле? – сказала Юлия. – Разве не творит перед нами природа своих дивных чудес, как мать для любимых детей?
– Ты думаешь? – возразила принцесса и, немного помолчав, продолжала: – Я бы не хотела, чтобы ты меня вполне поняла, и прошу тебя считать мои слова следствием дурного настроения. Ведь ты еще не знаешь разрушительных житейских страданий. Природа жестока, она ласкает и бережет только здоровых детей, больных она покидает и грозит их существованию ужасным оружием. Ведь ты знаешь, что прежде природа казалась мне картинной галереей, сделанной для того, чтобы упражнять силы духа и тела, но теперь все стало иначе: я чувствую и предвижу одни только страдания. Мне было бы легче в освещенном зале, среди разнообразного общества, чем оставаться с тобой наедине в эту лунную ночь.
Юлии стало страшно; она заметила, что Гедвига все больше и больше ослабевала, так что Юлия должна была напрягать все свои силы, чтобы поддерживать подругу.
Наконец они достигли дворца. Недалеко от него на каменной скамейке под кустом бузины сидела темная фигура. Увидев ее, Гедвига радостно вскрикнула:
– Благодарение пречистой и всем святым, это она!
Принцесса вдруг точно ожила и, отделившись от Юлии, пошла навстречу фигуре, которая поднялась и проговорила глухим голосом:
– Гедвига, мое бедное дитя!
Юлия увидала, что это была женщина, с головы до ног закутанная в темные одежды; густая тень не позволяла рассмотреть черты ее лица.
Юлия остановилась, вся трепеща от страха.
Женщина и принцесса опустились на скамейку. Женщина осторожно отодвинула ото лба Гедвиги ее локоны, потом положила на него руки и медленно и тихо заговорила на языке, незнакомом для Юлии. Через несколько минут женщина громко сказала Юлии:







