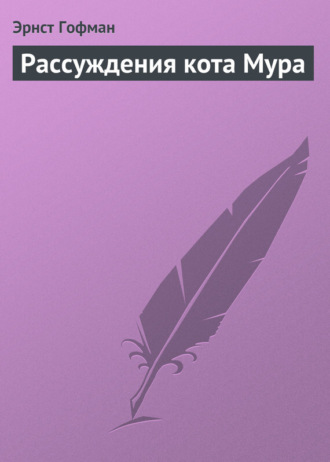
Эрнст Теодор Амадей Гофман
Рассуждения кота Мура
Тогда Бенцон быстро повернулась к мейстеру и порывисто сказала:
– Как, мейстер Абрагам, вы ведь не так глупы, чтобы верить в исчезновение Крейслера? Что же доказывает кровавая шляпа? И что могло так внезапно заставить его решиться на такой страшный поступок, как самоубийство? Ведь его бы тогда тоже нашли.
Немало удивило мейстера, что Бенцон говорит о самоубийстве, когда, по-видимому, можно было подозревать нечто совсем другое; но прежде, чем он собрался отвечать, советница продолжала:
– Счастье для нас, что здесь нет больше этого несчастного, который всюду, где он появляется, приносит одни только бедствия. Его страстная натура, его озлобленность, – я не могу иначе назвать его хваленый юмор, – уязвляет всякое нежное чувство, с которым он заводит свою ужасную игру. Если насмешливое презрение ко всем условным отношениям, наперекор всем обычным формам, доказывает умственное превосходство, то все мы должны стоять на коленях перед этим капельмейстером, но пусть лучше он оставит нас в покое и не восстает против всего, что установлено верными взглядами настоящей жизни и признано основанием нашего счастья. Да, да, я благодарю небо за то, что его больше здесь нет, и надеюсь, что никогда больше его не увижу.
– Однако, госпожа советница, – мягко проговорил мейстер, – вы были когда-то другом моего Иоганна, вы приняли в нем участие в очень критическое время его жизни и даже направили его на поприще, от которого отвратили его те самые условные отношения, которые вы так горячо защищаете. В чем же вы теперь обвиняете моего доброго Крейслера? Что же он сделал дурного? Можно ли его ненавидеть за то, что, когда случай бросил его в новую сферу, жизнь сразу вступила с ним во вражду? Виноват ли он в том, что ему грозила гибель, или в том, что его подстерег итальянский бандит?
При этих словах г-жа Бенцон вздрогнула.
– Какая адская мысль зародилась в вашей голове, мейстер Абрагам? – сказала она дрожащим голосом. – Но если бы это было и так, если бы Крейслер действительно погиб, то вместе с тем была бы отомщена и невеста, которую он погубил. Какой-то тайный голос говорил мне, что в страшном состоянии принцессы виноват один только Крейслер. Безжалостно натягивал он нежные струны чувств нашей больной, и вот наконец они порвались.
– Но итальянский господин был очень решителен, – ядовито ответил мейстер Абрагам, – он предпослал свое мщение. Вы ведь слышали, многоуважаемая, что мы говорили с князем в рыбачьем домике, и потому знаете также и то, что принцесса Гедвига впала в столбняк в ту самую минуту, как в лесу раздался выстрел.
– Право, – сказала Бенцон, – можно поверить во все химерические странности, которыми нас теперь угощают, уверовать в соответствие душ и т. п. И все-таки хорошо, что его здесь нет; состояние принцессы может и должно измениться, судьба изгнала нарушителя нашего покоя, а ведь сами вы знаете, мейстер Абрагам, что душа нашего друга так растерзана, что в жизни он не мог бы найти покоя; признайтесь же, что…
Но советница не кончила; гнев мейстера Абрагама, с трудом подавлявшийся им до сих пор, вспыхнул с внезапной силой.
– Что? – воскликнул он громовым голосом. – Почему все вы против Иоганна? Что он вам сделал дурного? Почему вы не хотите даже оставить ему на земле свободное место? Вы не знаете почему? Так я скажу вам. Дело в том, что Крейслер не носит ваших цветов и не понимает ваших речей, и тот стул, который вы ему подставляете, желая, чтобы он сидел среди вас, ему слишком узок и мал. Вы не можете считать его равным, и это вас злит. Он не хочет признавать вечности договоров, которые вы заключили в жизни, и думает, что то безумие, на которое вы поймались, мешает вам видеть настоящую жизнь, а та торжественность, с которой вы будто бы управляете неизвестным вам царством, смешна; вы же называете это озлобленностью. Больше всего любит он шутку, которая происходит от глубокого понимания человеческой натуры и может назваться прекраснейшим даром природы, зарождаясь в чистейшем источнике ее жизни. Но вы, важные и серьезные люди, вы не хотите шутить. В нем живет дух настоящей любви, но мог ли он согреть сердце, которое навеки застыло в неподвижности, где никогда не было и искры, которую дух этот мог бы превратить в пламя! Вам неприятен Крейслер потому, что вам невыносимо то превосходство, какое вы в нем невольно видите; вы боитесь его, видя, что он занимается возвышенными вещами, которые не идут к вашему узкому кругозору.
– Мейстер, – сказала Бенцон глухим голосом, – мейстер Абрагам, горячность, с какой ты защищал друга, завела тебя слишком далеко. Ты хотел меня уязвить, и это тебе удалось, потому что ты разбудил во мне мысли, которые давно-давно уже спали! Ты говоришь, что сердце мое застыло? А знаешь ли ты, слыхало ли оно когда-либо приветливый голос любви, и в одних ли только условных житейских отношениях, которые презирал необузданный Крейслер, находила я покой и утешение? Или не знаешь ты, старик, видавший столько страданий, какая опасная вещь подниматься выше этих отношений и желать приблизиться к духу мира, обманывая себя самого? Я знаю, что Крейслер считает меня самой холодной, прозаической женщиной, и когда ты говоришь, что сердце мое застыло, то устами твоими говорит его мнение; но проникали ли вы когда-нибудь сквозь этот лед, который давно уже служит мне спасительным панцырем? Если для мужчины любовь не составляет жизни, а есть только вершина, с которой идут во все стороны более прямые пути, то наш высочайший и светлый пункт – это момент первой любви, создающий и образующий всю нашу жизнь. Если враждебная судьба сомнет этот момент, то вся жизнь слабой женщины испорчена и навеки лишена смысла; но женщина с более сильной душой борется, побеждает себя и даже в самых обыденных житейских отношениях находит нечто, дающее ей мир и покой. Выслушай меня, старик, я могу сказать тебе это в ночной темноте, благоприятной признаниям! Когда наступил этот момент в моей жизни, когда я увидела того, кто зажег во мне весь пламень глубокой любви, на который способно женское сердце, я стояла перед алтарем с тем самым Бенцоном, который после был мне прекрасным мужем. Его полная незначительность давала мне все, чего я могла пожелать, чтобы вести спокойную жизнь, и ни одна жалоба, ни один упрек не вылетели из моих уст. Я вращалась только в среде обыденной жизни, и если даже и в этой среде происходило многое, что незаметно вело меня к заблуждению, и многое, что могло казаться предосудительным, я могу извинить это только увлечением мимолетной встречи, и пусть прежде осудит меня та женщина, которая выдержала подобно мне трудную борьбу, ведущую к отречению от всякого более высокого счастья, даже если оно – не более, как сладкая, безумная греза. Со мной познакомился князь Ириней… Но я умолчу о том, что давно уже было, – здесь будет речь только о настоящем. Мейстер Абрагам, я позволила тебе заглянуть в мою душу; ты знаешь теперь, отчего я могу считать опасным вторжение всякого чуждого, экзотического принципа. Моя собственная судьба в ту роковую годину моей жизни стоит передо мной как страшный предостерегающий призрак. Я должна спасти тех, кто мне дорог, и у меня есть свои планы. Не противьтесь мне, мейстер; если же вы хотите вступить со мною в борьбу, то знайте наперед, что я сумею расстроить ваши лучшие фокусы!
– Несчастная женщина! – воскликнул мейстер Абрагам.
– Ты называешь меня несчастной, – возразила Бенцон, – меня, которая сумела побороть враждебный жребий и найти покой и удовлетворение там, где, казалось, уже все потеряно?
– Несчастная женщина! – воскликнул мейстер Абрагам тоном глубокого волнения. – Бедная, несчастная женщина!.. Ты думаешь, что нашла покой и удовлетворение, и не подозреваешь того, что отчаяние заставило извергнуться из души твоей вулкан, пламеневший лавой. В своем тупом оцепенении ты принимаешь за роскошное поле жизни, которое еще принесет тебе плод, один лишь мертвый пепел, на котором не вырастет больше ни почки, ни цветка! Ты хочешь возвести искусственное здание на краеугольном камне, раздробленном молнией, и не боишься, что оно обрушится в тот момент, когда веселые пестрые ленты будут развеваться вокруг венка, возвещая победу строителя. Юлия, Гедвига… Я знаю, что для них составляются планы! Несчастная женщина! Берегись, чтобы то беспокойное чувство и то озлобление, которые ты несправедливо приписываешь моему Иоганну, не оказались на дне твоего собственного сердца. Что же такое означают тогда твои мудрые замыслы, как не враждебное сопротивление тому счастью, которого ты никогда не испытала и которое ты хочешь отнять у твоих близких? Я знаю больше, чем ты думаешь, о твоих замыслах, о твоих хваленых житейских отношениях, которые должны были принести тебе покой и привели тебя к позорным поступкам!
Глухой, неясный стон, вырвавшийся у Бенцон при этих словах мейстера, выдал ее глубокое смущение. Мейстер подождал ответа, но так как Бенцон молчала, не двигаясь с места, он продолжал:
– У меня нет ни малейшего желания вступать с вами в борьбу; что же касается моих так называемых фокусов, то вам хорошо известно, многоуважаемая госпожа советница, что с тех пор, как меня покинула моя невидимка… – В эту минуту мысль об утраченной Кьяре охватила мейстера с небывалой силой; ему показалось, что он видит в темной дали ее образ, что он слышит ее нежный голос. – О Кьяра, дорогая Кьяра! – воскликнула он в порыве безутешной тоски.
– Что с вами? – сказала Бенцон, быстро оборачиваясь к нему. – Что с вами, мейстер Абрагам? Какое имя произнесли вы?.. Но я повторяю: оставим прошедшее, не судите меня сообразно тем странным взглядам на жизнь, которые вы разделяете с Крейслером, обещайте мне не злоупотреблять доверием, которое подарил вам князь Ириней, обещайте мне не противиться моим действиям.
Мейстер Абрагам был так погружен в свои печальные думы о Кьяре, что едва слышал слова советницы и отвечал ей невнятно.
– Не отталкивайте меня, мейстер Абрагам, – продолжала советница. – Как видно, вы действительно знаете больше, чем я смела ожидать, но возможно, что и я знаю тайны, узнать которые было бы для вас очень важно; быть может, я окажу вам дружескую услугу, о которой вы и не подозреваете. Будем вместе управлять этим маленьким двором, который в самом деле нуждается в помочах. Вы с такой тоской воскликнули: Кьяра!..
Сильный шум, раздавшийся во дворце, заставил Бенцон остановиться. Мейстер Абрагам пробудился от грез; шум…
(М. пр.) …сказать вам следующее. Кошачий филистер даже при сильной жажде начинает с того, что облизывает блюдечко с молоком, чтобы не замочить себе морды и усов, и всегда остается благопристойным, так как благопристойность для него важнее жажды. Если придешь к коту-филистеру, то он угостит тебя и будет уверять в своей дружбе, а после съест потихоньку один лучшие припрятанные кусочки. Кошачий филистер посредством особого такта умеет найти себе и на земле, и в погребе, и везде самое хорошее место, на котором он помещается так удобно и превосходно, как только можно! Он много говорит о своих добрых качествах и благодарит бога за то, что судьба не просмотрела этих добрых качеств. Он пространно объяснит тебе, как добился того хорошего места, которое занимает, и перечислит то, что он намерен предпринять, чтобы улучшить свое положение. Если же ты захочешь наконец сказать ему что-нибудь о себе и о своей жизни, то кот-филистер сейчас же зажмуривает глаза, поджимает уши и делает вид, что он спит или урчит. Кот-филистер прилежно лижет свою шкуру, делая ее блестящей и гладкой, и даже на мышиной охоте на каждом шагу встряхивает свои лапы в сырых местах; таким образом, если дичь и будет от этого потеряна, то сам он останется во всех случаях жизни изящным, порядочным и хорошо одетым котом. Кошачий филистер боится малейшей опасности; если же его ближний находится в беде и требует его помощи, то он уверяет священнейшими клятвами дружбы, что именно в эту минуту его положение, по известным соображениям, этого не допускает. Вообще все действия и поступки кошачьего филистера во всех случаях жизни зависят от тысячи соображений. Даже по отношению к маленькому мопсу, очень чувствительно укусившему его хвост, он остается вежливым и приличным, чтобы не поссориться с дворовой собакой, протекцией которой он сумел заручиться, и только в ночное время позволяет он себе выцарапать глаз мопсу. Через день после этого он от души жалеет дорогого друга мопса и разглагольствует о злобе коварных врагов. Вообще его соображения похожи на хорошо устроенную лисью нору, которая дает возможность кошачьему филистеру выскочить из нее в ту самую минуту, как думают его схватить. Кошачий филистер всего охотнее остается у милой печки; свободная крыша причиняет ему головокружение. Вы видите, друг мой Мур, что это касается и вас. Если же я скажу вам теперь, что кошачий бурш откровенен, честен, неэгоистичен, сердечен, всегда готов помочь другу, что ему чужды все соображения, кроме чести и правды, – словом, что кошачий бурш есть антипод кошачьего филистера, то вы, несомненно, сумеете отделаться от филистерства и сделаться настоящим добрым кошачьим буршем.
Я живо почувствовал истину слов друга Муциуса. Я увидел теперь, что не знал только слова «филистер», самый же характер был мне знаком, так как я не раз встречал филистеров, т. е. плохих малых из котов. Тем более почувствовал я свое заблуждение, поддавшись которому, мог бы попасть в категорию презренных существ, и я решил во всем следовать советам Муциуса в надежде сделаться таким образом добрым буршем. Один молодой человек говорил однажды моему хозяину о каком-то неверном друге и охарактеризовал его очень странным и непонятным для меня словом. Он назвал его напомаженным малым. Мне казалось теперь, что прозвище «напомаженный» очень подходит к слову «филистер», и я спросил об этом друга Муциуса. Но едва произнес я слово «напомаженный», как Муциус подпрыгнул с радостным видом и, горячо обнявши меня, воскликнул:
– Дорогой мой, я вижу, что ты меня отлично понял! Да, «напомаженный филистер» – это и есть то презренное существо, которое противоположно благородным кошачьим буршам и которое мы отовсюду хотели бы изгнать. Да, друг Мур, у тебя уже есть истинное чутье всего благородного и великого, позволь мне еще раз прижать тебя к груди, в которой бьется верное немецкое сердце.
Здесь друг Муциус еще раз меня обнял и сказал, что в эту же ночь он думает свести меня в собрание буршей, только бы я был в полночь на крыше, откуда он возьмет меня с собой на праздник, даваемый кошачьим старшиной по имени Пуф.
В комнату вошел хозяин. Я по обыкновению пошел навстречу ему и начал кататься на полу, выражая этим мою радость. Муциус также глядел на него с довольным видом. Немного пощекотав меня по голове и по шее, хозяин осмотрел комнату и, увидав, что все в порядке, сказал:
– Вот это хорошо, вы проводили время спокойно и мирно, как подобает благовоспитанным людям, – это заслуживает награды!
Тут хозяин пошел к двери, которая вела в кухню, а мы с Муциусом, поняв его доброе намерение, пошли за ним, издавая самые приветливые «мяу, мяу». Хозяин действительно открыл кухонный шкап и достал остовы и косточки двух молодых кур, мясо которых он ел накануне. Известно, что моя порода считает кухонные косточки одним из самых лакомых блюд, и поэтому понятно, что глаза Муциуса разгорелись ярким огнем, и он начал самым приятным образом вертеть хвостом и громко урчать в то время, как хозяин ставил перед нами на пол тарелку. Памятуя о напомаженном филистере, я отдал другу Муциусу лучшие куски, как-то: шейки, спинки и грудки, а сам удовольствовался более грубыми косточками от крыльев и ножек. Когда мы покончили с курами, я хотел спросить друга Муциуса, не пожелает ли он чашку молока; но, не упуская из вида напомаженного филистера, я, ничего не сказав, вытащил чашку, которая, как мне было известно, стояла под шкапом, и приветливо пригласил Муциуса вылакать ее вместе со мной, причем я пил за его здоровье. Муциус дочиста вылакал чашку, потом пожал мне лапу и сказал со слезами на глазах:
– Друг Мур, у вас лукулловский стол, но вы выказали верное и благородное сердце; итак, суетные удовольствия не приведут вас к гнусному филистерству. Благодарю, душевно благодарю вас!
Мы распростились, крепко пожав друг другу лапы по старинному немецкому обычаю. Вероятно, желая скрыть глубокое волнение, вызвавшее на глаза его слезы, Муциус быстрым отчаянным прыжком выскочил через открытое окно на ближайшую крышу. Даже я, наделенный природой удивительно-сильными мышцами, подивился смелому прыжку и при этом удобном случае еще раз похвалил в душе нашу породу, состоящую из природных гимнастов, не нуждающихся ни в мачтах, ни в трапециях.
Кроме того, друг Муциус показал мне на себе, как часто под грубой, отталкивающей наружностью скрывается нежное и глубокое сердце.
Я вернулся в комнату хозяина и лег под печку. Здесь в одиночестве я представил себе, какую окраску имело до тех пор мое существование, обдумал мое недавнее настроение, оценил всю мою жизнь и ужаснулся при мысли о том, как близок я был к падению; несмотря на свою взъерошенную шерсть, друг Муциус представился мне в ту минуту прекрасным спасительным ангелом. Я твердо решил вступить в новый мир, восполнить пустоту своей души и сделаться другим котом; сердце мое билось робким и радостным ожиданием.
Было еще далеко до полуночи, когда я попросил хозяина меня выпустить, произнеся обычное в таких случаях «мяу».
– С большим удовольствием, Мур, с большим удовольствием! – сказал он, отворяя дверь. – Из вечного лежанья и спанья под печкой не может выйти ничего хорошего. Иди, иди, побывай в обществе своих; может быть, ты встретишь родственных тебе по духу юных котов, которые будут забавляться с тобой между делом и шуткой!
Ах, хозяин верно понял, что для меня начинается новая жизнь! Когда я дождался полуночи, явился друг Муциус, повел меня по разным крышам, и, наконец, на одной почти плоской, итальянской крыше нас встретили громкими ликующими криками десять статных молодых котов, так же небрежно и странно одетых, как Муциус. Он представил меня друзьям, похвалил мои качества, мои верные и честные понятия, особенно же выставил на вид то, как я радушно угостил его жареной рыбой, куриными костями и молоком, и закончил тем, что я желал бы сделаться добрым кошачьим буршем. Все дали свое согласие.
Затем начались некоторые торжественные церемонии, о которых я умолчу, так как благосклонные читатели моей породы могли бы заподозрить, что я вступил в какой-нибудь запрещенный орден, и сочли бы, пожалуй, долгом потребовать меня к ответу. Я могу, однако, заверить, с полным чистосердечием, что не было и речи о каком бы то ни было ордене и его атрибутах, как-то: о статутах, тайных знаках и т. д. Наше общество основывалось только на общности мнений. Вскоре оказалось, что всякий из нас предпочитает молоко воде и жаркое хлебу.
После церемоний я получил от каждого кота братский поцелуй и пожатие лапы, и все начали говорить мне «ты». Затем мы уселись за простую, но веселую трапезу, вслед за которой началась попойка. Муциус сделал великолепный кошачий пунш. Если какой-нибудь лакомка юный кот захочет узнать рецепт этого дорогого напитка, то я, к сожалению, не могу дать ему для этого достаточных указаний. Я знаю только, что изысканность его вкуса и удивительная крепость достигаются посредством сильной примеси селедочного рассола.
Громким голосом, разносившимся далеко по крышам, запел старшина Пуф прекрасную песню: Gaudeamus igitur[80]. С наслаждением чувствовал я себя и наружно и внутренно настоящим juvenis (юношей), вовсе не желая думать о tumulus (могиле), так как жестокая судьба редко посылает нам спокойную и тихую смерть. Потом пелись другие прекрасные песни, как, например, «Пускай политики болтают» и т. д., и наконец старшина Пуф ударил по столу своей увесистой лапой и объявил, что теперь будут петь настоящую священную песню, т. е. Ессе quam bonum![81], и сейчас же запел гимн, начинавшийся этими словами.
Я никогда еще не слышал этой песни, которая может назваться удивительной и таинственной как по глубокой обдуманности композиции, так и по верности мелодии и гармонии. Насколько мне известно, хозяин ее не знает, но многие приписывают эту песню великому Генделю, другие же уверяют, что она существовала гораздо раньше генделевских времен и, по вюртембергским хроникам, ее пели еще тогда, когда принц Гамлет был студентом. Но безразлично, кто ее сочинил, – произведение это велико и бессмертно; особенно же интересно то, что вставленные в хор соло дают певцам простор для самых приятных и неистощимых изменений. Некоторые из этих изменений, слышанные мною в ту ночь, я сохранил в своей памяти.
Как только кончился хор, черный с белым кот запел следующее:
Род собачий нам претит,
Все в нем досаждает:
Шпиц вертится и визжит,
Пудель громко лает!
Хор:
Ессе quam… и т. д.
После него запел серый кот:
Вон филистер свой колпак
Вежливо снимает,
И услужливый дурак
Тотчас отвечает!
Хор:
Ессе quam… и т. д.
Потом запел желтый:
Рыбы плавают в воде,
Птицы же летают,
Не достать нам их нигде,
Пусть себе летают!
Хор:
Ессе quam… и т. д.
Потом запел белый:
И мяукать, и урчать,
И мурлыкать можно,
Только когти выпускать
Надо осторожно!
Хор:
Ессе quam… и т. д.
Потом запел друг Муциус:
Обезьяны на свой лад
Нас судить желают,
Пусть носы свои крутят,
Благо – не кусают!
Хор:
Ессе quam… и т. д.
Я сидел рядом с Муциусом, и теперь наступила моя очередь. Все соло, спетые до меня, до такой степени не походили на те стихи, которые я сочинял, что я со страхом и с беспокойством думал о том, что не сумею попасть в тон. От этого произошло, что хор смолк, а я все еще молчал. Уже некоторые подняли стаканы, восклицая: «Pro poena!»[82], но тут я собрал все свои силы и запел так:
Лапа с лапой, заодно
Дружно все сомкнемся,
Мы филистерам назло
Буршами зовемся!
Хор:
Ессе quam… и т. д.
Моя вариация имела необычайный успех. Великодушные юноши с криком бросались ко мне, заключали меня в свои лапы и прижимали к своим бьющимся сердцам. Итак, здесь тоже признали мою высокую гениальность. Это была одна из лучших минут моей жизни. Затем провозгласили восторженное «ура» в честь многих великих и знаменитых котов, – в особенности тех, которые, несмотря на свою знаменитость, удалялись от всякого филистерства и доказали это и словом, и делом. После этого мы расстались.
Пунш немного ударил мне в голову: мне казалось, что крыши колеблются, я едва мог держаться на ногах с помощью хвоста, который употреблял я в виде шеста, поддерживающего равновесие. Заметив мое состояние, верный Муциус принял во мне участие и счастливо довел меня до дома через слуховое окно.
Чувствуя в голове необычайную тяжесть, я долго не мог…
(М. л.) …я знал это не хуже самой проницательной г-жи Бенцон, но сердце мое не чувствовало, что именно сегодня я получу о тебе весть, моя верная душа!
Так говорил мейстер Абрагам, запирая в выдвижной ящик своего письменного стола нераспечатанное письмо, на конверте которого он с радостным удивлением узнал руку Крейслера; заперев письмо в стол, он отправился в парк. У мейстера Абрагама с давних пор образовалась привычка по целым часам, а иногда даже и дням, оставлять нераспечатанными те письма, которые он получал.
– Если содержание письма безразлично, – говорил он, – то замедление неважно; если в нем есть неприятная новость, то я выиграю еще несколько веселых или по меньшей мере спокойных часов; если же есть радостное известие, то степенный человек может и подождать того момента, когда радость схватит его за горло.
Эту привычку мейстера Абрагама следует осудить, так как человек, оставляющий письма непрочитанными, не годится ни в купцы, ни в газетчики; кроме того, ясно, что от этого может произойти много неудобств и для тех людей, которые не состоят купцами или газетчиками. Что касается настоящего биографа, то он не верит в стоическое равнодушие Абрагама, но скорее приписывает его привычку известному страху перед тайной закрытого письма. Получать письма – это совсем особое удовольствие, и поэтому нам бывают особенно милы те лица, с помощью которых мы получаем это удовольствие, а именно – почтальоны, как уже заметил где-то один остроумный писатель. Тут проявляется нечто вроде приятной мистификации собственной особы. Биограф помнит, как однажды, когда он был в университете и ждал с тоской письма от одного милого существа, он со слезами на глазах просил почтальона, чтобы тот скорее доставил ему письмо из родного города, и обещал ему дать за это большую награду. Плут с хитрым видом обещал сделать то, что от него требовалось; когда же вскоре пришло письмо, то принес его с таким торжествующим видом, точно это зависело только от сказанного им слова, и получил обещанную награду. Но биограф, который сам, быть может, слишком склонен к такого рода мистификациям собственной особы, не знает, похож ли ты на него, любезный читатель, и будешь ли ты испытывать вместе с радостью известный страх, который во время открывания письма заставит биться твое сердце даже и в том случае, если вполне ясно, что письмо не может заключать в себе чего-либо для тебя важного. Быть может, то самое чувство, которое сжимает нашу грудь, когда мы смотрим в неизвестное будущее, шевелится в нас и при получении письма, и именно оттого-то, когда достаточно легкого нажатия пальцев, чтобы открыть сокровенное, этот последний момент вызывает в нас такую тревогу. И потом… сколько сладких надежд было разбито этой роковой печатью! Самые дивные грезы, рождавшиеся в нашей душе из пылких стремлений, разлетались в прах, причем маленький лист бумаги играл роль волшебного заклинания, от которого увядали цветы роскошного сада, по которому мы бродим в мечтах, и жизнь представлялась нам угрюмой, печальной пустыней! Не кажется ли нам, что лучше собрать свои мысли прежде, чем легкое нажатие пальцев раскроет замкнутую тайну? И этим самым можно, пожалуй, извинить странную привычку мейстера Абрагама, происхождение которой следует приписать также и тому роковому времени, когда почти всякое письмо, которое он получал, походило на ящик Пандоры, откуда при всяком вскрытии вылетали на свет божий тысячи бед и несчастий. Но если мейстер Абрагам запер в свой письменный стол письмо капельмейстера и затем отправился гулять в парк, то читатель должен сейчас же дословно узнать его содержание. Вот что писал Иоганн Крейслер:
«Дорогой мейстер,
«La fin couronne l’oeuvre!»[83] – вот что мог бы я воскликнуть, как лорд Клиффорд в шекспировском «Генрихе Шестом», когда его осудил на смерть благороднейший герцог Йоркский. Клянусь богом, моя простреленная шляпа полетела в кусты, а за ней и я сам, как некто, про кого принято говорить в бою: «он падает» или «он упал». Но нередко случается, что такие люди опять встают на ноги. То же сделал и ваш Иоганн, дорогой мейстер, и притом сейчас же. Я не мог позаботиться о моем тяжело раненном товарище, упавшем даже не рядом со мной, а с моей головы, так как был слишком занят тем, чтобы искусным скачком в сторону (я беру здесь слово скачок[84] не в философском и не в музыкальном, а просто в гимнастическом смысле) увернуться от дула пистолета, который кто-то держал за три шага от меня. Но я сделал больше того, т. е. внезапно перешел от оборонительного к наступательному движению, бросился на стрелка и без дальнейших рассуждений проткнул его насквозь моей шпагой. Вы всегда упрекали меня, мейстер, в том, что я слаб в историческом стиле и не способен рассказать что-либо без лишних фраз и отступлений. Что скажете вы о связном изложении моего итальянского приключения в зигхартсгофском парке, управляемом таким кротким и возвышенным князем, который терпит даже разбойников, – вероятно, ради приятного разнообразия?
Дорогой мейстер, примите то, что сказано было до сих пор, как беглый конспект исторической главы, которую я хочу написать вам вместо настоящего письма, если это позволят мне мое терпение и господин приор. Немного можно прибавить к моему приключению в лесу. Как только раздался выстрел, мне сделалось ясно, что воспользоваться им должен я, так как, падая, я почувствовал жгучую боль в левой стороне моей головы, которую гонионесмюльский конректор справедливо называл крепколобой. Мой череп действительно оказал сильное сопротивление гнусному свинцу, так что рана оказалась самая легкая. Но скажите мне, дорогой мейстер, скажите сейчас, или нынче вечером, или хоть завтра утром: чье тело пронизал мой клинок? Мне было бы очень приятно узнать, что пролитая мною кровь принадлежит не какому-нибудь обыкновенному смертному, а принцу; я подозреваю, что это так и было. О мейстер, неужели случай действительно привел меня к делу, на которое толкал меня злой дух у вас в рыбачьем домике? Быть может, когда я махал этой маленькой шпагой, она предназначалась против убийцы, как страшный меч Немезиды, карающей кровавый грех?.. Пишите мне обо всем, мейстер, и прежде всего о том, какое приключение было с тем оружием, которое вы дали мне в руки, т. е. с маленьким портретом. Но нет, нет, не говорите мне ничего об этом! Пусть это изображение Медузы, перед лицом которой замирает самый дерзкий злодей, останется для меня неразгаданной тайной. Мне кажется, что этот талисман потеряет свою силу, как только я узнаю, какие обстоятельства превратили его в волшебное оружие. Поверите ли, мейстер, что я ни разу даже не смотрел как следует на этот портрет? Когда придет время, вы скажете мне все, что мне следует знать, и я отдам талисман обратно в ваши руки. Итак, пока ни слова об этом! Но будем продолжать мою историческую главу.
Когда я проткнул своей шпагой вышеупомянутого неведомого стрелка и он упал, не произнеся ни звука, то сам я убежал, как быстроногий Аякс, так как, слыша в парке какие-то голоса, все еще считал, что я в опасности. Я думал попасть в Зигхартсвейлер, но заблудился в ночной темноте. Я бежал все скорее и скорее, все еще надеясь напасть на настоящую дорогу.
Я прыгал через канавы, взбежал на крутой холм и наконец, обессилев, упал в кустах. Мне показалось, что прямо перед моими глазами блеснула молния, я почувствовал острую боль в голове и пробудился от глубокого сна. Из раны моей вытекло много крови; с помощью носового платка я сделал себе перевязку, которая могла бы сделать честь самому искусному военному хирургу на поле битвы, и весело осмотрелся вокруг. Неподалеку от меня возвышались могучие развалины какого-то замка. Вы замечаете, мейстер, что, к немалому своему удивлению, я очутился на Гейерштейне. Рана моя не болела, я чувствовал себя свежим и бодрым и вышел из кустов, послуживших мне спальней. Восходящее солнце бросало на поля и на лес сверкающие лучи, подобные веселому утреннему привету; птицы просыпались в кустах, щебеча, купались в прохладной росе и реяли в воздухе. Далеко подо мной лежал Зигхартсгоф, еще окутанный ночным туманом, но скоро пелена с него спала, и показались кусты и деревья, залитые пламенным золотом. Озеро в парке походило на ослепительно сверкающее зеркало; рыбачий домик виднелся в виде маленькой белой точки, и, кажется, я рассмотрел даже мост. Весь вчерашний день встал передо мной, но только в виде давно прошедшего времени, от которого не осталось ничего, кроме тоски о чем-то навеки утраченном, что в одно и то же время раздирает душу и наполняет ее сладостной негой. «Что же ты хочешь этим сказать, забавник, и что ты навеки утратил в этот давно прошедший вчерашний день?» – так говорите вы, мейстер, я слышу ваш голос. – Ах, мейстер, еще раз становлюсь я на высокую вершину Гейерштейна, еще раз простираю руки, наподобие орлиных крыльев, чтобы спуститься туда, где царили сладкие чары, где любовь вне времени и пространства, вечная, как мировой дух, явилась ко мне в пророчески небесных звуках, которые есть само желанье и само жаждущее стремление! Я знаю, прямо перед моим носом становится некий чертовски голодный оппонент, возражающий только ради земного насущного, и спрашивает меня насмешливым тоном: «Возможно ли, чтобы у звука были темно-синие глаза?» Но я положительно утверждаю, что звуком бывает взор, сияющий из светлого мира через разорванное покрывало облаков. Оппонент продолжает: он спрашивает меня о лбе, о волосах, о рте, о губах, о руках и ногах и с насмешливой улыбкой сомневается в том, чтобы все это могло быть у простого чистого звука.
Ах, боже мой, я ведь знаю, что подразумевает этот повеса: не более того, как то, что, пока я буду таким же glebae adscriptus[85], как он и ему подобные, и пока мы будем питаться не одними только солнечными лучами, – эта самая вечная любовь с ее вечным стремлением, которая не требует ничего, кроме себя самой, и о которой всякий дурак умеет болтать… Мейстер, я не хотел бы, чтобы вы становились на сторону голодного оппонента, это было бы мне неприятно. Но скажите сами, можете ли вы привести мне хотя бы одну разумную причину? Выказывал ли я когда-либо склонность к печальной глупости? Не дожил ли я до зрелых лет, сумевши остаться воздержанным, и желал ли я когда-либо быть перчаткой для того только, чтобы касаться щеки Юлии, как брат мой Ромео? Люди могут говорить все, что угодно, мейстер, но поверьте, что у меня в голове нет ничего, кроме нот, а в сердце и в чувствах – ничего, кроме звуков для них же, так как, черт возьми, мог ли бы я иначе сочинять такую чинную и связную церковную музыку, как та вечерня, которая лежит уже оконченною на моем пюпитре? Но опять я отклонился от истории; буду рассказывать дальше.
Издали услышал я пение сильного мужского голоса, который звучал все ближе и ближе. Вскоре я увидел бенедиктинского монаха, который шел внизу и пел латинский гимн. Неподалеку от меня он остановился, перестал петь, снял с головы широкую дорожную шляпу, отер платком пот со лба, осмотрел местность и скрылся в кустах. Мне пришла охота присоединиться к нему, так как он был более чем хорошо откормлен, солнце пекло все сильнее и сильнее, и мне пришло на ум, что он, наверно, отыскивает в тени спокойное местечко. Я не ошибся, так как, войдя в чащу, увидел достойного монаха усевшимся на камне, густо поросшем мхом. Большой обломок скалы, лежавший рядом, служил ему столом; он разостлал на нем белую салфетку и вынул из своего дорожного мешка хлеб и жареную дичь, которую начал обрабатывать с большим аппетитом. «Sed praeter omnia bibendum quid!»[86], – воскликнул он, обращаясь к себе самому, и налил из плетеной бутылки вина в небольшой серебряный стакан, который вытащил из кармана. Он только что собрался пить, как я вышел из чащи, восклицая: «Хвала Иисусу Христу!» Он оглянулся, приложив стакан к губам, и в ту же минуту я узнал моего старого милого друга из бенедиктинского аббатства в Канцгейме, достойного регента отца Илария.
– Во веки веков! – произнес отец Иларий, пристально смотря на меня своими дальнозоркими глазами.
Я сейчас же подумал о моем головном уборе, который, несомненно, придавал мне странный вид, и сказал:
– О дорогой и достойный друг мой Иларий, не примите меня за убежавшего бродячего индуса или за упавшего головой вниз туземца, так как я не кто иной, как друг ваш капельмейстер Иоганн Клейслер.
– Клянусь святым Бенедиктом, – весело воскликнул отец Иларий, – я сейчас же узнал вас, дивный композитор и приятный друг мой, но только per deum[87] скажите мне, откуда вы и что случилось с вами, которого я считал in floribus[88] при дворце эрцгерцога?
Я без церемонии рассказал вкратце все, что со мной случилось: как я был вынужден проткнуть своей шпагой того, кому заблагорассудилось выбрать меня мишенью для своей стрельбы, и почему вышеупомянутый стрелок был, по всей вероятности, итальянский принц, именуемый Гектором, как многие достойные водолазы.
– Что теперь делать: вернуться ли в Зигхартсгоф, или же… Посоветуйте мне, отец Иларий…
Так закончил я свой рассказ. Отец Иларий, который не раз восклицал при этом: «Гм… так! О святой Бенедикт!», – посмотрел перед собой, пробормотал: «Bibamus!» (выпьем) и разом осушил серебряный стакан.
Затем он со смехом воскликнул:
– Право же, капельмейстер, лучший совет, который я могу подать вам в эту минуту, это – сесть и позавтракать вместе со мной. Могу рекомендовать вам этих перепелок; только вчера застрелил их достойный брат наш Макарий, который, как вы помните, попадает всюду, кроме нот в респонсориях; если же вам придется по вкусу соус, которым приправлено блюдо, то благодарите за это заботливого брата Евзебия, который сам приготовил жарко́е, желая мне угодить. Что же касается вина, то оно достойно того, чтобы попасть на язык беглому капельмейстеру. Настоящий боксбейтель, carissime[89] Иоганн, настоящий боксбейтель из госпиталя св. Иоанна в Вюрцбурге, который мы, недостойные слуги господни, получаем лучшего качества. Ergo, bibamus![90]
При этом он наполнил стакан и протянул его мне. Я не заставил просить себя и начал есть и пить, как человек, нуждавшийся в подкреплении.
Отец Иларий выбрал для своего завтрака прелестнейшее место. Густые березы осеняли траву, испещренную цветами, и светлый лесной ручей, пробиравшийся по камням, увеличивал освежающую прохладу. Уютное уединение этого места навевало покой и отраду, и пока отец Иларий рассказывал мне обо всем, что было за это время в аббатстве, причем не забывал своих обычных прибауток и великолепной кухонной латыни, я прислушивался к голосам леса и водяных струй, в которых слышались мне утешительные мелодии.
Отец Иларий приписал мое молчание тяжелой заботе, причиняемой тем, что со мной случилось.
– Не унывайте, капельмейстер, – сказал он, протягивая мне вновь налитый стакан. – Вы пролили кровь, это правда, и проливать кровь есть грех, но distinguendum est inter et inter[91]. Всякому дорога его жизнь, она дается нам только раз. Вы защищали свою, а это не запрещается церковью, как достаточно уже было доказано, и наш высокопреподобный аббат или же какой-нибудь другой служитель церкви даст вам отпущение даже в том случае, если вы пронзили княжескую утробу. Ergo, bibamus! Vir sapiens non te abhorrebit, domine[92]. Если же вы вернетесь в Зигхартсвейлер, дорогой мой Крейслер, то пойдут вопросы: cur, quomodo, quando, ubi (почему, каким образом, как, где), а если вы припишете принцу убийственный замысел, то кто вам поверит? Ibi jacet lepus cum pipere[93]. Смотрите-ка, капельмейстер, но bibendum quid[94], – здесь он осушил полный стакан и продолжал: – Смотрите, какие хорошие советы подает боксбейтель. Знайте, что я шел в монастырь Всех святых, чтобы взять у тамошнего регента ноты для наступающего праздника. Я уже два или три раза перерыл ящики, все старо и избито; что же касается того, что вы сочинили для нас во время вашего пребывания в аббатстве, то это очень хорошо и ново, но, не сердитесь на меня, капельмейстер, это так удивительно написано, что нельзя ни на минуту оторвать глаза от партитуры. Только покосишься через решетку в середине церкви на какую-нибудь красотку, сейчас пропустишь паузу или еще что-нибудь, начнешь неверно отбивать такт и все спутаешь, все полетит в трубу, а брат Иаков так и колотит в органные клавиши! Итак, я должен был… но bibamus!
Мы оба выпили, после чего поток его речей полился снова:
– Нельзя спрашивать у тех, кого с нами нет, поэтому я и думаю: не пойдете ли вы со мной назад в аббатство, которое, если идти прямо, будет отсюда не больше, чем в двух часах ходьбы. В аббатстве вы будете в безопасности от всяких преследований, contra hostium insidias (от засады врагов); я доставлю вас туда как воплощение музыки, и вы останетесь там, сколько пожелаете или сколько найдете нужным. Его высокопреподобие г-н аббат позаботится обо всем, что следует. Он оденет вас в тончайшее белье и прибавит к этому бенедиктинскую одежду, которая к вам очень пойдет. А для того, чтобы вы и теперь не походили на раненого в картине о милосердном самарянине, наденьте мою дорожную шляпу, а я спущу на свою лысину капюшон. Bibendum quid, милейший!
При этом он еще раз осушил свой стакан, выполоскал его в ручье, быстро уложил мешок, нахлобучил мне на лоб свою дорожную шляпу и весело воскликнул:
– Ну, капельмейстер, мы можем самым спокойным и тихим образом переставлять одну ногу перед другой и все-таки придем как раз к тому времени, как зазвонят ad conventum conventuales[95], т. е. к тому времени, как его высокопреподобие садится за стол.
Вы можете себе представить, дорогой мейстер, что мне нечего было возразить на предложение веселого отца Илария и что, напротив, мне было приятно идти в это место, которое по многим соображениям могло послужить мне благодетельным приютом.
Мы подвигались вперед в различных разговорах и дошли до аббатства, согласно желанию отца Илария, как раз в то время, когда зазвонил обеденный колокол…
Чтобы избегнуть всяких вопросов, отец Иларий сказал аббату, что, узнавши случайно о моем пребывании в Зигхартсвейлере, он решил, что вместо нот из монастыря Всех святых лучше привести композитора, который носит в себе неистощимый запас музыки.
Аббат Хризостом (кажется, я вам о нем много рассказывал) принял меня с той сердечной радостью, которая свойственна истинно доброму расположению, и похвалил решение отца Илария.
А теперь, мейстер Абрагам, представьте себе меня превращенным в недурного бенедиктинского монаха, сидящим в высокой просторной комнате главного здания аббатства и прилежно работающим над гимнами и вечерней, представьте, что я написал уже много частей для торжественной службы, и вот собираются поющие и играющие братья и мальчики из хора, и я с жаром устраиваю репетиции и управляю хором через решетку. Право, я чувствую себя до такой степени погребенным в этом уединении, что могу сравнить себя с Тартини, который, боясь мщения кардинала Корнаро, бежал в миноритский монастырь в Ассизи, где его через много лет открыл падуанец, зашедший в церковь и увидевший давно потерянного друга в хоре в ту минуту, как порыв ветра приподнял занавес, закрывавший оркестр. С вами, мейстер, могло бы случиться то же, что с падуанцем, но я должен был сказать вам, где я, чтобы вы не думали разных чудес обо мне. Может быть, нашли мою шляпу и дивились тому, что ей не хватало головы? Мейстер, в душу мою снизошел какой-то особенный, благодатный покой. Может быть, я брошу здесь якорь. Когда я шел недавно по берегу небольшого озера, лежащего посреди обширного сада аббатства, и увидел в озере свой образ, двигающийся рядом со мной, я сказал себе: тот, что идет там внизу, рассудительный и спокойный человек, который крепко держится найденного поприща, а не шатается дико в неопределенном и неограниченном пространстве, – и для меня большое счастье, что этот человек – не кто иной, как я сам. Из другого озера смотрел на меня ужасный двойник; но тише, довольно об этом. Мейстер, не называйте мне никаких имен, не рассказывайте мне ни о чем, даже не говорите, кого я заколол. Но пишите больше про вас самих… Братья идут на репетицию, я кончаю мою историческую главу и вместе с тем мое письмо. Прощайте, добрый мой мейстер, и думайте обо мне!..»
Одиноко бродя по отдаленным, заросшим дорожкам парка, мейстер Абрагам думал о судьбе любимого друга и о том, как он, только что с ним соединившись, снова его потерял. Он видел маленького Иоганна и себя самого в Гонионесмюле перед фортепиано старого дяди: ребенок ударял по клавишам с почти мужской силой, с гордыми взглядами играл труднейшие сонаты Себастьяна Баха, и за это он потихоньку клал ему в карман пакетик со сластями. Ему казалось, что это было всего несколько дней назад, и он дивился тому, что этот мальчик был не кто иной, как Крейслер, по-видимому, опутанный теперь странной и капризной игрой таинственных обстоятельств. Но вместе с мыслью о прошлом и о роковом настоящем встала перед мейстером также и картина его собственной жизни.







