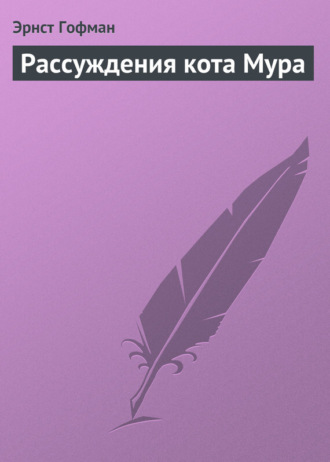
Эрнст Теодор Амадей Гофман
Рассуждения кота Мура
– Да, правда, сегодня очень жарко, – сказал барон и вынул из бокового кармана сюртука тонкий носовой платок. Вместе с платком оттуда выскользнула и перчатка, которую я, по своему обыкновению, принес моему господину. Профессор жадно выхватил у меня из пасти перчатку и воскликнул:
– Это ваша перчатка, господин барон?
– Да, – ответил барон, удивляясь горячности профессора, – я, кажется, выронил ее сейчас из кармана, а услужливый пудель ее подобрал.
– В таком случае, – сказал профессор ледяным тоном, подавая перчатку, которую я нашел под софой у профессорши, – я буду иметь удовольствие возвратить вам еще одну перчатку, составляющую пару этой перчатки, – ту, которую вы вчера потеряли.
Не дожидаясь ответа заметно смущенного барона, профессор бросился бежать, как безумный.
Я остерегся сопровождать профессора в комнату его дражайшей супруги, так как предчувствовал бурю, влияние которой почувствовалось вскоре даже в сенях. Я притаился как раз в уголку сеней и увидел, как профессор с раскрасневшимся лицом, пылающим пламенной яростью, вытолкнул служанку из двери, а потом, когда она попробовала сказать ему какое-то дерзкое слово, и из дома. Только поздно ночью профессор, совершенно изнеможенный, прошел в свою комнату. Я легким повизгиванием выразил ему мое искреннее участие в постигшем его горе. Тогда он обнял меня и прижал к своей груди, как будто я был его лучшим, сердечным другом.
– Добрый, честный Понто, – сказал он самым жалобным тоном, – правдивая душа, ты, ты один пробудил меня от глупого сна, мешавшего мне видеть мой позор, и привел меня к тому, что я сбросил ярмо, в которое запрягла меня фальшивая женщина. Теперь я снова буду свободным человеком! Чем могу я отблагодарить тебя, Понто? Никогда, никогда не должен ты меня покидать! Я буду тебя беречь и лелеять, как лучшего своего друга, и ты один будешь меня утешать, когда я буду страдать при мысли о моей жестокой судьбе.
Эти трогательные проявления благородного чувства благодарности были прерваны кухаркой, которая ворвалась в комнату с бледным, испуганным лицом и сообщила профессору страшную весть, что профессорша лежит в судорогах и сейчас отдаст богу душу. Профессор полетел к жене!
Много дней я почти не видел профессора. Моя пища, о которой прежде любовно заботился сам господин, была теперь поручена кухарке, ворчливой и гадкой особе, которая давала мне с ворчаньем только самые дрянные, почти несъедобные куски. Иногда она и совсем обо мне забывала, так что я принужден был побираться у добрых знакомых и даже отправлялся на добычу, чтобы утолить свой голод. Наконец однажды, когда я, голодный и ослабевший, шарил по дому, свесивши уши, профессор подарил меня некоторым вниманием.
– Понто, – воскликнул он, улыбаясь, так как вообще лицо его сияло, как солнце, – где ты был, моя старая, честная собака? Я так давно тебя не видел! Мне кажется, что совершенно против моей воли тебя забросили и плохо кормили? Ну поди же, поди сюда, сегодня я опять буду кормить тебя сам.
Я последовал в столовую за добрым господином. Госпожа профессорша, цветущая как роза и такая же сияющая, как и ее супруг, вышла мне навстречу. Оба были друг с другом нежнее, чем когда-либо; она называла его «ангелом», а он ее «мышкой», и при этом они миловались и целовались, как два голубка. Смотреть на это было сущее наслаждение. Со мной прелестная дама была тоже приветлива, как никогда, и ты можешь себе представить, добрый Мур, что при моей природной любезности я сумел вести себя достаточно благовоспитанно и изящно. Кто бы мог подозревать, что меня ожидало! Мне было бы тяжело рассказывать тебе подробно все предательские штуки, которые проделывали со мной враги, чтобы меня погубить, и, кроме того, это могло бы тебя утомить. Я ограничусь тем, что сообщу тебе только немногие из них, которые могут дать тебе верную картину моего несчастного положения. Мой господин имел обыкновение приготовлять мне в углу столовой, у печки, в то время как он сам ел, обычную порцию супа, овощей и мяса. Я ел так прилично и чисто, что на выложенном плитами полу не оставалось ни одного пятнышка. Каков же был мой ужас, когда однажды за обедом чашка, к которой я только что подошел, рассыпалась на куски, и вся моя пища разлилась по прекрасному полу! Профессор гневно накинулся на меня с бранными словами, и, несмотря на то, что профессорша старалась меня извинить, на ее бледном лице была написана сильная досада. Она полагала, что если нельзя будет отчистить грязное пятно, то это место можно отполировать или же вставить новую плиту. Профессор чувствовал глубочайшее отвращение к подобным починкам, он уже слышал заранее, как скребут и колотят мастеровые, и потому милые извинения профессорши именно и заставили его еще живее почувствовать мою неловкость и наградить меня, кроме брани, еще и двумя добрыми затрещинами. Я стоял, сознавая свою невиновность, совершенно озадаченный, и не знал, что мне думать и что говорить. Только тогда, когда то же самое повторилось два или три раза, я заметил подвох: мне подавали полуразбитые блюда, которые при малейшем прикосновении должны были разлетаться на куски. Я не смел больше оставаться в комнате, я получал свою пищу на дворе от кухарки и так скудно питался, что, побуждаемый страшным голодом, должен был отыскивать кусочки хлеба или косточки. При этом поднимался всегда страшнейший шум, и меня упрекали в себялюбивом воровстве, тогда как тут могла быть речь только об удовлетворении первейших естественных потребностей. Но вскоре произошло нечто худшее… С страшным криком нажаловалась кухарка, что у нее пропала из кухни прекрасная баранья нога, и что, наверно, ее стащил я. Дело это довели до профессора, как нечто очень важное. Он сказал, что никогда не замечал во мне раньше наклонностей к воровству и что даже мой воровской орган был поэтому мало развит; по его мнению, было также невероятно и то, чтобы я съел целую баранью ногу так, чтобы не осталось от нее ни следа. Стали искать и нашли в моей постели остатки бараньей ноги!.. Мур! Я клянусь тебе, положа лапу на сердце, что я был совершенно неповинен, что мне даже не приходило в голову воровать жарко́е, но к чему уверенья в моей невиновности, когда доказательства говорили против меня. Профессор был тем более недоволен, что держал мою сторону и обманулся в своем хорошем мнении обо мне. Меня сильно избили. Но если профессор и после того давал мне почувствовать свое неудовольствие, зато профессорша была все приветливее; она гладила меня по спине, чего никогда не делала раньше, и даже время от времени давала мне хорошие куски. Мог ли я подозревать, что все это была только обманчивая игра! Но вскоре это обнаружилось. Дверь в столовую была отворена; я с пустым желудком тоскливо смотрел туда и горестно вспоминал то доброе время, когда я, чувствуя распространяющийся по дому сладостный аромат жаркого, не напрасно вопросительно взглядывал на профессора и слегка пофыркивал носом. Вдруг профессорша позвала: «Понто, Понто» – и ловко подала мне прекрасный кусок жаркого, держа его между нежным большим и маленьким указательным пальчиками. Могло быть, что в энтузиазме раздраженного аппетита я схватил кусок немного поспешнее, чем это следовало, но я не укусил лилейную ручку, уверяю тебя, милый Мур. Однако профессорша громко воскликнула: «Злая собака!» – и опрокинулась на стул, как бы в обмороке, причем, к великому моему ужасу, я действительно увидел две капли крови на ее пальце. Профессор пришел в ярость.
Он бил меня, толкал ногами и так безжалостно терзал меня, что я, верно, не сидел бы здесь с тобой на солнышке, милый мой кот, если бы не спасся из дома бегством. О возвращении нечего было и думать.
Я видел, что ничего нельзя было сделать против черной клеветы, пущенной против меня профессоршей из мести за баронскую перчатку, и решил сейчас же найти себе другого господина. Прежде мне было бы это чрезвычайно легко, благодаря прекрасным дарованиям, которыми наградила меня мать-природа, но голод и скорбь довели меня до того, что я боялся получить отказ из-за своего жалкого вида. Печальный и озабоченный мыслью о своем пропитании, проскользнул я под ворота. Мимо меня проходил барон Алкивиад фон Випп, и я сам не знаю, как пришла мне в голову мысль предложить ему мои услуги. Быть может, это было неясное сознание того, что таким образом я могу отомстить неблагодарному профессору, как это и случилось впоследствии.
Я подошел к барону и, видя, что он довольно доброжелательно на меня смотрит, без церемоний последовал за ним на его квартиру.
– Смотрите, – сказал он молодому человеку, которого звал своим камердинером, хотя у него и не было другого слуги, – смотрите, Фридрих, какой за мной увязался пудель. Хорошо, если бы он был покрасивее.
Фридрих похвалил выражение моего лица и мое стройное сложение и сказал, что, вероятно, хозяин плохо меня содержал и потому, вероятно, я его оставил. Он прибавил, что пуделя, увязывающиеся за людьми по свободному влечению, бывают обыкновенно верными животными, так что барону следовало за меня держаться.
Хотя, благодаря заботам Фридриха, я скоро получил прекрасный вид, барон, по-видимому, не особенно мной дорожил, и я сопровождал его только на прогулки.
Но все это переменилось. Во время одной из прогулок мы встретили профессоршу. Добрый Мур, ты должен признать добродушный нрав, – да, именно так и скажу я, – добродушный нрав честного пуделя, если я уверю тебя, что, несмотря на все зло, причиненное мне этой женщиной, я был несказанно рад видеть ее. Я плясал перед ней, весело лаял и выказывал ей свою радость на всевозможные лады.
– Смотрите-ка! Понто! – воскликнула она, погладила меня и многозначительно посмотрела на остановившегося барона Виппа. Я побежал к своему господину, который начал меня ласкать. По-видимому, он напал на какую-то необыкновенную мысль, он несколько раз сряду пробормотал про себя: «Понто, Понто, если бы это было можно!»
Мы дошли до ближайшего увеселительного места. Профессорша села вместе со своим обществом, в числе которого, однако, не было доброго профессора. Неподалеку от нее сел барон Випп, так что, не будучи особенно замечен другими, он все время глядел на профессоршу. Я стал против своего господина и уставился на него, слегка помахивая хвостом, как будто я ожидал его приказаний.
– Понто, – говорил он, – Понто, если бы это было возможно! Однако надо попробовать, – прибавил он после краткого молчания.
Он вырвал из своей записной книжки листок бумаги, написал на нем несколько слов карандашом, свернул его, засунул мне за ошейник, показал мне на профессоршу и тихонько сказал:
– Понто, allons!
Я не был бы так умен и опытен в житейских делах, как это есть на самом деле, если бы не угадал сразу все, что нужно. Поэтому я сейчас же подбежал к столу, у которого сидела профессорша, и сделал вид, что меня привлекает прекрасный пирожок на столе. Профессорша была сама приветливость: одной рукой она протянула мне пирожок, а другой – трепала меня по шее. Я почувствовал, как она вытащила у меня бумажку. Вскоре затем она оставила общество и пошла по одной из ближайших дорожек. Я последовал за ней. Я видел, как она жадно прочла слова барона, вынула из своего рабочего мешочка карандаш, написала несколько слов на той же бумажке и снова ее свернула.
– Понто, – сказала она потом, смотря на меня лукавыми глазами, – ты будешь очень умный и понятливый пудель, если вовремя принесешь то, что нужно.
При этом она засунула мне бумажку за ошейник, а я немедленно побежал к своему господину. Тот сейчас же сообразил, что я принес ответ, и немедленно вытащил бумажку из-под моего ошейника. Слова профессорши звучали, вероятно, очень утешительно и приятно, так как глаза барона загорелись радостью, и он воскликнул в восхищении:
– Понто, Понто, ты – великолепный пудель, тебя привела ко мне моя счастливая звезда!
Ты легко себе представишь, добрый мой Мур, как я обрадовался, увидав, какое высокое мнение возымел обо мне мой господин после того, что случилось.
От радости начал я проделывать почти без всякого приглашения всевозможные штуки. Я говорил по-собачьи, умирал, снова воскресал и так далее.
– Удивительно смышленая собака! – воскликнула старая дама, сидевшая неподалеку от профессорши.
– Удивительно смышленая! – отвечал барон.
– Удивительно смышленая! – прозвучал, как эхо, голос профессорши.
Я скажу тебе коротко, добрый Мур, что я заботился о переписке, совершаемой вышеупомянутым образом, и забочусь о ней и теперь, а иногда бегаю даже с письмецом в квартиру профессора, когда его не бывает дома. Когда же барон Алкивиад фон Випп пробирается в сумерки к прекрасной Летиции, я остаюсь у дверей, и если вдали покажется господин профессор, то я произвожу такой чертовский гвалт своим лаем, что господин мой так же хорошо, как и я, чует близость врага и скрывается.
Мне казалось, что я не должен хвалить поведение Понто: я подумал о покойном Муциусе, о моем собственном глубоком отвращении ко всякому ошейнику, и это одно уже выяснило мне, что честный нрав, присущий всякому правдивому коту, гнушается любовными шашнями подобного рода. Все это я открыто высказал юному Понто, но он засмеялся мне в лицо и сказал, что едва ли кошачья нравственность может быть так строга, да и самому мне, вероятно, случалось время от времени выпрыгивать за веревочку, то есть делать нечто, выходящее за пределы узкого морального ящика. Я вспомнил про Мину и промолчал.
– Во-первых, добрый мой Мур, – продолжал Понто, – существует очень простое житейское правило, гласящее, что никто не уйдет от своей судьбы, которая делает все по-своему; как образованный кот, ты можешь прочесть об этом в одной книге весьма приятного стиля, под названием «Jacques le fataliste»[129]. He было ли предопределено роком, чтобы профессор эстетики Лотарио выказал вполне определенно предназначенное ему природой призвание вступить в тот большой орден, к которому принадлежит столько мужчин, нося его знаки с величайшим достоинством и важностью, ничего об этом не зная. Этому призванию последовал бы господин Лотарио, даже если бы не было на свете барона Алкивиада фон Виппа и Понто. Ну а если бы господин Лотарио заслужил нечто лучшее, и я не перешел бы в ряды армии его врагов? Но тогда, конечно, барон нашел бы другие средства объясняться с профессоршей, и то же самое зло было бы сделано профессору, не принося мне той пользы, которую извлекаю я теперь из приятных сношений барона с прекрасной Летицией. Мы, пуделя, не такие уж строгие моралисты, чтобы забывать о собственном теле и пренебрегать хорошими кусками, и без того уже достаточно скудно раздаваемыми жизнью.
Я спросил молодого Понто, действительно ли была так велика и важна польза, получаемая им на службе у барона Алкивиада фон Виппа, чтобы ею искупалось неприятное и тяжелое подчинение, связанное с нею. При этом я довольно ясно дал ему понять, что это подчинение всегда было бы неприятно коту, в груди которого не угасает дух свободы.
– Ты говоришь, добрый Мур, – гордо улыбаясь, ответил Понто, – то, что доступно твоему пониманию, или, вернее, то, что представляется тебе, благодаря твоей полной неопытности по части высших житейских отношений. Ты не знаешь, что значит быть любимцем такого любезного и благовоспитанного мужчины, как барон Алкивиад фон Випп. О том, что я сделался его любимцем с тех пор, как выказал свой ум и услужливость, я мог бы, вероятно, и не говорить тебе, мой свободолюбивый кот. Краткое описание нашего образа жизни заставит тебя живо почувствовать всю приятную и благодетельную сторону моего теперешнего состояния. Встаем мы, то есть я и мой господин, не слишком рано, но и не слишком поздно, ровно в одиннадцать часов. При этом я должен заметить, что мое мягкое и широкое ложе устроено недалеко от кровати барона, и мы настолько согласно храпим, что при внезапном пробуждении не знаем, кто из нас храпел. Барон звонит в колокольчик, и сейчас же является камердинер, который приносит барону стакан дымящегося шоколада, а мне фарфоровую чашку, полную прекрасного, сладкого кофе со сливками, которую я осушаю с таким же аппетитом, как барон свой бокал. После завтрака мы полчаса играем друг с другом, и это движение не только поддерживает наше здоровье, но и веселит наш дух. Если погода хороша, то барон садится у открытого окна и рассматривает проходящих в бинокль. Если же прохожих мало, то существует еще одна забава, которой барон может предаваться целые часы, не уставая. Под его окном лежит камень, отличающийся особенным красноватым цветом, а в середине этого камня есть маленькая дырка. Барон умеет так ловко плевать, что попадает как раз в эту дырку. Долгим и настойчивым упражнением достиг он того, что попадает на пари из трех раз один, и немало уже выиграл. После этой забавы наступает важный момент одевания. Тщательную прическу и завивку волос, а в особенности искусное завязывание галстука производит барон один, без помощи камердинера. Так как эти трудные операции производятся довольно долго, то Фридрих пользуется этим временем, чтобы совершить и мой туалет, то есть моет меня мылом, разведенным в теплой воде, расчесывает мои длинные волосы гребнем, оставляя на нужных местах изящную завивку, и надевает на меня красивый серебряный ошейник, которым почтил меня барон, как только он открыл мои добродетели. Дальнейшие моменты посвящаются литературе и искусствам. Мы идем в какой-нибудь ресторан или кафе, кушаем бифштекс или котлету, выпиваем рюмку мадеры и слегка заглядываем в новейшие журналы и газеты. Затем начинаются послеполуденные визиты. Мы посещаем ту или другую великую актрису, певицу, а иногда и танцовщицу, чтобы сообщить ей новости дня, но главным образом рассказать о дебютах, происходивших накануне вечером; замечательно, с каким искусством барон Алкивиад фон Випп умеет сообщать свои новости так, чтобы всегда поддерживать в дамах хорошее расположение духа. Никогда еще не удавалось противнице или по крайней мере соревновательнице присвоить себе хоть часть славы, венчающей царицу, посещаемую им в данную минуту в ее будуаре. Бедняжку освистали, осмеяли, и если уж нельзя умолчать о действительно блестящем успехе, то барон наверное сумеет преподнести новую скандальную историю про вышеупомянутую особу, и история эта будет так же жадно подхвачена, как и распространена, чтобы убить своим ядом цветы на венке артистки. Самые важные визиты к графине А., баронессе Б., посланнице В. и т. д. длятся до половины четвертого, затем барон обделывает собственные дела, так что в четыре часа он может спокойно садиться за стол. Это совершается обыкновенно тоже в ресторане. После обеда мы идем в кафе, играем партию на биллиарде и, если позволяет погода, совершаем небольшую прогулку; я делаю это, конечно, пешком, а барон по большей части верхом. Наконец приходит время идти в театр, чего барон никогда не пропускает. Вероятно, он играет в театре особенно важную роль; он не только посвящает публику во все отношения, касающиеся сцены, и знакомит ее с вновь появившимися артистами, но также и распределяет надлежащие похвалы и порицания и вообще дает верное направление вкусу общества. Он чувствует к этому особенное призвание. Так как даже самым изящным представителям нашей породы несправедливо запрещается вход в театр, то часы представления это – единственное время, когда я разлучаюсь со своим милым бароном и забавляюсь один, по своему личному усмотрению. Как это происходит и как я пользуюсь этим временем, заводя знакомство с английскими собаками, борзыми, мопсами и другими знатными особами, – ты сейчас узнаешь, мой добрый Мур. После театра мы снова кушаем в ресторане, и здесь барон вполне предается своему веселому нраву. Все говорят, смеются и находят все просто божественным, и никто не знает, что он говорит, чему смеется и что именно нужно считать божественным, но в этом-то и заключается самый высший тон и светская жизнь тех, кто знает толк в изяществе так, как мой господин. Нередко отправляется барон поздно вечером в то или другое общество и, вероятно, там уже доходит до совершенства. Но об этом я ничего не знаю, так как барон еще ни разу меня туда не брал, на что у него, вероятно, есть основательные причины. Про то, как прекрасно сплю я на мягкой постели около барона, я тебе уже говорил. Согласись же сам, добрый мой кот, что, судя по тому образу жизни, который я тебе описал, старый, сварливый дядя не должен обвинять меня в беспутном шатании. Правда, как я уже тебе признавался, было время, когда я давал повод ко всевозможным порицаниям: я держался дурного общества и находил особенное удовольствие в том, чтобы всюду врываться непрошеным, особенно на свадебные пирушки, и производить совершенно ненужные скандалы. Но все это делалось не столько из склонности к ненужному задору, сколько из потребности высшей культуры; я не мог удовлетворить ее в доме профессора. Теперь все изменилось. Но кого я вижу? Вот идет барон Алкивиад фон Випп! Он ищет меня, он свистит!.. Au revoir[130], дорогой мой!
Быстрее молнии бросился Понто навстречу своему господину. Внешность барона вполне соответствовала представлению, которое я составил о нем по тому, что говорил мне Понто. Барон был очень высок и не столько строен, сколько худощав. Его одежда, осанка, походка, движения могли считаться прототипом последней моды, но все это, доведенное до утрировки, придавало всей его особе что-то странное и причудливое. В руке у него была очень тонкая тросточка со стальным набалдашником, через которую он заставил Понто несколько раз перепрыгнуть. Как ни унизительно это мне показалось, я должен был, однако, сознаться, что к величайшей ловкости и силе Понто присоединилась теперь еще и грация, которой я раньше у него не замечал. Вообще в том, как барон выступал вперед особенным петушиным шагом, выпятив грудь и втянувши живот, а Понто забегал то вперед, то назад с очень мелкими прыжками, позволяя себе только короткие, несколько гордые поклоны проходящим товарищам, было нечто не вполне для меня уловимое, но импонирующее. Я смутно чуял, что подразумевал мой друг Понто под именем «высшей культуры», и старался, насколько возможно, это себе уяснить. Однако это было очень трудно или, лучше сказать, мои усилия были тщетны.
Впоследствии я увидел, что в некоторых случаях все проблемы и теории, которые могут составиться в уме, ни к чему не ведут, и только живой практикой можно достигнуть знания; высшая культура, которой достигли в лучшем обществе барон Алкивиад фон Випп и пудель Понто, принадлежит именно к таким случаям.
Проходя мимо, барон Алкивиад фон Випп навел на меня свое пенсне. Мне показалось, что я прочел в его взоре любопытство и гнев. Быть может, он заметил мой разговор с Понто и немилостиво к тому отнесся? Я испугался и поспешно убежал вверх по лестнице.
Чтобы исполнить долг хорошего биографа, я должен снова описать состояние моей души и мог бы сделать это всего лучше посредством каких-нибудь дивных стихов, которые с некоторого времени стали мне очень легко даваться. Но теперь…
(М. л.) «…на эти глупые, жалкие игрушки растратил ты лучшую часть своей жизни, а теперь ты горюешь, старый дурак и жалуешься на судьбу, наперекор которой ты шел! К чему были тебе знатные господа и весь свет, над которым ты смеялся и считал его глупым, а сам оказался глупее всех? Ты должен был оставаться ремесленником, делать органы, а не разыгрывать чародея и прорицателя. Тогда не похитили бы ее у меня, моя жена была бы со мною, я сделался бы искусным работником, сильные молодцы стучали и колотили бы вокруг меня, и мы создавали бы произведения, которые стяжали бы себе славу лучше всяких других… А Кьяра?.. Быть может, на шее у нее висели бы веселые мальчики, а на коленях прыгала бы хорошенькая дочка!.. Тысяча чертей, что со мной! Почему я не могу отделаться от прошлого ни на минуту и ищу по всему свету мою потерянную жену?»
Тут мейстер Абрагам, произносивший этот монолог, бросил под стол маленький, начатый им автомат и все свои инструменты, вскочил с места и порывисто заходил по комнате. Мысль о Кьяре, почти никогда его не покидавшая, вызвала в душе его мучительные воспоминания, но в этих муках исчезла досада, свойственная людям низших слоев, на то, что он заглянул дальше своего ремесла и начал заниматься истинным искусством. Он открыл книгу Северино и долго смотрел на прекрасную Кьяру. Как лунатик, утративший сознание того, что его окружает, и действующий автоматически, по внушению внутренних чувств, подошел мейстер Абрагам к ящику, стоявшему в углу комнаты, снял лежащие на нем книги и вещи, открыл его, вынул стеклянный шар и весь аппарат для таинственных экспериментов с невидимкой, прикрепил шар к тонкому шелковому шнурку, свешивавшемуся с потолка, и поставил в комнате все, что нужно для скрытого оракула. Только тогда, когда все было готово, очнулся он от своих грез и очень удивился тому, что он сделал.
– О, – громко простонал он, в бессилии и горести падая в кресло, – о моя бедная, утраченная Кьяра! Никогда не услышу я, как твой сладкий голос открывает то, что скрыто в глубине души человека! Нет больше утешения на земле! Надежда только в могиле!
Тогда стеклянный шар закачался, и послышался мелодический звук, подобный дыханию ветра, тихо скользящему по струнам арфы. Но вскоре звук этот перешел в слова:
Нет, надежда все живет,
Не исчезло утешенье;
Но душе не сбросить гнет
Тяжкой клятвы запрещенья.
Мейстер, близко обновленье!
Мать скорбящая дает
Тяжким ранам исцеленье,
Скорбь отраду принесет.
– О милосердый бог, – прошептал старик дрожащими губами, – это она сама говорит со мной с высоты небесной; ее уже нечего искать между живыми!
Тогда еще раз послышался мелодичный звук, и еще тише и отдаленнее прозвучали слова:
Там для смерти места нет,
Где любовь не умирает;
Если грустен был рассвет,
Вечер ярко засияет.
Час блаженный наступает:
Всех печалей минет след.
Сила вечная свершает
Свой таинственный завет.
То стихая, то усиливаясь, ласкали сладостные звуки слух старика, которого сон объял своим черным покровом. Но в темноте промелькнула, сияя прекрасной звездой, греза былого счастья, и Кьяра, как прежде, лежала на груди у мейстера, и оба были снова молоды и блаженны, и никакой темный дух не мог омрачить неба их счастливой любви.
Здесь издатель должен поставить на вид благосклонному читателю, что на этом месте кот совершенно изорвал два макулатурных листа, вследствие чего в этом изобилующем трещинами рассказе образовалась еще одна трещина. Но по числу страниц не хватает только восьми столбцов, в которых нет, по-видимому, ничего особенно замечательного, так как продолжение довольно хорошо вяжется с предыдущим. Дальше идет следующее:
…не должен был ждать. Князь Ириней был вообще открытый враг всяких необычных случаев, в особенности когда посягали на его особу ради ближайшего расследования дела. Он взял двойную щепотку табаку, как делал во всех критических случаях, пронизал лейб-егеря известным фридриховским взглядом и сказал:
– Я думаю, Лебрехт, что вы – просто мечтатель и лунатик, вам представляются призраки, и вы производите совсем напрасный шум.
– Светлейший князь, – спокойно ответил лейб-егерь, – велите прогнать меня, как наглого плута, если все не случилось буквально так, как я сейчас рассказал. Руперт – завзятый мошенник.
– Как, – воскликнул князь, полный гнева, – как! Руперт, мой старый, верный кастелян, пятнадцать лет служивший княжескому дому, который ни разу не давал заржаветь ключу и так хорошо смотрел за замками, он – мошенник? Лебрехт, да ты с ума сошел! Ты взбесился! Сто тысяч чер…
Здесь князь остановился, как всегда, когда дело доходило до проклятий, противоречивших княжескому достоинству. Лейб-егерь воспользовался этой минутой, чтобы поскорее вставить:
– Ваша светлость начинаете горячиться и браниться, а между тем нельзя же мне молчать: я должен говорить только чистую правду.
– Кто горячится, кто бранится? – сказал князь уже спокойнее. – Бранятся ослы! Повтори мне все дело в коротких словах, чтобы я мог в тайном заседании донести об этом совету и обсудить дальнейшие меры. Если Руперт действительно мошенник… Но это мы увидим потом.
– Как я уже сказал, – начал лейб-егерь, – когда я светил вчера фрейлен Юлии, тот самый человек, который давно уже здесь шныряет, проскользнул мимо нас. «Постой, – подумал я, – уж попадешься ты мне», – и как только довел до конца милую барышню, так сейчас же затушил свой факел и стал за кустом в темноте. Скоро тот самый человек вышел из кустов и тихонько постучался в дом. Я осторожно подкрался и увидел, как отворилась дверь дома, оттуда вышла девушка и с ней вместе проскользнул в дом человек. Это была Нанни, – вы знаете, ваша светлость, красивая Нанни, что служит у госпожи советницы.
– Coquin![131], – воскликнул князь. – С высокопоставленными, коронованными особами не говорят о красивых Нанни. Ну что же дальше, mon fils[132]? – прибавил он.
– Да, – продолжал лейб-егерь, – да, красивая Нанни; я бы никогда не заподозрил ее в подобных глупостях. «Так, значит, это обыкновенная любовная интрига», – подумал я; но у меня не выходило из головы, что в этом есть еще что-то другое. Я остался около дома. Через некоторое время вернулась домой госпожа советница, и едва вошла она в дом, как наверху открылось окошко, и оттуда с невероятной ловкостью выскочил этот человек прямо на прекрасные гвоздики и левкои, стоящие за решеткой, за которыми так заботливо ухаживает сама милая фрейлен Юлия. Садовник в страшном горе, он стоит на дворе с разбитыми горшками и хочет сам жаловаться вашей светлости, но я его не пустил, потому что негодяй уже с раннего утра нализался.
– Лебрехт, – перебил князь лейб-егеря, – это какое-то подражание: то же самое было в опере господина Моцарта «Свадьба Фигаро», которую я видел в Праге. Не уклоняйтесь от правды, егерь!
– Я не прибавляю ни одного слова, – говорил Лебрехт, – и могу все подтвердить под присягой. Малый выпрыгнул, и я думал сейчас же поймать его, но быстрее молнии проскользнул он мимо меня и побежал – куда? Ну, как вы думаете, ваша светлость, куда он побежал?
– Я ничего не думаю, – торжественно произнес князь, – не беспокой меня пустыми вопросами о моих мыслях, егерь, а рассказывай спокойно всю историю до конца, тогда я и буду думать.
– Человек этот побежал, – продолжал егерь, – прямо в необитаемый павильон. Да, необитаемый! Как только он постучался в дверь, там сейчас же стало светло, и тот, кто вышел, был не кто иной, как честный господин Руперт, и незнакомец последовал за ним в дом, дверь которого тот снова запер. Вы видите, ваша светлость, что Руперт завел сношения с опасными и неизвестными гостями, которые, судя по их шнырянью, замышляют что-то недоброе. Кто знает, к чему это клонится? Может быть, сам светлейший князь в спокойном и мирном Зигхартсгофе должен опасаться злых людей.







