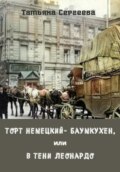Татьяна Сергеева
Фристайл. Сборник повестей
– Я его переодену, он совсем мокрый…
Какие только метаморфозы не происходят с человеком за долгую жизнь! Когда я вспоминаю, какой шалавой Наташка была у нас на «Скорой», мне кажется, что я думаю о ком-то другом. Мы жили в одном ведомственном доме, и по-соседски дружили, но работать с ней было настоящей пыткой для всех наших докторов. В сумке-укладке, с которой мы ездили на вызовы, у неё всегда царил страшный бардак: то окажешься без бинтов на автослучае, то на сердечной астме останешься с двухграммовым шприцем в руках. А что таким маленьким сделаешь? Я всегда сама сумку собирала, хотя это забота фельдшера. К тому же ленивой Наталья была, кошмар! Лишний раз не двинется, не повернётся… В общем, характер у неё был… Да что с неё взять – детдомовская девочка. Наталья и к мужу, кажется, не слишком привязана была: он в плавание уйдёт на месяцы, она, вроде, и не скучает. Помню, Алексей приехал под самый Новый год, а Наташка на работу вышла.
– Муж из плавания пришёл, а ты на дежурство напросилась. – Удивилась я, оказавшись с ней в одной смене в Новогоднюю ночь.
– Им с Алёнкой и без меня хорошо. – Отмахнулась она. – А я праздничные получу.
И смешно на неё было смотреть, и жалко.
– То ли ты живёшь, то ли спишь… И как Алексей с тобой уживается?
– Да так и уживается. – Не обиделась Наталья. – Ворчит, ругается, иногда бросить грозиться, а потом, посмотрит и говорит, как и ты: «Смешно и жалко…»…
Фельдшеров на станции не хватало, и в тот злополучный день мы с Лабецким стояли в графике без помощников. Диспетчер на дежурство не вышла – заболела, и за телефон была посажена Наталья, хотя она должна была работать на линии с кем-то из дежуривших с нами врачей. Сергей был пьян и болтался в диспетчерской под ногами, мешал ей работать. Очередной поступивший вызов был в баню, в мужское отделение. Удовольствие, надо сказать, ниже среднего. И моя очередь ехать.
– Да что же это такое! – Простонала я. – И что мне сегодня так везёт! То вытрезвитель, то баня!
– Что делать, Ирк… Твоя очередь… Попроси его, если хочешь. – Наталья кивнула на Лабецкого.
Ехать куда бы то ни было он явно был не в состоянии.
– Да я не отказываюсь…
Я обречённо стала собираться на вызов.
– Она не отказывается от мужского отделения, Наташенька! – Загоготал Лабецкий.
Нарочно, чтобы подразнить меня, он подошёл к Наташке вплотную и приобнял её за плечи.
– Слушай, Наталья… Давай я к тебе завтра приду! Отправь Алёнку к Ирине, а муж твой сейчас в плавании, я знаю…
Наталья пожала плечами.
– Да приходите, жалко что ли… А что делать-то?
Лабецкий противно усмехнулся.
– А любить, Наташа, любить… Постель так сближает. – И пропел. – «Любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь»… Всё так просто…
А Наталья вдруг разозлилась и сбросила его руку со своего плеча.
– Вот чокнутый! Вы мне лучше расскажите про любовь-то эту… Двадцать пять лет на свете живу, а что такое любовь – так и не поняла. С чем её едят, любовь-то вашу? – Наташка завелась. – Все твердят: «любовь, любовь», а вся любовь к роддому сводится…
Лабецкий, хоть и был сильно пьян, но разом перестал паясничать.
– Что ты за примитивное существо, Наталья? Дурой тебя вроде не назовёшь, а простые человеческие чувства тебе не ведомы. Ты хоть мать-то свою любишь?
Наталья взглянула на меня и засмеялась.
– Чего он спрашивает, а Ирк? Мать…
Я укоризненно взглянула на Лабецкого. Под градусом он совсем забыл, что Наташка – детдомовская. А её понесло.
– Любовь… В детском доме нам любовь не преподавали. Металлолом мы собирали, макулатуру всякую, это было… За учёбу нас, кого хвалили, кого ругали, иногда мы младшим детям книжки читали – было и это. Ну, а мама с папой – то запретная тема была, про них даже шёпотом говорить было страшно… А Вы говорите, любовь… Нас двадцать человек в спальне было, нянечка придёт свет выключить, не всегда «спокойной ночи» скажет…
– Ладно, – сказал Лабецкий примирительно, – не заводись…
Впрочем, пока я проверяла свою укладку, он, отключился, развалившись в старом продавленном кресле. Направляясь к двери, я попробовала его растолкать. Он вяло открыл глаза.
– Чего тебе, Медуза Горгона?
– Ступайте в дежурку, Сергей, постарайтесь прийти в себя… Наталья подержит Вас на станции, пока кто-нибудь из врачей не вернётся…
– «Кто сказал, что я сдал, что мне рук не поднять?..» – чисто пропел он своим баритоном. – Впрочем, Вы правы, доктор. Пойду прилягу. Кричи громче, Наталья, если будет срочный вызов …
Вернувшись на станцию, я поплелась в дежурку: в тот день было очень много вызовов. Лабецкий из обоймы выпал, приходилось работать за него. Я очень устала. Дежурка была пуста. Лабецкого в ней не было.
Я вернулась в диспетчерскую, где Наталья вяло, с непроницаемым лицом смотрела телевизор.
– Где Лабецкий?
– На вызове… – Не повернув головы в мою сторону, ответила Наташка.
– Был вызов? Ты послала его на вызов?
– Да, был вызов. Чего ты пристала? Очередь ехать была Лабецкого, он и поехал.
Я быстро повернула к себе журнал, лежащий на диспетчерском столе. Вызов был к Вике Пономарёвой, к той самой худенькой, несчастной девушке, которой давно не было бы на свете, если бы не врачи нашей «Скорой». У Вики было неизлечимое кардиологическое заболевание, она была приговорена с детства, и мы каждый раз вытаскивали её с того света на кончике инъекционной иглы… У меня подкосились ноги. Я опустилась на стул и молча смотрела на Наташку. Она всё-таки не выдержала моего взгляда.
– Ну, чего ты уставилась? Тебе нравится за него пахать? У Вики – скандальная мать, она обязательно напишет жалобу… Будет жалоба – его уволят.
Я не находила слов.
– Наталья, у тебя в башке все понятия сместились… Ты подумала о бедной девочке? Что она будет думать о нас, о тебе, умирая?
Кажется, я кричала. Но в это время зазвонил телефон. Я взяла трубку. Звонила Вика. Она была дома одна и ей было страшно. Я собрала всю свою волю в кулак и сказала в трубку спокойно и ласково.
– Не плачь, миленькая… К тебе уже выехал Лабецкий. Он постарается тебе помочь. У него должно получиться…
Я больше не смотрела на Наталью. Я схватила свою укладку и через мгновение сидела в машине. Я поехала на тот же адрес вслед за Лабецким.
Вика умерла: он не смог попасть в её тонюсенькую вену. Я приехала слишком поздно. Потом были всяческие клинические разборы и комиссии, под выговоры попали все: и Наталья, и мы – врачи, дежурившие в тот день, и наша заведующая, и главный врач больницы. Лабецкого судили, и он исчез из моей жизни на двадцать лет…
Вскоре нашу маленькую участковую больницу расформировали за нерентабельностью, а вместе с ней перестала существовать и станция «Скорой помощи»…
Я давно перестала удивляться Наталье – сейчас она совсем другая. Мой жизненный опыт позволяет сделать вывод: только тот, кто вволю настрадался, пережил настоящее горе, беду, только такой человек умеет сострадать другому. Можно быть очень добрым, отзывчивым, и не уметь сострадать. Это может только тот, кто сам прошёл все муки ада. Я не только физические страдания имею в виду. Ведь они бывают самые разные, эти муки – у каждого свои. Именно поэтому после войны люди умели сострадать. А сейчас…
Наталья сострадать научилась. Когда я сбежала от мужа и приехала к ней, я не узнала её, это был совсем другой человек. Она словно заново родилась. С каждым тяжёлым больным Наташа сейчас носится, как с близким родственником, даже если этот больной только что покинул тюремную камеру. Она словно епитимью на себя наложила. Она крестилась после смерти Алёнки, а мимо нашей больничной часовни пройти не может, обязательно зайдёт. И с отцом Михаилом, нашим священником, подолгу о чём-то разговаривает. Часовня эта – очередной подвиг Виктора. Полгода за нашим главным ходил, убеждал, уговаривал… И добился-таки: и лишнюю комнату нашли, и убранство приобрели – что-то родственники больных привезли, кое-что сотрудники на свои деньги купили. И пустой наша часовня никогда не бывает. Больные по нескольку раз в день заходят, особенно если кому-нибудь из них операция предстоит. И родственники за своих страждущих – кто помолиться зайдёт, а кто просто свечку поставить. Наш священник, отец Михаил – личность примечательная во всех отношениях. Возраст его трудно точно определить – усы и борода мешают, но мне кажется, он ненамного нас старше. Он среднего роста, полноват, а голос у него красивый, успокаивающий такой, низкий. А самое главное – это глаза. Я таких глаз в жизни не встречала. Они карие, глубокие и такие мягкие, что я им сразу нашла определение, как только впервые встретила этот взгляд – они бархатные… Когда отец Михаил разговаривает, успокаивает тяжёлого больного или отчитывает санитарку за нерадивость, всё равно его глаза греют. По специальности он – военный врач, практиковал больше десяти лет, успел в «горячих точках» послужить. Много видел горя, боли и несправедливости. Очень мудрый, тактичный человек. Вот Наталья к нему и прилипла, словно пластырь. Поговорит с ним, пошепчется – потом ходит с просветлённым лицом и с ещё большим остервенением больным служит. Другого слова здесь и не подобрать.
Этим летом, что греха таить, я нечаянно подслушала её разговор с отцом Михаилом. Мой кабинет – на первом этаже, и в жаркий день окна у меня всегда открыты. А под окном – скамейка. Я писала дневники в историях болезни, как вдруг услышала их голоса. Разговаривали они негромко, но всё равно до меня долетало каждое их слово.
– Восемнадцать лет прошло, отец Михаил… – Говорила Наталья с той самой обречённостью, которую я так хорошо в ней знала. – Этот ужас со мной восемнадцать лет… Я крестилась, ходила в церковь на исповедь, причащалась, священник мне разрешительную молитву дал, как убийце… Но всё равно никакого покоя мне нет. Не отпускает она меня, понимаете? Как мне жить, отец Михаил? Как мне с этим ужасом дальше жить?
Вот, значит, что… Никогда Наталья не говорила мне об этом. Молча несла свой страшный крест.
Мне стало стыдно: не для посторонних ушей была эта беседа. Я вышла из кабинета.
Наталья Алёнку проспала. В самом прямом смысле. Восемнадцать лет назад накануне своего дежурства она позвонила на «Скорую» и сказала, что садится на больничный: заболела дочка. Обычное дело, ничего особенного. Она забрала Алёнку из садика с температурой, не слишком и высокой. Но девочка была квёлая, сонная и сильно кашляла. Наталья запихала в неё какие-то таблетки, кое-как накормила – Аленка есть не хотела, и, уложив её в постель в крохотной детской, уселась перед телевизором. Время от времени она слышала из комнаты сиплый кашель дочери, но от нового фильма отвлекалась ненадолго… Потом Алёнка притихла, Наталью потянуло в сон, и она преспокойно улеглась спать, даже не заглянув к больному ребёнку… Утром она встала, привела себя в порядок и принялась готовить завтрак. Обычно, едва услышав шаги матери, Алёнка сама появлялась из своей комнаты, проблем со вставанием у неё никогда не было, а тут почему-то – тишина… Наташка не то чтобы забеспокоилась, она удивилась… Пошла в комнату дочери и… Девочка была мертва. Это был ложный круп. Алёнка попросту задохнулась. Поздно вечером, когда её мать смотрела телевизор. Или ночью, когда она безмятежно спала. Мне пришлось самой выезжать на констатацию смерти: я в тот день дежурила и была моя очередь ехать. Я почти на коленях молила своих коллег меня подменить – куда там! Боже мой, столько лет прошло, а как вспомню это синюшное личико…
Алексей на похороны не успел. Но вернувшись из плавания, приехал домой, и, не глядя на Наташку, молча собрал свои вещи и прямо с ними, с двумя дорожными сумками, пошёл на кладбище. Она бежала за ним полуодетая всю дорогу, что-то кричала, плакала – он не слушал её. В тот день был жуткий мороз, метель, пурга, ветер завывал, сбивал с ног… Алексей больше часа стоял у могилы, засыпанной замёрзшими цветами и снегом, плакал, что-то шептал… Наталья не смела приблизиться к нему, тряслась от холода и ужаса где-то в стороне. Алексей уехал навсегда…
Шло время. Наталья на работу не выходила. Больница наша была маленькой, да и жили мы все в одном ведомственном бараке, поэтому друг о друге знали всё. Как-то пришла к нам на станцию Валентина, старшая медсестра хирургического отделения, она жила с Наташкой на одной лестничной площадке. Ругалась и кричала она долго, называя нас всех сразу «чёртовыми эгоистами», которым «наплевать на живого человека». Оказывается, она случайно увидела у Натальи на руке два отмороженных на кладбище пальца, волоком притащила её к хирургам, которые ей эти пальцы оттяпали, потому что началась гангрена. Перевязывала её потом сама Валентина, потому что Наташка наотрез отказалась выходить из квартиры.
Выпустив пар, Валентина сбавила обороты и закончила неожиданно тихо.
– Вы бы видели, что у неё в доме творится! Мне кажется, она того… Я с ней разговариваю – никакой реакции, как будто не слышит…
Потом мы узнали, что хирурги больничный лист Наталье закрыли, но на работу она так и не вышла. В негодовании, даже в ненависти я отстраняла от себя всякие мысли о ней. В те дни она для меня просто перестала существовать. У всех наших сотрудников было, наверно, такое же состояние. Но однажды заведующая спросила меня:
– Ты что-нибудь знаешь про Наташу?
Я только затрясла головой.
– Сходи к ней… Сходи, узнай…
– Не могу… – Простонала я.
– Ирина… – Проявила она настойчивость. – Ведь вы дружили…
Конечно, в глубине души я понимала, что надо проверить, что происходит с Наташкой, но заставить себя пойти к ней у меня не было сил. И всё-таки на следующий день, спотыкаясь на каждой ступени знакомой лестницы, я поднялась в её квартиру. Почему-то я совсем не удивилась, что дверь оказалась незапертой и даже приоткрытой. Звонков в нашем бараке отродясь не водилось, я постучала достаточно громко один раз, потом ещё громче другой – никакого движения. Мне стало страшно, и я вошла.
Бог мой, что тут творилось! Под ногами хрустели какие-то разбитые стёкла, я перешагнула через разбросанные по полу вещи (думаю, они валялись здесь с того дня, как их, собираясь уезжать, лихорадочно разбрасывал Алексей), и пробралась в комнату. Здесь стоял тяжёлый, смрадный дух. На столе была гора грязной посуды, какие-то корки хлеба, заплесневелый чай в кружке… Самый настоящий бомжатник. Наталья лежала на диване, носом к стене, совершенно одетая, в каком-то засаленном свитере, завернувшись до подмышек в ватное одеяло в сером помятом пододеяльнике. Она дышала так тихо, что я обмерла от страха. Ноги у меня подкосились, и я, подняв с пола перевёрнутый стул, опустилась на него и замерла. Прошло несколько минут, я не решалась её позвать, а Наталья лежала совершенно неподвижно. Наконец, она медленно развернулась всем телом и мрачно взглянула на меня зелёными глазами. Я вздрогнула. Свой зелёный томный взгляд из-под пушистых ресниц Алёнка унаследовала от матери… Почему я никогда прежде этого не замечала?
– Что? – Хрипло спросила Наталья. – Зачем ты пришла?
Я была тогда ещё очень молода, никакого жизненного опыта у меня не было, и я не знала, что ей сказать в ответ. Я не продумала своих слов, которые надо говорить в такие минуты, поэтому растерянно смотрела на неё и молчала.
Наталья села. Она давно не мылась, волосы её были всклочены, лицо помято.
– Хорошо, – наконец, сказала она, прерывая затянувшуюся тишину. – Если ты всё равно пришла, помоги мне сделать вот это… – И она показала куда-то на потолок.
Я подняла глаза кверху и похолодела: прямо над моей головой на крюке рядом с разбитой люстрой болталась петля, скрученная из бельевой верёвки. Петля была разорвана. Я невольно скользнула взглядом по шее Наташки, закрытой воротником растянутого свитера. Поймав мой взгляд, она оттянула воротник книзу: вокруг тонкой шеи тянулась кровавая ссадина.
Мрачно усмехнувшись, она произнесла:
– Я два раза пробовала – не получается… Поможешь?
Она спрашивала совершенно серьёзно. Я понемногу приходила в себя.
– Наталья, – сказала я, наконец, принимая решение. – Ты сейчас пойдёшь ко мне, и поживёшь пока у меня…
Она не отозвалась.
– Тогда я вызову психбригаду из города. Выбирай.
Наташка посмотрела на меня стеклянным взглядом, мне показалось, что она меня не поняла.
– Я выбрала… У меня дома нет нужных таблеток, это было бы проще, чем… – Она опять показала глазами наверх. – Разве ты можешь понять… Я убийца. Я убила собственного ребёнка… Почему моя мать меня на вокзале бросила? Мне тогда двух лет не было… Ей надо было меня задушить. Я не должна была жить.
Наталья, наконец, оторвалась от дивана и встала. За прошедшие два месяца она страшно похудела. Сверху на ней был напялен свитер, но внизу были только рваные колготки. Тонкие длинные ноги сейчас походили на лыжные палки.
– Ты когда в последний раз ела? – Спросила я, чтобы переменить тему.
– Не знаю, – равнодушно пожала она плечами. – Не помню… Чай, кажется, утром пила…
В свалке из разбросанных вещей я нашла, во что её переодеть. Она почти не сопротивлялась, но подчинялась мне, словно сомнамбула.
Дома я приготовила ванну и вымыла её, словно старушку. Волосы у Натальи так скатались, что расчёсыванию не подчинялись и пришлось несколько прядей просто выстричь… Я уложила её в постель, и, к моему удивлению, она почти сразу заснула. Я закрыла дверь за собой на ключ и вернулась в её квартиру: надо было привести этот бомжатник в божеский вид. По дороге я заскочила к нашему больничному неврологу, по жизни и по медицине человеку очень опытному и знающему. Внимательно выслушала её советы, как себя вести с Натальей, получила вместе с советами несколько упаковок каких-то таблеток. Засучив рукава, я принялась выскабливать из Наташкиного дома накопившуюся грязь. Когда я вошла в кухню, туча тараканов разного калибра бросилась от меня врассыпную. В холодильнике во всех мисках и кастрюлях пенилась плесень. Что она ела в эти дни – понятия не имею. Покончив с кухней и, стиснув зубы, я решилась зайти в детскую. Немало часов провела я в этой комнате, ползая с Алёнкой по полу в поисках закатившегося куда-то шарика или потерянного безухого зайца… Когда девочка болела, Наталья не всегда брала больничный, надеясь на мою помощь. Мы работали посменно, и всегда можно было поменяться дежурствами с коллегами.
Я аккуратно собрала чистые Алёнкины вещи в большую сумку – не спрашивая мать, решила отдать их в детский дом, который был в нашем посёлке, и в котором когда-то пребывала сама Наташа.
Задним числом мы оформили ей отпуск без содержания, и дней через пять я смогла вывести её на работу. Заведующая у нас была – дама весьма преклонного возраста, но сердобольная и понимающая: не только Лабецкого покрывала, за что и поплатилась потом своим местом, но график Наталье сделала такой, как я просила. Поставили её специально в одну смену со мной, и диспетчеры на станции ей сидеть не давали, гоняли её по сан транспорту – то привезти рентгенотехника в больницу, то больного из больницы домой, то роженицу в родильное отделение…
Очень медленно Наталья приходила в себя. Я заставляла её есть, кормила почти с ложки. Старалась загрузить её какими-то домашними делами – постирать, погладить, приготовить обед, отправляла в магазин. Развлекала её всякими сплетнями и болтовнёй, к которым она совершенно потеряла интерес. Это тоже было моей работой. Временами я совершенно отчаивалась: Наташка подчинялась мне, как зомби, отвечала на мои вопросы односложно, разговоры не поддерживала и подолгу лежала на кровати лицом к стене. Но однажды я заметила, что цвет её лица приблизился к человеческому, что на мой вопрос она подняла глаза и ответила фразой из трёх слов, а когда на дежурстве она вдруг подсела ко мне, сложив, как всегда, ногу перочинным ножичком, я в душе возликовала…
Об Алёнке мы никогда больше не говорили.
Несколько раз к нам в отделение заходил главный. Заглядывал с порога в палату Лабецкого. Постоит, посмотрит – и уйдёт. Только в первый раз, когда пришёл, бросил через плечо.
– Смотри, чтоб не помер… Мне голову снесут… А я тебе.
Я не в первый раз слышала эти угрозы. Поступит какой-нибудь больной из клана начальников – вся больница должна вокруг него на крыльях порхать. Но туберкулёз – не простой бронхит: после затяжного лечения редко кто возвращается в насиженное кресло, и вышестоящее руководство быстро теряет интерес к своему птенцу, выпавшему из тёплого гнезда…
Первое время мне часто звонили прежние сотрудники Лабецкого, какие-то люди, называвшие себя его друзьями, но в их вопросах ощущалось больше любопытства, чем сочувствия. Но, как и следовало ожидать, очереди из посетителей к нему не намечалось. Никто из коллег Лабецкого до нашего стационара пока не доехал. Правда, привезли большой телевизор из его кабинета. Что тут скажешь? Телевизор в тот момент был именно тем, что было нужно нашему тяжёлому больному. Молчаливый водитель сам и установил его на месте стоявшего в палате, который давным-давно надо было списать. Искоса, с любопытством, смешанным с ужасом, он поглядывал на своего бывшего начальника, бормотавшего что-то в бреду, но так и не решился о чём-нибудь спросить, только оставил под расписку большую сумму денег – кажется, зарплату Лабецкого и какую-то премию… Часто звонил его тесть, изредка – жена, но прошёл месяц, а родственники у нас так и не появились.
Понемногу телефонные звонки, достаточно назойливые в первое время, становились всё реже… Однажды из комитета здравоохранения позвонила начальствующая дама, отвечающая за госпитальные учреждения. Она достаточно профессионально расспросила меня о течении заболевания Лабецкого, о лечении, поинтересовалась, не нужна ли какая-нибудь помощь… В заключение, не мудрствуя лукаво, задала два прямых вопроса: как долго продлится лечение и каков прогноз. Я, конечно, понимала, что именно интересует комитет здравоохранения. На первый вопрос я ответила уклончиво, я – не Господь Бог, откуда мне знать, как долго будут закрываться его каверны… Но на второй ответила прямо – инвалидности, в любом случае, не избежать. Главный врач – инвалид – это нонсенс. Я прекрасно понимала, что после этих моих слов карьера Лабецкого покатилась под откос. Но врать я так и не научилась, и дипломатическими способностями никогда не отличалась. И какой смысл лукавить в данном случае? Что бы изменилось через полгода или год? Дама помолчала, потом вежливо меня поблагодарила, просила обращаться без церемоний, если для Лабецкого что-нибудь понадобиться, и звонки из комитета прекратились насовсем. Всё реже звонили и с его работы: жизнь брала своё. Любопытство – не сострадание, оно иссякает очень быстро, и судьба надолго заболевшего начальника всё меньше интересовала его бывших подчинённых. Я грустно констатировала про себя данный факт – сценарий этого сериала мне был давно известен. «Се ля вуха!», как любил говорить Лабецкий в пору нашей совместной службы на «Скорой».
Однажды, когда он ещё был совсем тяжёлым, я решила привести к нему нашего батюшку. По определённым дням недели отец Михаил проводит пасторские беседы с медсёстрами и санитарками в конференц-зале больницы. Там я и нашла его. Народу в зале, как всегда, было очень много. На эти встречи со священником собирается не только дежурная смена, но приходят и те сотрудники, у которых выходной день. Это всегда радует.
Я просочилась в дверь и присела на краешек стула в глубине зала, ожидая окончания беседы.
– Воспитать своё сердце непросто. – Говорил отец Михаил. – Воспитать ум значительно легче, каждый в пределах своих способностей может его развить. А наше сердце – очень сложный духовный орган. И главная сложность на пути воспитания своего сердца – это наш страх перед чужим страданием, перед чужой душевной болью, духовной трагедией. Мы сужаем и защищаем своё сердце, потому что боимся видеть человека в его страдании, боимся услышать крик его души. Мы отстраняемся от него и закрываемся. И, закрываясь, мы делаемся всё уже и уже… Чтобы воспитать своё сердце, надо постоянно спрашивать себя: могу ли я впустить в своё сердце чужое страдание? Умею ли я сострадать любому человеку, которому больно, страшно, холодно или голодно?
Я осторожно переводила взгляд с одного задумчивого лица на другое. Конечно, далеко не все наши сёстры и санитарки идеал милосердия. Иногда такое выкинут – хоть стой, хоть падай… Одну медсестру за постоянное хамство с больными мне пришлось даже уволить, но проблемы остались. С санитарками вообще беда. Санитарки наши – все тётки местные. Из города санитарить к нам в больницу никто не поедет, так что выбирать не приходится. Как говорится, «что имеем…». Есть несколько особ крепко пьющих. В нищие девяностые последнее больничное бельё пропивали. Но так и работают у нас, куда от них денешься? Из одного отделения выгонят за пьянку, недели через две, смотришь, – уже на другом больных кормит… Но и верующие сотрудники тоже есть в каждом отделении. С верующими всегда легче работать: меньше всяких срывов, разборок и препирательств… Поэтому так важно, что наш батюшка часто встречается с персоналом больницы.
– Так что, я должна разделять страдания бомжа, который только что из тюрьмы вышел? – Спросила с места, не сдержавшись, одна из сестёр.
На неё зашикали, кто-то засмеялся. Отец Михаил кивнул и продолжил.
– Я именно о таком сострадании говорю, когда мы не разбираемся, прав человек или виноват… Не закрываем глаза и не зажимаем уши. Но чаще всего именно так мы начинаем искать себе оправдание. Страдает – да! Но разве не он сам в этом виноват? И почему именно я должен отозваться? Разве нет никого другого? Разве он мне самый близкий человек?.. Ведь так? Но чужого страдания нет, потому что мы друг другу не можем быть чужими… Если вдвоём страдание нести, то оно пополам делится… Апостол Павел говорил: «Друг друга тяготы несите…».
– Всё равно непонятно! – заупрямилась всё та же медсестра – Мне что, тоже надо туберкулёзом заболеть?
Отец Михаил по-доброму улыбнулся.
– Если позволите, я Вам сейчас о своём личном опыте расскажу… Здесь одни медики, Вы меня поймёте… Я тогда только закончил ординатуру по хирургии и сам напросился в «горячую точку»… А там сразу попал в переплёт. Прибыла партия солдат подкрепления, совсем дети, только из-под материнского крыла… И сразу в бой… Очень много было раненых. Я тогда принял подряд человек десять, если не больше. Очень старался сделать для них всё возможное, не ошибиться, ничего не пропустить. И спешил, чтобы, как можно скорее всем помочь. Обрабатывал раны на руках, ногах, спинах, груди… Когда освободился, пошёл их проведать… Смотрю на них – и ни одного человека не узнаю. Только вижу, в глазах каждого мальчишки до сих пор стоит дикий ужас, который они пережили во время боя. Они так и не смогли выйти из шока… Очень стыдно мне стало тогда. И после, когда прибыла следующая группа раненых, я вёл себя с ними по-другому. Я стал с ними разговаривать. Мои руки и голова работали, выполняя свою задачу, но я часто смотрел в лицо каждому и задавал самые пустяковые вопросы: как тебя зовут? где тебя ранили? очень было страшно? кто был рядом? Они мне отвечали, и, отвечая на мои вопросы, успевали освободиться от своего страха, выливали его на меня. И потом в палате на обходе я, во-первых, всех узнал, а, во-вторых, убедился, что шок у них прошёл, что они успокоились.
После окончания беседы отца Михаила окружили, Я тоже подошла поближе и встала за спинами сестёр так, чтобы он меня увидел. Встретив мой нетерпеливый взгляд, батюшка всех отпустил и подошёл ко мне. Я попросила его пройти к Лабецкому.
– Сергей Петрович! – Позвала я, когда мы вошли в палату.
Он был совсем плох тогда: лежал с закрытыми глазами и никак не отозвался на моё обращение. Отец Михаил сел возле его постели и взял в руки его горячую влажную ладонь. Лабецкий с трудом приоткрыл глаза, взглянул, но не удивился, только почти прошептал, с трудом разжимая спёкшиеся губы.
– Я неверующий…
Отец Михаил погладил его руку. Сказал тихо и спокойно.
– Ну и что? Я ко всем больным прихожу, которые ещё не встают… Я знаю, Вам сейчас трудно со мной разговаривать, ну, и не надо… Будете лучше себя чувствовать, мы непременно поговорим. А пока… Вы – человек неверующий, а я – верующий… И очень хочу Вам помочь. Вы не напрягайтесь, лежите себе и слушайте, как я сейчас буду с Богом разговаривать и о Вашем здравии его просить.
Отец Михаил встал, отошёл к окну и начал тихо молиться. Лабецкий затих, вытянулся на постели, снова закрыв глаза. Я вышла из палаты, оставив их наедине. Я была уверена, что отец Михаил найдёт нужные слова. Лабецкого надо было спасать, и наш батюшка всегда нам в этом помогал.
Пришла зима, и с установлением снежного покрова Лабецкому стало лучше. Массивное лечение выполняло свою работу: в голове понемногу прояснялось, перестали дрожать конечности, не таким мучительным был кашель. Он покорно переносил все манипуляции, которым подвергала его Соловьёва: пневмоперитонеум («поддувание», как называют эту процедуру больные), капельницы, уколы, килограммы огромных таблеток, которые не хотели глотаться и вставали поперёк горла… Об алкоголе он не вспоминал, а при мысли о сигаретах начинало тошнить. Туман перед глазами растворился, и первое, что видел Лабецкий теперь по утрам – это чёткий абрис прямоугольника окна со старой рамой, с которой слоями слезала краска, наложенная многократно за прежние годы. Он теперь уверенно добирался до туалета и понемногу бродил по палате, правда, уставал довольно быстро и торопливо опускался на свою постель. Его трижды осматривали консультанты из института туберкулёза. Но к себе не забрали, посчитав, что лечение эффективно, а как только больной сможет выходить на улицу, прогулки среди сосен и красных гранитных скал пойдут ему только на пользу. Говорят, что ионы этого красного гранита обладают какими-то лечебными свойствами для лёгочников, и финны в прежние времена, не зная никаких антибиотиков, лечили здесь своих страждущих только климатотерапией.
Соловьёва постоянно передавала Лабецкому приветы от звонивших, говорила, что родственники и друзья обижаются на него за молчание, предлагала воспользоваться своим телефоном. Но депрессия ещё долго не покидала его. Из той, добольничной жизни ни видеть, ни слышать никого не хотелось.
Но, наконец, наступил день, когда он вспомнил о своём мобильном телефоне. Лабецкий долго искал его, трубка и зарядное устройство оказались на самом дне дорожной сумки, с которой он сюда приехал. Зарядив мобильник, он ещё потянул пару дней. Телефон молчал. Вечером третьего дня он позвонил Раисе. Как она обрадовалась, Боже мой! У него неожиданно потеплело на сердце: ему вдруг показалось, что он кому-то нужен. А всегда молчаливая Раиса вдруг затрещала без передышки, как цикада. Она, конечно, спросила, как он себя чувствует, но ответа дожидаться не стала, сразу начала рассказывать о делах в родной больнице. Она трещала, а Лабецкий с удовольствием слушал знакомый голос, не слишком вникая в смысл её слов: думать о делах ещё не было сил, и смешно было руководить больницей, находясь в туберкулёзном стационаре. Но потом вдруг что-то зацепило его, и тепло, ненадолго возникшее в его сердце, стало быстро таять и растворяться. Всё, о чём рассказывала Раиса, касалось только её лично.