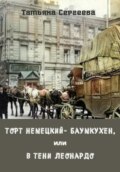Татьяна Сергеева
Фристайл. Сборник повестей
– Оставьте его себе на память. Я сегодня всё исправлю на сайте и помещу туда с Ваших слов всю новую информацию о Бахтиной.
И, почти извиняясь, сказала Марине.
– Вы не обижайтесь, что я Вас так встретила. Понимаете, к нам приходит много родственников балетных людей, и живых, и давно почивших. Приносят всякую домашнюю чепуху: дачные снимки, фотографии внуков, а то портреты любимых кошек и собак. Отнимают уйму времени. А Елена Бахтина… Она ведь только одна из тех многих молодых талантливых артистов, и балетных, и оперных и музыкантов, которые потеряли профессию из-за войны. А после победы на сцену Кировского театра вернулось столько великолепных балерин! Какие это были имена! Кто-то из них приехал из эвакуации. А кто-то пережил блокаду в Ленинграде. Каждой из них можно поклониться в пояс. И, конечно, такие начинающие артистки, пусть даже очень талантливые, как Бахтина, забылись – они уже только история, история театра.
– Ну, и чего ты скисла? – Валентина Георгиевна обняла Марину за плечи. – Ты ждала чего-то особенного?
Они сидели втроём на кухне – две женщины и Константин. Разговаривали вполголоса – дети спали, утомлённые дневной экскурсией в Кронштадт.
– Столько лет прошло, Марина… – Константин смотрел сочувственно и понимающе. – Она ведь так мало успела сделать на сцене.
Очень горько было Марине слушать эти слова.
– Она многое успела сделать для меня.
– Кто знает – может быть, это и была её главная роль.
В праздник Девятого мая дети рвались на улицу. Но их решено было не выпускать, пока не пройдёт военный парад, потом демонстрация и шествие Бессмертного полка – слишком велик был риск потеряться в незнакомом городе. С детьми решено было пойти гулять во второй половине дня и, если удастся, посмотреть фейерверк где-нибудь в центре. Чтобы снять эмоциональное напряжение, Константин отправился на улицу за мороженым и пепси-колой для всей делегации.
С самого утра ребята не отходили от телевизора, а потом облепили окна хостела. Толпы людей заполонили празднично украшенный Невский проспект. Но просто гуляющих и бесцельно фланирующих постепенно стали сменять пешеходы с большими фотографиями в руках – это стекался к центру города Бессмертный полк. Валентина Георгиевна долго объясняла детдомовским детям, не знающим своих родителей и самых близких родственников, чьи фотографии несут взволнованные люди по центральному проспекту бывшего Ленинграда. Даже Марине трудно было понять, что же такое это чувство гордости за родного по крови человека. Ведь, наверняка, и в её роду был кто-то, кто воевал с фашистами, может быть, был ранен или даже убит. А, может быть, вернулся с войны живой и здоровый, увешанный медалями за отвагу… Как жаль, что никто и никогда не расскажет ей об этих далёких и родных людях, её предках! И никогда она не сможет пронести фотографию кого-нибудь из них в рядах Бессмертного полка.
И вдруг её сердце замерло. Есть, есть такой человек в её жизни! И фотография тоже есть! Да ещё какая замечательная фотография!
Марина рванулась к своей дорожной сумке. Вот, вот он этот портрет – балерина в пачке с наброшенным на плечи замасленным ватником, стоящая в пуантах на ящике из-под снарядов среди покалеченного снарядами зимнего леса.
Портрет был довольно большой, нести его в руках было бы неудобно, неловко. Марина заметалась по комнатам в поисках какого-то приспособления. И тут вспомнила про Галкин сачок.
– Галина!
– Чё? – отозвалась девочка, не отрываясь от окна.
– Не «чё», а «что»… Сколько можно говорить! Где твой сачок?
– Под кроватью… – Галка не слишком охотно подошла к ней.
– Тащи его сюда.
– Ну, блин! Зачем?
– Галка! Опять «блин»!
– Тебе сказали – «тащи», значит, тащи!
Это вмешался Фёдор. Он уже несколько минут наблюдал за Мариной, сначала с любопытством, а потом и с пониманием.
Галка, вздохнув, принесла свою драгоценность. Марина повертела сачок в руках, соображая, как прикрепить к нему фотографию.
– Я помогу.
Фёдор взял из её рук древко. Без малейшего сожаления оборвал остатки красной марли, болтавшейся на проволочном кольце. Галка было заголосила, но мальчик пребольно щёлкнул её по лбу.
– Заткнись!
Она мгновенно примолкла и только с любопытством следила за его дальнейшими действиями.
– Дайте пластырь! – Велел Фёдор Марине.
Марина рванулась к своей аптечке. Нашла ленточный пластырь и протянула ему. Теперь за их действиями, отлепившись от окна, следили все дети. Через несколько минут портрет был накрепко прикреплен пластырем к проволочному кольцу бесславно почившего сачка. Выглядело это вполне пристойно.
В это время вернулся Константин с двумя большими пакетами, наполненными мороженым и бутылками с водой. Он выложил все сокровища на кухонный стол.
– Налетай!
– Валентина Георгиевна, можно? – Взмолилась Галка.
– Конечно, можно.
Константин, увидев большой портрет на древке, подошёл к Марине.
– Ты хочешь пойти туда? – Показал он на окно, за которым гудел Невский. – Это Елена Ивановна?
Марина кивнула.
– Валентина Георгиевна, я уйду на два-три часа. С этим портретом. Я пойду туда, ко всем… Потом расскажу детям об этой женщине.
– Я пойду с тобой. – Засобирался Константин. – В такой толпе немудрено и потеряться.
Марина немного смутилась.
– Если хочешь…
Валентина Георгиевна обрадовалась.
– Конечно, идите вдвоём. Мне спокойнее будет.
Едва они вышли на улицу, как были оглушены звуками духового оркестра, мелодиями песен военных лет, несущимися из динамиков со всех сторон. «Прощание славянки», «Катюша», «Землянка», «Синий платочек» чередовались, заглушали и сливались одна с другой, составляя какое-то фантастическое попурри. И люди, путаясь в словах, со смехом поправляя друг друга, подхватывали знакомые мелодии. Подпевали то Утёсову, то Руслановой, то Шульженко… Плотная многоголосая толпа заполнила проезжую часть Невского проспекта. Кого только не было тут! Люди разных поколений объединились в этом праздничном шествии. Несколькими рядами шли парни и девушки в гимнастёрках военных лет, и там и тут мелькали яркие национальные костюмы. Родители везли в колясках малышей, ветераны, даже опираясь на трости, старались пройти, хотя бы несколько метров, в одном ряду с молодыми. Откуда-то сбоку к старикам подскакивали дети, иногда совсем маленькие, дарили цветы и убегали назад к своим улыбающимся родителям… Люди несли знамёна, флаги, какие-то транспаранты. Но смыслом этого шествия, его сердцем были фотографии. Тысячи фотографий, раскачивающихся над головами людей. На фотографиях были женщины и мужчины, кто-то в военной форме – офицеры и рядовые, с генеральскими погонами или довоенными лычками, а кто-то – в обычной гражданской одежде. Были здесь и большие портреты героев войны, увешанных орденами и медалями, и любительские снимки, выцветшие и блёклые, очевидно, единственные, оставшиеся в семье от погибших родственников. Но даже совсем невыразительные фотографии были любовно увеличены в фотоателье, и теперь эти простые лица тепло улыбались своим потомкам. Мальчишка лет семи, сидел на плечах отца и крепко держал над головой целых три портрета, расположенных один над другим, а позади Марина заметила мужчину, несущего сразу четыре фотографии, наклеенных на большой лист картона.
Оказавшись внутри этого шествия, она растерялась.
– Нам туда…
Константин крепко сжал её широкую ладонь и повлек внутрь толпы. И, как-то сразу вписавшись в общее настроение, в общий строй, они слились с ним и пошли по Невскому проспекту бывшего Ленинграда
Рядом с ними весёлый дяденька-баянист громко заиграл «Катюшу», и толпа радостно подхватила, запела эту знакомую всем песню.
И Марина тоже запела. Константин взял из её рук портрет Елены Ивановны, высоко поднял над головой и тоже подхватил, запел.
– «Пусть он землю бережёт родную»…
И почему-то им обоим в этот момент было удивительно тепло и радостно находиться в этой толпе. Быть рядом друг с другом.
День выдался жаркий. Душный. Отец Михаил возвращался из православного детского лагеря, куда Наташа, впервые после рождения младшего Петруши, устроилась воспитательницей. Младшие дети находились там вместе с матерью. В городе за хозяйку осталась старшая Ксения, которая готовилась к поступлению в семинарию на регентский факультет. Отец Михаил провёл два прекрасных дня в обществе жены и детей, но рано утром заторопился в город – ждали неотложные дела в храме. Накануне поездки в лагерь отказал двигатель его машины. Пришлось добираться своим ходом: сначала больше трёх часов трястись в автобусе, а затем идти пешком по лесу без малого километров пять. Теперь этот путь надо было преодолеть в обратном направлении. Попутчиков не нашлось. Просёлочная дорога была пустынна, только в густых кронах деревьев вовсю звенели невидимые птицы. Не смотря на то, что дорога петляла в тени густого лиственного леса, отец Михаил изнемогал от жары. Он то и дело поглядывал на часы: рейсовый автобус – не поезд, может проскочить мимо безлюдной остановки и на пятнадцать минут раньше указанного в расписании времени. Беспокоился он не напрасно: едва он выбрался на шоссе, и подошёл к полуразвалившемуся павильону остановки, как вдали замаячил автобус. Это был старенький, но вполне резвый «Пазик», каких много колесит по разбитым дорогам провинции. Кроме священника на остановке никого не было, и пожилой водитель уважительно распахнул дверь прямо перед ним.
Приподняв полы рясы, отец Михаил поднялся на высокие ступеньки автобуса.
Многие пассажиры знали отца Михаила, здоровались. Поздоровался и он сразу со всеми. А с одной женщиной, давней прихожанкой храма, даже раскланялся. Свободным было только единственное место в самом конце салона, рядом с каким-то парнем в низко надвинутой на лоб бейсболке. Он сидел, отвернувшись от всех пассажиров, и пристально смотрел в окно, очевидно, думая о чём-то своём.
Отец Михаил протиснулся по узкому проходу салона, цепляясь рясой за многочисленные коробки, сумки и огромные набитые чем-то пакеты, не без труда нашёл место на багажной полке для своей небольшой дорожной сумки, и опустился на свободное сиденье. Парень не повернулся, не проявив ни малейшего интереса к появлению соседа. Автобус тронулся и резво побежал вперёд. Все окна, включая верхние люки, были распахнуты настежь, неведомо откуда появившиеся тучи закрыли солнце, и в салоне стало вполне комфортно. Потянуло в сон, отец Михаил успел задремать, но вдруг где-то впереди заканючил ребёнок, требуя немедленного посещения туалета.
Водитель затормозил, автобус торопливо покинула мамаша с ребёнком. А за ними выскочили ещё несколько пассажиров и разбрелись по кустам. Когда все вернулись на свои места, и дверь было захлопнулась, водитель не смог завести мотор. Сделав несколько бесполезных попыток, он повернулся к пассажирам, испуганно ожидавшим приговора.
– Всё – приехали! Перегрелся двигатель. – Спокойно сказал он, давно привычный к подобным ситуациям. – У нас два выхода: либо мы сидим здесь неопределённое время, пока мотор остынет, либо все вместе толкаем автобус.
Через несколько минут все пассажиры, способные к физической работе, столпились у выхлопной трубы своего транспортного средства. Три крепких мужика из местных, парень – сосед отца Михаила и сам священник представляли основную физическую силу. Рядом с ними толпились говорливые женщины средних лет. Две старушки вышли из автобуса и встали у края дороги, с любопытством наблюдая за происходящим. Отошли в сторону и две молодые женщины с маленькими детьми, и мужчина средних лет на протезе.
Вместе со всеми отец Михаил прижался плечом к горячему боку автобуса, ожидая команды водителя.
– Куда вы, батюшка! – Заволновалась одна из женщин, оказавшаяся рядом с отцом Михаилом. Это была та самая прихожанка, с которой он раскланялся при входе в автобус. – Вам после такого ранения нельзя!
– Правда, батюшка… Слыхали мы про Ваши беды. – Подхватили мужики. – Неужто без Вас не обойдёмся?
Отец Михаил смутился было, но тут же почувствовал, как кто-то решительно сжал его локоть.
– Отойдите, отец Михаил. Справимся без Вас. Я за двоих управлюсь.
Священник оглянулся. Рядом с ним стоял парень в бейсболке и смотрел на него прямо, не опуская острых колючих глаз. Он сразу узнал его – это был Николай.
– Толкаем по моей команде. – Строго сказал водитель, высунувшись из кабины. – Аккуратно! Не лезть под колёса!
Николай прижался плечом к автобусу, и больше не поворачивал головы в сторону отца Михаила. Священник отошёл в сторону и стал про себя молиться, призывая на помощь святителя Николая.
Наверно, святитель услышал его молитву: автобус, общими усилиями сдвинувшийся с места, ожил, двигатель заработал, и пассажиры стали быстро занимать свои места.
Отец Михаил хотел было пропустить Николая на прежнее место к окну, но тот отодвинулся от кресел.
– Садитесь. Я раньше выйду.
Священник возражать не стал, сел у окна.
Некоторое время ехали молча, не глядя друг на друга. Совсем неожиданно отец Михаил услышал.
– Я – не беглый каторжник. Меня освободили по УДО.
Отец Михаил улыбнулся.
– Ну, и слава Богу! Теперь домой?
– У меня дома нет, и Вы это знаете. Я в Воскресенский монастырь еду.
– В монастырь?
– Да. Хочу замолить свой грех перед Вами и перед людьми.
– Перед Богом, Николай.
Он опустил голову и вздохнул.
– Да, перед Богом… Поживу там годик-другой, поработаю трудником.
– Помоги, Господи!
– Наш лагерный батюшка мне благословение дал. В монастыре, говорят, никто ни о чём не спрашивает. В душу не лезет и языком не мелет. Я в лагере неплохим обувщиком числился, без работы, думаю, не останусь. А этот монастырь я с детства знаю, нас в детдоме часто туда возили. Мне там очень нравилось. Потом буду решение принимать: может быть монахом стану.
– Подумать надо. Это решение слишком серьёзное.
– Да уж, куда серьёзнее. Я в колонии думать научился. А на воле я никому не нужен.
– Это неправда. Марина о тебе очень беспокоится.
Николай довольно долго молчал, потом сказал.
– Маринка – отличный парень. Мы дружили. Только разошлись наши дорожки навсегда: у неё своя жизнь, у меня – своя. Ничего общего. Вы не говорите ей, что меня видели. Пропал без вести – и всё. – И ещё раз попросил. – Пожалуйста, не говорите.
– Не скажу, раз ты просишь.
Водитель ПАЗика, глядя в зеркало, оглядел салон.
– Где там парень, что про монастырь спрашивал? Давай, выходи!
– Спасибо. Я сейчас!
Николай заторопился, снимая рюкзак с багажной полки.
– Сразу за остановкой просёлочная дорога в лес уходит. – Пояснил отец Михаил. – По ней иди прямо километров шесть. Никуда не сворачивай. До темноты доберёшься. С Богом!
И благословил Николая.
Выскочив на дорогу, парень оглянулся на окно автобуса. Не улыбнувшись, махнул священнику рукой. Отец Михаил кивнул ему в ответ. Автобус тронулся с места и покатил, набирая скорость, к родному городу. Отец Михаил не стал оглядываться.
Про УДО он знал. Ещё несколько месяцев назад по своим каналам он связался по телефону со священником, назначенным в новый храм колонии, человеком опытным, пожилым. Потом периодически переписывался с ним по электронной почте, узнавая новости о Николае. Батюшка писал ему, что заключённый Найдёнов – человек замкнутый, ни с кем не дружит и общается с окружающими только по необходимости. Работает хорошо. Храм посещает и несколько раз исповедовался. А потом настоятель сообщил об УДО.
Николай был крестником отца Михаила. Священник чувствовал себя ответственным за его будущее, и не собирался терять парня из виду. А про себя решил сегодня же вечером позвонить по телефону наместнику монастыря отцу Никодиму, давнему своему другу.
Марина, сидя на скамейке в парке, сосредоточенно думала о чём-то. День клонился к вечеру. Заканчивался выходной, завтра надо было выходить на работу.
Подняв голову, она увидела подошедшего Костю и рядом с ним подпрыгивающую от восторга Галину.
– Ну, и зря ты не пошла с нами, Марина! – Звонко завопила Галка. – Ты даже представить себе не можешь, до чего было здорово на этом Колесе обозрения!
– Я столько раз тебе говорила, что боюсь высоты. Эти аттракционы не для меня.
Она взглянула на Константина и фыркнула. Потом с удовольствием запустила пальцы в его густые рыжие волосы.
– У тебя причёска сегодня неприличная. Елена Ивановна непременно сказала бы, что у тебя колтун на голове.
– Это у меня от страха волосы дыбом встали. У нас только Галка высоты не боится. А расчёска у меня выпала из кармана на самом верху. Причеши своей.
Марина с готовностью выполнила его просьбу.
– Ну, вот. Теперь ты снова похож на человека.
Галка наблюдала за ними пристальным полицейским взглядом.
– А я ещё на карусель хочу! Константин Игоревич, пойдёмте на карусель!
Костя отмахнулся.
– Нет, Галка… Я тоже – пас. Опять причёску испорчу. Мы тебе билет купим и посмотрим, как ты наслаждаешься. Иди, занимай очередь в кассу.
Потом они стояли плечом к плечу у заборчика, отгораживающего вертящуюся карусель, и молчали. Когда инструктор освободил Галку от страховочных ремней, она, вполне счастливая, подскочила к ним.
– Нам пора, Галчонок.
Девочка вздохнула и посерьёзнела.
– А в следующие выходные вы меня опять заберёте?
– В следующие выходные мы пойдём в гости к моим родителям, – серьёзно ответил Константин.
– В гости? – Поразилась Галка. – Зачем?
– Ну, должны же они, наконец, познакомиться с моей сестрой! – Улыбнулась Марина.
Девчонка повисла у неё на шее.
– Ты теперь моя сестра? И я твоя сестра тоже? И мы будем жить вместе?
– Конечно! Теперь мы будем жить все вместе. Только сейчас нам надо спешить, я обещала вернуть тебя к ужину.
– Ладно, пошли.
Но не успели они сделать и нескольких шагов, как Галка, с радостным воплем, бросилась поднимать что-то с земли.
Марина сердито схватила её за лямку сарафанчика.
– Дай-ка мне свою правую руку!
Она крепко сжала её грязную ладошку.
– А мне – левую! – Велел Костя.
Такая позиция девочке очень понравилась. Не в силах удержаться, она весело подпрыгивала на ходу и лукаво поглядывала на улыбающихся Марину и Константина.
Фристайл
Я посмотрела на часы: приём заканчивался через полчаса. Едва вышел за дверь очередной больной, отсидевший в очереди за пустяковой справкой не менее полутора часов, как на пороге показалась Красильникова. Я виновато посмотрела на свою медсестру Татьяну Фёдоровну– она, поджав губы, многозначительно взглянула на меня. И мы обе дружно подавили вздох – наш приём растягивался на неопределённое время.
– Здравствуйте, – тяжело выдохнула Красильникова в сторону моего стола.
Это была больная, каких немало на моём участке: огромная, грузная, со свистящей одышкой. Я давно знаю эту пожилую женщину. У неё тяжёлый диабет со всем сопутствующим комплексом заболеваний. Она состоит на учёте, кажется, у всех узких специалистов, а в перерыве между посещениями их кабинетов приходит ко мне. Вся жизнь её проходит в коридоре поликлиники. Мне её очень жаль. Я кожей чувствую, как тяжело ей жить на белом свете. Но я ничем не могу ей помочь, хотя очень стараюсь по мере своих знаний об этом тяжёлом заболевании.
Отработанным жестом я показываю Красильниковой на стул.
– Как дела? – Спрашиваю, и тут же поправляюсь, испугавшись бесконечной череды жалоб, готовых обрушиться на мою голову. – Чем я могу Вам помочь?
– Замучило давление… – Выдыхает больная, и таким же заученным жестом протягивает свою руку к моему тонометру.
– Я сначала послушаю сердце. Раздевайтесь.
Красильникова начинает раздеваться. Сначала шаль, потом – кофта, потом блузка, потом…
Я смотрю на Татьяну Фёдоровну, а Татьяна Фёдоровна смотрит на меня. За дверью сидит длиннющая очередь из страждущих, больше половины которых, и в самом деле, нуждаются в моей помощи.
По плану у меня двенадцать минут на человека. Шесть человек в час. Вот таких, как эта женщина, которая сидит напротив меня и дышит горячим свистящим дыханием почти в самое моё лицо. Кто из нас сейчас несчастнее – я не знаю.
Я задаю вопросы, хотя ответы на них знаю заранее. Одышка, не слушаются ноги, перепады артериального давления… Больная говорит, а я – пишу. Она говорит и говорит, а я пишу и пишу. Татьяна Фёдоровна уже несколько минут кружится вокруг нас, делает мне знаки – быстрее… Она шустрая, добродушная старушка, давно пенсионерка, но дома не сидится, да, видимо, и не на что сидеть – совершенно одинока. Иногда она мне очень помогает, иногда, вот как сейчас, раздражает: я и без неё знаю, что с этой больной мы увязли надолго. Я достойно выполняю свой врачебный долг и, выполнив его, пытаюсь прервать этот затянувшийся визит.
– Одевайтесь… – Мягко говорю я больной.
Она сидит передо мной полуголая, толстая, рыхлая. По всему кабинету расползается кисловатый запах её несчастного тела. И вдруг она начинает плакать. К этому я никак не могу привыкнуть.
– Я не хочу жить, доктор…
И что я должна ей ответить? Может быть, в её годы и на её месте я вообще бы… Ну, не знаю, чтобы я сделала…
Татьяна Фёдоровна, сдерживая раздражение, потихоньку начинает помогать ей одеваться.
– Ирина Владимировна вы верующая? – Спрашивает она, застёгивая блузку на её обвисшей груди. – Вы сходите в церковь, поговорите с батюшкой, вот увидите, Вам на душе полегче станет…
Она почти волоком тащит больную к выходу. Мне стыдно поднять глаза.
Из открытой двери кабинета до нас доносится недовольное роптание очереди – как долго!
Время приёма подходит к концу, а в коридоре ещё человек десять.
Я встала, распрямляя спину, затёкшую от многочасового сиденья, подвигала плечами, потопталась и снова села. Дверь распахнулась и, отстранив очередного больного, готового просочиться в наш кабинет, вошла заведующая отделением и металлическим голосом произнесла.
– Лариса Петровна, когда всех примите, зайдите ко мне!
И сразу вышла. Мы с Татьяной Фёдоровной опять понимающе переглянулись. За два года совместного творчества мы научились понимать друг друга без слов.
– Я тогда пойду, Лариса Петровна? – Спросила она, когда, наконец, все больные были приняты.
– Конечно… – Вздохнула я и отправилась на суд Линча.
Начальница моя даже головы не подняла, когда я постучалась и вошла. Перед ней на столе лежала целая гора медицинских карточек. Открыв одну из них, она торопливо что-то в ней писала. Почти от самых дверей я увидела, что это была карточка моего больного. У меня до сих пор сохранился крупный детский почерк. Я до сих пор, как в пятом классе, выписываю все чёрточки и закорючки. Все врачи на свете пишут так, что сами потом с трудом читают написанное. «Писать пишу, а читать в лавочку ношу», так говорила про них моя мама. Но именно поэтому в нашей поликлинике любой инспектирующий чиновник из страховой компании начинает свою деятельность с проверки моих карточек, где всё читаемо и понятно, а в остальных – попробуй, разберись. У меня всё видно – здесь температуру у гипертоника не поставила, здесь у гриппозного студента не отметила артериальное давление… Есть о чём поговорить! Я к этому давно привыкла. И сейчас ждала того же. Заведующая отделением, наконец, подняла голову и взглянула на меня.
– Садитесь, Лариса Петровна. – Она тяжело вздохнула. – И что мне с Вами делать, ума не приложу…
За время сегодняшнего приёма я страшно устала, хотелось есть. В Справочном меня ждала пачка адресов с вызовами на дом. Жизнь вдруг показалась мне такой беспросветной и удручающей, что я опустила голову, и на мой помятый за день халат ливнем хлынули крупные слёзы. Я даже носовой платок не успела вытащить.
– Ну, вот… – Расстроено проговорила моя заведующая. – Опять… И как с Вами разговаривать прикажете?
Я, наконец, достала свой платок, и, вытерев слёзы, беззвучно высморкалась.
– Лариса Петровна, – моя начальница вовсе не была аспидом, я хорошо её понимала. – Лариса Петровна, ну, возьмите себя в руки… Я нисколько не сомневаюсь, что Вы – внимательный и хороший врач. Иногда Вы демонстрируете очень высокий уровень квалификации, далеко не все наши врачи могут с Вами потягаться, но…
– Я знаю… – Громко всхлипнув, я не дала ей договорить. – Я всё знаю… Я очень медленно принимаю больных, невнимательна при оформлении карточек, я – плохой участковый врач… – И вдруг, совершенно неожиданно для самой себя я набрала воздуху в лёгкие и выдохнула.
–Я уволюсь, Валентина Фёдоровна, я не могу больше работать в поликлинике!
Я не знаю, в какой момент пришло ко мне это решение, но вдруг я почувствовала, что оно абсолютно правильное. Меня тошнит от поликлиники. Так я и сказала своей начальнице. Она вдруг испугалась. Ещё бы! Участковых врачей не хватает, никто из молодых не хочет идти на эту проклятую Богом работу. Мы ещё долго говорили каждый о своём, но я ревела, трясла головой и с каждой минутой убеждалась, что неожиданно принятое решение единственно верное. Руки у меня сейчас трясутся, как у больного паркинсонизмом. Уже давно. Это в двадцать пять лет! Глаза постоянно наготове: только кто-нибудь что-нибудь скажет – и надо лезть за носовым платком, чтобы вытирать горючие слёзы. Депрессия страшная, прямо хоть к психотерапевту обращайся. А почему бы и нет, собственно? А что я ему скажу? Что не хочу ходить на работу? Как только войду в свою поликлинику, как увижу эту бесконечную очередь перед окошком регистратуры – словно бетонная плита на голову опускается. А к дверям своего кабинета даже подходить страшно – всех этих несчастных, обозлённых, раздражённых я должна принять, выслушать, поставить диагноз и назначить лечение… Сейчас особенно тяжело работать с больными – идёт такой шквал компромата на врачей, какую газету ни откроешь, какую телевизионную программу ни включишь – везде «врачи-убийцы»… Больные приходят на приём заведённые, злые, надо почти каждому доказывать, что ты стараешься ему помочь. А ещё исписать целую авторучку, заполняя карточки, выписывая справки и подписывая рецепты… Всех принять в отпущенное время я не успеваю. Конечно, если считать количество принятых в процентах, то девяносто из ста – это действительно больные, которым нужна помощь, но десять… Эти десять так за день достанут, так душу наизнанку вывернут… За два года практики я так и не научилась работать на «автопилоте», как пашет в поликлинике большинство из моих коллег: быстро раздеть, символически выслушать жалобы (какая там аускультация и перкуссия!), потом, не отрывая глаз от медкарты, скороговоркой дать советы и поторапливая взглядом больного, который чересчур долго надевает на себя многочисленные одёжки, повернуть свои очи к двери в ожидании следующего посетителя. Но я так не умею! Не могу и не хочу – вот и всё. За что ежедневно получаю по голове. План я не выполняю, и потому из моей и без того куцей зарплаты выстригают ещё определённую часть. С каждым больным я вожусь, боясь пропустить что-нибудь серьёзное. Мне жалко одиноких несчастных стариков, для которых поликлиника – единственное место, где их кто-то может выслушать, и я обречённо слушаю их причитания, пока Татьяна Фёдоровна не теряет терпения и не выпроваживает их почти насильно за дверь… А после приёма надо ещё тащиться на вызовы, которых в такую вот осеннюю стылую погоду видимо-невидимо. Осенний мрак, дурное освещение на улице и грязная жижа под ногами – откуда тут взяться оптимизму? Поначалу половину адресов найти не могла: дома и корпуса во дворах разбросаны словно в шахматном порядке, о номерах квартир в старом фонде вообще говорить нечего. Слава Богу, я, наконец, изучила свой участок: села и сама, насколько хватило моих чертёжных способностей, изобразила на бумаге план расположения своих домов…
Наконец, заведующая меня отпустила, взяв обещание не спешить, подумать и покамест немного подтянуться…
У меня есть одна особенность: я никогда не меняю своих глупых решений, от страха сделать ещё большую глупость. Я не позволяю себе мучиться сомнениями. Я только что приняла глобальное для себя решение и назначила на завтра приведение его в жизнь. Я понятия не имею, куда податься, где искать работу. Кроме медицины я ничего не знаю и не умею. Источников существования у меня нет никаких. Но с поликлиникой я покончу навсегда! Конечно, я – предательница! Я предаю своих больных, таких, как Красильникова, например. Но если система (система!) гнилая, что я могу для них сделать, если аже умру на своём рабочем месте? Я – не революционер, переменить систему я не в силах. Есть только один путь – бежать. Бежать из поликлиники без оглядки!
А ещё я не хочу возвращаться домой. Мамина смерть совершенно выбила меня из колеи. Она была совершенно здоровым человеком, любила жизнь, от которой ей досталось немало горя, много читала, ходила в театры, в музеи… А как она смеялась! Работала в аптеке заведующей отделом и вовсе не собиралась умирать. Но в сильный гололёд попала под машину. Так неожиданно и так несправедливо! И хотя прошёл уже целый год, я всё ещё не могу опомниться. Я всё ещё не могу привыкнуть к мысли, что осталась совершенно одна, абсолютно неприспособленной к самостоятельной жизни. Где-то далеко в Сибири у меня есть тётка, мамина младшая сестра с сыном-подростком. Мама была родом из тех далёких мест. Сюда, в наш город её увёз мой отец, приезжавший студентом, будущим ветеринаром, к ним в село на практику. С мамой он так и не расписался, и, встретив нас с ней из роддома, внезапно бесследно исчез. Только через несколько месяцев он прислал маме, оставшейся со мной в каком-то общежитии, записку с извинениями. Так что, где мой папочка, и жив ли он сейчас, я не знаю. Знаю только, что звали его Петром, поскольку ношу соответствующее отчество. Тётя Тася – моя единственная родственница, но, со слов мамы, я знала, что она – вдова, мужа потеряла ещё в молодости, и у неё тоже кроме нас никого нет на этом свете. Когда я была совсем маленькой, мы с мамой несколько раз ездили в Сибирь к тётке, но это было очень давно, я знаю её только по фотографиям, а своего двоюродного брата вообще никогда не видела. На похороны мамы она не приезжала, сама лежала тогда в больнице с каким-то тяжёлым заболеванием… Конечно, у меня есть Света. Но Светка – семейный человек, у неё тысяча проблем то с мужем, то с детьми, и вешать на неё ещё и свою депрессию совершенно бессовестно.
В моём доме сейчас пусто и совершенно нечем заняться. Библиотека большая, шкафы ломятся от книг, сейчас редко у кого в доме столько книг – во-первых – не модно, а во-вторых – очень дорого. А у меня дома – филиал Публички. Но читать не могу, слишком устаю на работе. Тупо смотреть сериалы по телевизору тоже нет никакого желания: редко бывает, когда зацепит какой-нибудь сюжет. Да и за рабочий день от мелькания лиц, голых спин, бесконечных записей в медицинские карты, оформления всяческих справок, рецептов и направлений рябит в глазах и подташнивает. Кошмар какой-то!