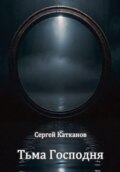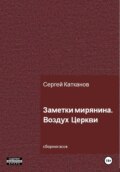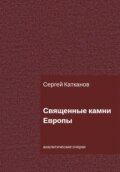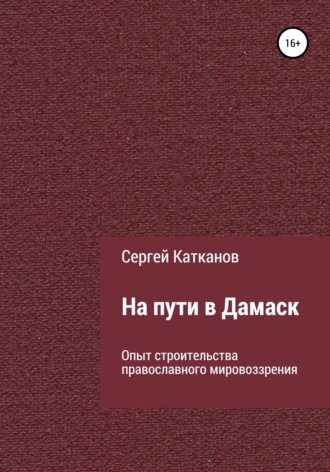
Сергей Юрьевич Катканов
На пути в Дамаск. Опыт строительства православного мировоззрения
Еще говорят, что в Греции не только миряне, но и священнослужители курят только так. Об этом я и в книгах читал, и рассказывали, как видели такую картину: гуляет по Троице-Сергиевой лавре греческий епископ – на груди панагия, а в зубах сигарета. Тут дело даже не в том, что он грешит, а в том, что не видит в этом греха, не считает нужным хотя бы за угол зайти, отрыто смолит.
Ну вот на кого мне ориентироваться? Ведь греки тоже православные. Им значит можно, а мне нельзя? А, может быть, табак – что-то вроде картошки, которую наши дремучие предки называли «чертовым яблоком» просто потому что все новое склонны были объявлять греховным? Может быть, в табаке не больше греха, чем в картофеле? Известно, что старообрядцы у нас в равной степени ополчались и на картофель, и на табак. Так то ж сектанты, у них головы со смещенным центром тяжести.
Бесспорно то, что курение – дурная привычка, однако грызть ногти – тоже дурная привычка, но грехом ее ни кто не объявляет. Бесспорно, что курение – не в традициях Русской Православной Церкви, но национальные традиции поместных Церквей – это еще не содержание нашей веры. То что сектанты рьяно восстают против табака – ни о чем не говорит. Они может быть в этом не правы, так же, как и в остальном, а может быть это то единственное, в чем они правы.
И все-таки совесть подсказывает мне, что курение – грех, а разум приводит основания. Курение – грех, потому что это страсть. Страсти коренятся в душе. Они бывают тесно связаны с телом, но корень их не в биохимии и не в обмене веществ, а именно в душе. Страсти – это то, что мы потащим с собой в мир иной, вот только уже не будем иметь возможности их удовлетворить. Представляю себе, как по разлучении души с телом курить хочется так же сильно, а возможности покурить уже нет. Вот, пожалуйста – одна из составляющих ада. Богу вовсе не надо будет наказывать меня за грех курения, я несу это наказание в себе.
Хочется ли оправдать свои греховные привычки? Не хочется! Если я оправдаю себя, если скажу себе, что никакой это не грех, у меня не будет надежды. Я буду считать, что все нормально, и тогда только после смерти пойму, что все ненормально, но будет поздно. До тех пор, пока я осуждаю себя за этот грех, у меня есть надежда на то, что Господь поможет мне от него избавиться.
Впрочем, то что я курю, говорит лишь о том, что я – человек грешный, а это и без того известно. Курение, наверное, самый вонючий грех, но вряд ли самый страшный. Пожалуйста, не говорите курильщикам, что они уже не православные. Такой сектантский фанатизм сам по себе не православен. Не говорите, что «курить – бесам кадить». Курильщик предается греховной страсти, но это еще не вероотступничество, каковым безусловно пришлось бы считать каждение бесам.
Что ни говори, а в отношении к курению у нас проявляется много сектантской «ревности не по разуму». Вам когда-нибудь предлагали покаяться в том, что вы регулярно пьете кофе? Я о таком ни разу не слышал. А теперь скажите, чем кофеиновая зависимость отличается от никотиновой? Да ни чем. Это такая же душепагубная страсть. Между тем, кофе мы пьем совершенно без боязни, что нас объявят не православными и греха в этом не видим. А почему? А по причинам вообще не имеющим отношения к вере и связанным скорее с традициями, привычками, эстетикой. Человек, который курит, выглядит несколько даже зловеще – дым, огонь, вонь. А добропорядочный господин с чашечкой кофе вполне эстетичен и благообразен. Но ведь это все внешние признаки, не имеющие значения для оценки духовной сути явления. Да кроме того, «ревнители древнего благочестия» не восставали против кофе, потому что и не видели рядом с собой кофеманов, эта привычка не захватила массы. Когда же кофе начали пить все, таких грозных ревнителей уже не было и включить кофеманию в перечень грехов деликатно позабыли.
Поверьте, я не пытаюсь себя оправдать, просто стараюсь быть честным. Надо твердо сказать, что курение – грех. Но это не признак, отличающий верующего от неверующего, церковного от нецерковного. Курение заслуживает осуждения, но не в большей степени, чем некоторые явления, которые мы и грехом-то не склонны считать. Например, страсть коллекционера – явление примерно того же порядка. Ни к чему в этом мире нельзя слишком сильно привязываться.
Гордость. Гордыня. Достоинство
Как-то диакона Андрея Кураева спросили: «Есть ли разница между гордыней и гордостью и если да, то в чем она?» Мне кажется, я понял смысл вопроса, но меня совершенно не удовлетворил ответ, поэтому я стал искать свой.
Для начала надо сказать, что между гордостью и гордыней разницы нет вообще ни какой. По смыслу – это синонимы, которые отличаются лишь стилистической окраской. Если подходить к вопросу формально, то вот и весь ответ. Но очень интересны причины, по которым этот вопрос был задан.
Нам очень хочется считать, что «гордыня» – это плохо, а «гордость» – это хорошо. Все мы пропитаны светской культурой, а там слово «гордость» имеет однозначно положительное значение. «Человек – это звучит гордо», «гордый буревестник», «женская гордость» и т.д. И вот мы приходим в Церковь, где нам говорят, что гордыня – смертный грех. Нам надо отречься от всего, что нам до сих пор было дорого, заменить ценностные ориентации на диаметрально противоположные, то есть фактически умереть и родиться заново. Это так тяжело, что у нас поневоле возникает вопрос: нельзя ли умереть не полностью, а частично, то есть что-то оставить в своих представлениях из прежней жизни? Может быть, Церковь не возражает? О, этот «гордый орлиный профиль»… Что в нем плохого? И как его еще назвать, если не гордым? А у женщин и вовсе проблемы. Помните: «Сняла решительно пиджак наброшенный, казаться гордою хватило сил». О чем речь? Женщину бросили, а она не теряет самообладания. Неужели лучше было закатить истерику, или валяться в ногах у обманщика, умоляя ее не бросать? Если же всего этого не делать, то получается гордость. То есть по всему получается, что гордость это хорошо. А разве «гордый буревестник» не выглядит героем, достойным подражания? Неужели мы должны уподобляться глупым, робким, жирным пингвинам? Не хочется.
И вот уже церковные люди рассуждают меж собой: «Нет, гордость нельзя терять, гордость – это хорошо, а вот гордыня – это, конечно, грех, тут батюшка все правильно говорит». Такая позиция – очень сложный и тугой узел, распутывать его надо с большим терпением и осторожностью.
В принципе, вполне возможно закрепление за синонимами различных значений, языковая практика это вполне допускает. Красный и красивый – тоже синонимы, но я не думаю, что белогвардейцы считали большевиков такими уж красавцами. Теоретически возможно закрепить за словом «гордость» значение положительное, а за словом «гордыня» – отрицательное. Но пока этого не произошло, это лишь чье-то желание, язык не зафиксировал это желание в качестве нормы. Следовательно, приписывать словам «гордость» и «гордыня» различные значения недопустимо.
Если вы все же будете настаивать на том, что «гордость» и «гордыня» – не одно и то же, я попрошу вас четко сформулировать, в чем между ними разница. С формулировкой будет проблема. Нам просто на эмоциональном уровне симпатично многое из того, что Церковь считает греховным. Мы хотим протащить в Церковь эти свои полуязыческие симпатии. Гордый поворот головы нам эстетически ближе, чем позы, соответствующие смирению. Но если мы вникнем, какое состояние души соответствует этим различным положениям фигуры, то поймем, что «гордый поворот» выражает эгоизм, утверждение своего «я» выше всех прочих. И «женская гордость» столь уважаемая нашими дамами, это чаще всего стремление утвердить свое «я» выше «я» мужчины. А «гордому буревестнику» просто на всех наплевать, кроме себя красавца. И пингвин, вероятнее всего, оклеветан. Если он не выставляет себя на всеобщее восхищение, так это еще не значит, что он робкий и глупый.
Гордость – это такое состояние души, когда собственное «я» – драгоценно, а прочие «я» – куда менее ценны, а то и вовсе ни чего не значат. Подумайте, не это ли скрывается за тем, что мы порою склонны считать «правильной гордостью»? Кураев тогда ответил на этот вопрос очень размыто, но можно было сделать вывод, что иногда гордость бывает законной, можно, например, гордиться тем, что ты православный. Но если человек гордиться тем, что он – православный, то он уже не православный. Это значит, он считает свою православность некой заслугой, которой прочие не имеют. Получается, что «я» православного ценнее, чем «я», например, мусульманина. Это ужасное, погибельное заблуждение. Бог любит всех людей одинаково, перед очами Божьими все «я» имеют равную ценность. Можно радоваться тому, что ты православный, можно день и ночь благодарить Бога за то, что Он даровал тебе такую непорочную веру, но этим нельзя гордиться. Уж не знаю, что имел ввиду Кураев, когда говорил «я горжусь», но именем греха нельзя называть ни какие положительные чувства, а если это происходит, то возникает сомнение – настолько ли эти чувства положительные?
И все же… Вопрос еще сложнее. Похоже, что мы действительно иногда называем словом «гордость» некую линию поведения, в которой нет ни чего плохого, за которой не стоит ни чего греховного. Если, например, человек любит своего начальника, это не значит, что он должен по нескольку раз в день рыдать у него на груди. Можно уважать начальника за его положительные качества, прощать ему его недостатки, потому что у всех же есть недостатки. Можно спокойно и терпеливо переносить его несправедливость по отношению к вам. (Ведь он же не хотел ни чего плохого, а если и хотел, то нет людей, которые всегда хотят только хорошего). Можно искренне сочувствовать ему, когда его дрючит его начальство. Можно всегда быть готовым пойти на любые неудобства только потому, что он об этом попросил. То есть можно относиться к начальнику вполне православно, с любовью. Но при этом ни когда ему не льстить, ни когда перед ним не заискивать, не скакать перед ним на задних лапках, не стелиться ему под ноги ковриком. В общении с ним всегда быть ровным и спокойным, ни когда слишком эмоционально не выражать свое восхищение. Говорить ему правду о положении дел, заранее зная, что это будет ему неприятно. Иногда, может быть, отказаться выполнять некоторые его распоряжения, если это в ущерб делу или против совести.
Если человек держит себя в отношениях с начальником таким образом, что про него скажут? «Гордый» – с восхищением скажут неверующие коллеги. «Гордый», – с порицанием скажут коллеги верующие. Но есть ли в таком поведении хоть капля гордости, в каком бы смысле ее не понимать? Человек ведь не превозносится, не самоутверждается, не ставит себя выше начальника, признает его власть. Нет, это не гордость, хотя очень похоже. Я бы сказал, что такой человек держит себя с достоинством. Что такое достоинство? Как определить?
Для этого представим себе иную линию поведения по отношению к начальнику. Перед ним холуйствуют, раболепствуют, заискивают, демонстративно превозносят его достижения и так же демонстративно унижают себя. Ему смотрят в рот, всегда будучи готовыми выполнить любой самый абсурдный его каприз и так далее. Разве это смирение? Это проявление любви? Любому понятно, что нет. Все это мерзость перед Богом. Это человекоугодие. Так вот я определил бы чувство собственного достоинства как антоним к таким понятиям, как холуйство, раболепство, человекоугодие. Тогда становится ясно, что достоинство – понятие положительное. Это не есть грех. К сожалению, смог определить это понятие только через отрицание, то есть утверждая, чем оно не является. А вот сказать, чем оно является – не смог. Предлагаю всем подумать. Мне кажется, это архиважная тема.
Итак, чувство собственного достоинства по своим проявлениям может очень напоминать проявления гордости, но это не гордость. Если ты не холуй, это еще не значит, что ты гордец. Так в чем же разница между достоинством и гордостью? Разница, как всегда, в душе. В тех чувствах, которые сопровождают нашу линию поведения. Для гордеца свое «я» – высшая ценность в этом мире. Гордец, кстати, не обязательно считает себя лучше других. Он считает себя более ценным. Человек, которому присуще чувство собственного достоинства ни одного человека не считает менее ценным, чем он сам. Даже если он – академик, он ни одного бомжа не считает чем-то менее ценным по сравнению с собой. Душа бомжа имеет такую же ценность перед Богом, как и душа академика. Это устанавливает их равное достоинство. Человек с достоинством ни когда не унизит другого человека. От унижения другого человека он чувствует такую же боль, как если бы унизили его, и даже большую боль, потому что свое унижение он сам и должен пережить, а вот если унижен другой человек, просто не знаешь, чем ему помочь.
Человек с достоинством не склонен демонстративно унижаться. Он уважает в себе образ Божий так же, как и в любом другом человеке. Унижение может быть для нас полезно, как и любое страдание. Унижение – это крест. А на крест – не просятся. Просятся на крест чаще всего из гордости, а потом не могут выдержать того, на что сами же и напросились. На крест не просятся, но и с креста не бегают. Не унижайте себя сами, но когда вас унизят – примите это как дар Божий.
Человек с достоинством спокойно принимает почести, но принимает их как испытание. Он ни когда не будет верещать: «Я не достоин!» Богу ведомо, кто чего достоин. Он сдержанно благодарит и так же сдержанно принимает благодарности.
Человек с достоинством ни когда не будет считать себя глупее последнего дурака, но он не гордится своим умом. К своим талантам он относится так же спокойно, как и к своей бездарности, если таковая имеет место.
Человек с достоинством всегда и во всем ищет свою вину, но он не станет из-за каждого пустяка вопить: «Это я во всем виноват». Он вообще чужд демонстративности и шумного раскаяния. Свою вину он признает, но переживает ее больше внутри себя, или старается претворить это чувство вины в конкретные дела.
Этот портрет можно еще долго развертывать и уточнять. Отмечу еще только одну деталь. Человек с достоинством не ищет для себя выгоды, ни материальной, ни душевной, вообще ни какой. Гордец всегда думает о себе. Он может и от денег отказаться, лишь бы потешить свое тщеславие. Человекоугодник тоже, как правило, думает о себе, своим холуйством стараясь улучшить свое положение. Человек с достоинством говорит и делает не то, что выгодно, а то, что он считает правильным.
Человеческое достоинство легко и органично сочетается с любовью, потому что «не ищет своего». Подлинное чувство собственного достоинства выводит человека за рамки своего «я». Такой человек очень боится обидеть другого человека и, порою вынужденно причиняя другому боль, сам испытывает боль еще большую.
Но не примешивается ли к чувству собственного достоинства гордость? Чаще всего примешивается. Гордость – это такая зараза, которая примешивается ко всему хорошему, что в нас есть. Это очень серьезная проблема, о которой надо всегда помнить. Если человек держит себя с достоинством и при этом любуется собой, получает удовольствие от безупречности своего поведения и с внутренней надменностью относится к тем, кто не настолько безупречен, то это уже гордец. Но не станем же мы объявлять вредным любой полезный продукт только потому что иногда в него попадают вредные примеси. Для начала надо по-разному относиться к продукту и к примесям. Ну и стараться не смешивать одно с другим.
Православные – не попрошайки
Перед православным храмом выставлен баннер, на котором подробно расписано, какому святому при каких проблемах надо молиться. Смотрю на это с ужасом. Ведь это уже без пяти минут политеизм. Религиозное сознание православных не выдерживает чистоты монотеизма и понемногу сползает обратно в язычество, где каждый бог отвечал за свою сферу жизни. А с этим баннером самое страшное то, что он здесь выставлен по благословению настоятеля. Священники не только не борются с языческими тенденциями в православной среде, но и сами их подогревают, и выпячивают эти суеверия, как самую значимую для прихожан информацию.
Мало нам возможности молиться Господу и Пресвятой Богородице? Мало защиты ангела-хранителя и покровительства своего святого? Разве нельзя им молиться во всех своих нуждах? И то не стоило бы превращать Церковь в бюро добрых услуг и постоянно что-то клянчить. Лучше принимать жизненные проблемы, как дар Божий, как средство нашего исправления, а не молиться об избавлении от этих проблем.
Представьте себе, что ваш отец – очень богатый человек с большими возможностями. Спросите себя: вы любите отца, или просто дорожите тем, что он в любой ситуации всегда вам помогает? Ведь если любите, то вам даже неловко будет просить его о чем-то, чтобы он не подумал, что вы вспоминаете о нем только тогда, когда он вам нужен. Вот вы зашли к отцу, а он вас спрашивает: «Может, помочь чем-нибудь?» А вы смотрите на него и радостно улыбаетесь: «Да ладно, папа, разберусь я со своими проблемами. Главное, что ты у меня есть».
Разве не такими же должны быть отношения с Богом? Просите у Него прощения за грехи, благодарите за оказанные милости, но старайтесь пореже клянчить. Неужели мы поддерживаем отношения с Богом только потому, что Он всегда и во всем может помочь? Значит, вы Его не любите, и отношения у вас с ним чисто потребительские?
Конечно, слаб человек, а ситуации бывают очень тяжелые. Вы можете придти к отцу и сказать: «Папа, ты знаешь, я ни когда ни о чем не прошу, но на сей раз мне не обойтись без твоей помощи». Отец с пониманием к этому отнесется и обязательно поможет. Ведь он же знает, что ваше отношение к нему строится вовсе не на возможности получить помощь. Тем приятнее помочь.
Но когда мы распределяем между святыми сферы влияния с точным указанием, у кого что можно выпросить, это нечто уже совсем несусветное. Знаете, что самое страшное в этой схеме? В ней нет Бога. Конечно, люди, у которых на каждый случай свой святой, верят в Бога, но Он уходит куда-то на периферию их сознания. Если все земные нужды распределены между «участковыми» святыми, то Бог уже не очень-то и нужен.
Представим ту же ситуацию с богатым отцом. Иной сынишка быстро понимает, что каждый раз к самому отцу обращаться и смысла нет. У папы очень много подчиненных и друзей. Среди них есть и врачи, и адвокаты, и банкиры, и политики. Каждый силен в чем-то своем, вот к ним и надо обращаться. Из уважения к отцу ни кто из них не откажет. И вот как-нибудь отец говорит сынишке: «Что-то ты совсем про меня забыл». А сынишка отвечает: «Так я, папа, через твоих людей все решаю, что я буду каждый раз тебя тревожить по пустякам?» Отец горько улыбается: «Если я нужен тебе только для того, чтобы что-то решить, тогда, конечно, ты прав».
Еще один расхожий пример. У каждого богатого человека возникает вопрос относительно своей жены: «Она любит меня или мои деньги?» И всем ведь понятно, что это очень стыдно, когда женщина хранит верность мужу, а то и притворяется, только ради денег. Но почему же нам не стыдно точно так же относиться к Богу? Мы с Богом только потому что у Него неограниченные возможности? А если Он не будет выполнять все наши капризы, мы уйдем от Него? А ведь, порою, и уходят. «Боже, я так Тебя просил, и Ты ведь мог помочь, но не захотел». Но ведь это же просто какая-то религиозная проституция: «Я буду делать вид, что я Тебя люблю, а Ты мне будешь давать то, что я у Тебя прошу».
А если муж не дает жене денег? Ну она, наверное, может действовать через управляющего мужа, или через бухгалтера, или через начальника охраны. Муж этим людям доверяет и через них все можно получить.
Мне кажется, святым очень горько от такого нашего отношения к ним. Святые при жизни очень любили Бога, в этом и есть святость. Ради любви к Богу они, порою, отказывались от всех мирских благ, а мы у них эти блага пытаемся выклянчивать. Порою, мы вообще забываем, что ни кто из святых не в силах нам помочь. Помочь может только Бог. Святые, к которым обращены наши молитвы, могут лишь в свою очередь умолять Бога помочь нам. Они могут это сделать из любви к нам. А Бог – не формалист, у Него, вопреки пошлому суждению, нет канцелярии, и Он не распределял между святыми обязанностей. Это сделали мы, а Он примет молитву любого святого по любому вопросу. Из любви. Но даст просимое лишь в том случае, если это будет нам полезно, а не тогда, когда мы правильно выбрали ходатая в соответствии с утвержденным списком.
Молиться не только Богу, но и святым – хорошо. Это угодно Богу. Это связывает нас незримыми нитями любви с теми кто уже на Небесах. Но, когда мы формализуем свои отношения со святыми, из них уходит самое главное- любовь. Остается одна технология – если помолился кому надо – получил результат, а если не тому, кому надо – результата не жди. Это технологичность магии. Религия тут вообще не причем.
А не таким же точно технологизмом порою начинает отдавать от нашего отношения к иконам? Вот, говорят, что об исцелении от недуга пьянства надо молиться иконе Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Вовсе не хочу иронизировать над теми, кто так поступает. Вполне возможно, многим помогает. И все же давайте наконец задумаемся: кто или что помогает? Богородица или икона? Если помогает Богородица, то ей можно молиться перед любой ее иконой, да и без иконы можно. А если вы считаете, что помогает именно эта конкретная икона, то вы уже идолопоклонники, потому что возлагаете надежды на помощь некого чтимого предмета, а не на помощь Господа и Его Пречистой Матери. Конечно, большинство осознает, что молиться следует не иконе, а Богоматери, то есть не иконе, а перед иконой. Но почему именно перед этой иконой? Если молиться перед другой, то не поможет? Вот так понемногу технологизм и формализм магического сознания вытесняют сознание религиозное, православное.
Откровенно говоря, даже словосочетание «чудотворная икона», если его понимать буквально, уже отражает сознание магическое. Чудотворная икона – икона, творящая чудеса. Но икона не творит и не может творить чудес. Чудеса творит тот, кто изображен на иконе. Но вы попробуйте сказать нашей пастве, что нельзя называть иконы чудотворными, и раскол вам гарантирован. Расколы случались и по гораздо меньшим поводам. Что же остается? Очевидно, объяснять, что это не надо понимать слишком буквально, что чудеса на самом деле творит Господь и по Его воле – святые, но не иконы, на которых они изображены. Иконы мы чтим из любви к тем, кто на них изображен, но не придаем им ни какой самостоятельной силы, уж тем более не должны распределять между ними функции, как между идолами – эта помогает от этого, а эта – от этого.
Однажды одна любвеобильная мамаша показала мне две иконы и сказала: «Вот эта хранит моего старшего сына, а вот эта – младшего». Это уже чистое идолопоклонство, не имеющее ни чего общего с православным почитанием икон. И надо признать, что это идолопоклонство имеет источником некоторые особенности традиционного мышления православных. Если наше сознание сдвинулось на шаг от истины, то мы вроде бы пока еще остаемся в истине, но не извольте сомневаться – рядом всегда найдутся люди, которые продолжат наше движение и остановятся только в заблуждении.
В нашем случае истина – это догмат иконопочитания. Суть его в том, что в зримом образе мы чтим незримый первообраз. Этот догмат, как и все другие, настолько возвышенный, что у нас не хватает сил удерживать свое сознание на его высоте. В своих душах мы понемногу искажаем догмат, а то и доходим до полного его отрицания, то есть вместо незримого первообраза чтим зримый образ. Если слова «икона помогла» приобретают для нас точный, буквальный смысл, это уже псевдоправославное идолопоклонство.
Псевдоправославный оккультизм
Диакон Андрей Кураев выпустил книгу «Оккультизм в православии». Да не будет! В православии нет оккультизма! Оккультизм есть в некоторых околоцерковных псевдоправославных практиках и представлениях. Элементы оккультизма можно найти в душах православных людей, но ни как не в православии, потому что православие есть истина. При всем уважении к отцу диакону, он порою позволяет себе очень неряшливое оформление мысли, а в вопросах связанных с истиной не только одно слово, но и одна буква может все с ног на голову перевернуть.
Вот, говорят, Церковь торгует охранными поясами. Это не правда! Не забывайте, господа, что Глава Церкви – Христос. Охранными поясами торгует церковная лавка и «глава» ее – архиерей. Церковь не может уклониться от истины, а вот некоторые церковные люди и даже церковные структуры – очень даже могут.
Что же такое эти охранные пояса? Чистейшая магия даже без примесей православия. Вы вдумайтесь: на ленточке написаны псалмы, мы повязываем себе эту ленточку на брюхо и думаем, что она будет нас охранять. Это типичный магический оберег. Молитва – это обращение человека к Богу, а графическое начертание слов молитвы ни кого и ни от чего не защитит, если нет самой молитвы.
Как-то мне подарили такой «охранный пояс», то есть даже целый ремень из натуральной кожи с тисненными псалмами. Я начал все это объяснять, а дарительница грустно меня спросила: «Значит, не будешь носить?» Мне осталось только руками развести: «Да почему же не буду? С удовольствием буду носить. Это очень хороший ремень, и то, что на нем слова молитвы мне приятно. Любой предмет, несущий на себе начертание символов православия, хорошо иметь уже потому, что это напоминает нам о Боге. Я только не буду считать что этот ремень способен меня охранять и защищать. Я не буду видеть в нем оберег и считать, что его ношение прибавляет мне безопасности».
Хорошо, что мне не подарили матерчатую ленточку со словами псалмов. Эта ленточка не имеет иной функции, кроме магической, и носить ее я не счел бы для себя возможным. А ремень – это все-таки вещь практическая, у него есть очень полезная функция – делать так, чтобы штаны не сваливались.
Почему же наша иерархия позволяет на церковных предприятиях производить и в церковных лавках продавать магические обереги? Спросите что-нибудь полегче. Очевидно, думают, что люди так привыкли, им так проще, да ведь это уже традиция, а бороться с традициями – очень дорого выходит. Люди, не понимающие разницы между догматом и обрядом, между верой и суеверием, между главным и второстепенным, ориентируются на традицию, потому что надо же им на что-то ориентироваться, и вы только попробуйте эти традиции изменить хоть в самой мелочи. Получите что-нибудь подобное жуткому церковному расколу XVII века.
Сколько раз, изучая историю этого раскола, я думал о том, из-за каких ничего незначащих пустяков все это завертелось. Обидно просто до слез. Люди, отстаивая всякие мелочи, теряли главное – церковное единство. Можно сколько угодно возмущаться невежеством и полной богословской безграмотностью протопопа Аввакума, но главный виновник раскола, как ни верти – патриарх Никон. Зачем он вообще все это затеял? Своих что ли не знал? Ни как не мог предвидеть, что они за свои церковные привычки будут восходить на костры? Реформа церковных обрядов безусловно не стоила того, чтобы заплатить за нее такую дикую цену. Лучше бы уж Никон оставил все как было, лучше было терпеть дефекты церковной жизни, чем затевать реформу, в результате которой огромные массы церковных людей оказались вне Церкви.
Боюсь, что и сейчас наша иерархия стоит перед таким же горьким выбором: или терпеть все так, как сложилось, или пойти на риск раскола. Конечно, если православные практикуют магию, будучи твердо уверенными, что это и есть православие – тут вам уже не обряды, тут речь идет о вещах куда более серьезных. Но… но… но… Пусть они многое делают и понимают неправильно, но пока они остаются в Церкви – все это еще полбеды. Если же резко поломать их религиозные привычки, они разбредутся по каким-нибудь очередным катакомбам, и вот это будет уже полная беда.
Умников, вроде меня, которые знают «как надо правильно», в Церкви всегда хватало, и вреда от них всегда было больше, чем от неразумных чад церковных. В жизни нам обычно приходится выбирать не между плохим и хорошим, а между плохим и ужасным. Иной раз хочешь сделать лучше, а получается хуже, чем было. Мудрый человек должен стараться предвидеть такие последствия.
И все же я до смерти буду повторять то, о чем писал выше: мы должны искоренять псевдоправославные магические практики. Ни какими благими намерениями нельзя оправдать то, что мы терпим у себя ложь в одеждах истины. Только надо понимать, что церковная жизнь не терпит революций. Не надо жестких и решительных запретов, но нужны постоянные и неустанные разъяснения.
Братья, не превращайте иконостас в пантеон. Братья, не думайте, что обмотавшись ленточками с молитвами хоть с головы до пят, вы теперь пребываете в полной безопасности. Братья, не думайте, что от наших свечек Богу тепло, если в душах у нас холод.
Да вот сколько у нас с этими свечками непонимания. Человек ставит свечку "за здравие", пребывая в твердой уверенности, что теперь у того, чье имя он произносит, должно прибавиться здоровья. Это чистая магия. Мы совершаем некое ритуальное действие с целью получения определенного результата. Все магические практики именно на этом и строятся: действие – результат. При правильном совершении действия результат неотвратим. Если же результата не наступает, то одно из двух: либо вы совершили действия с некоторыми ошибками, либо магический ритуал неэффективен. Вот с этим и связано типовое недоумение: "Была в Церкви, поставила свечку, а что толку?" Действительно, нет ни какого толку в том, чтобы в храме совершать магические ритуалы. Не сработает!
Как и с каким смыслом появились в храмах свечи? Это было еще тогда, когда не было электричества. Прихожане собирались на богослужение, приносили с собой свечи, тем самым они вносили свой вклад в освещение храма. Ни кто в этом ни какой мистики не усматривал, это было всего лишь решением коммунальной проблемы, как если бы сейчас мы знали, что священнику не на что купить лампочки и приносили лампочки с собой. А тогда, поскольку при помощи свечей осветить весь храм довольно трудно, то освещали в первую очередь самое главное – свечи ставили перед иконами. И перед иконой человек, устанавливая свечи, разумеется, молился, и за здравие, и за упокой. То есть самому возжиганию свечей ни кто магического значения не придавал, свеча нужна была лишь за тем, чтобы осветить икону.