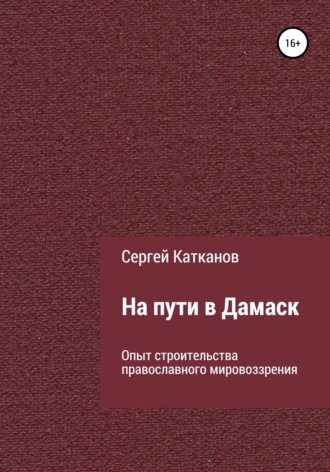
Сергей Юрьевич Катканов
На пути в Дамаск. Опыт строительства православного мировоззрения
Преобразование материальной несвободы в духовную свободу – еще одна тайна для мира. К тайне нельзя прикасаться грубыми руками. Лучше непонятное оставить до поры непонятым, чем судить о нем вкривь и вкось, следуя поверхностным наблюдениям и расхожим домыслам.
***
Проходя по канавке, я поразился одной весьма символичной картине. Стоит сарайка. Двери на ней крепкие, и замок на месте – массивный, надежный, только немного заржавел. А задней стены у сарайки нет. Такой вот памятник людской недальновидности, напоминающий о том, что материальные блага похищаемы из-под любого замка, и только духовные приобретения ни кто не может у человека украсть. А ведь ни когда бы мы не посмотрели на эту сарайку под таким углом зрения, если бы не стояла она рядом с Богородициной канавкой, невдалеке от монастыря. Значит, монастырь служит миру уже тем, что заставляет мирян посмотреть на себя и на все окружающее немного иными глазами.
***
Архимандрит Серафим (Чичагов) писал сто лет назад: "Кто не имеет истинного представления о средствах Серафимо-Дивеевского монастыря, тот, войдя в него и любуясь собором, трапезной, мастерскими, несомненно решит, что это богатый монастырь. Но если бы посетители спросили, как живут сестры обители, какова их трапеза и проч., то они, наверное, удивились бы всему увиденному. Живут сестры в далеко не приглядных деревянных домиках, в большой бедности, питаются самой скудной грубой пищей, как, например, пустые щи и огурцы, а каша бывает только по праздникам. Этот бросающийся в глаза контраст, это несоответствие большого красивого собора… с нуждой и бедностью сестер, свидетельствуют, что в Серафимо-Дивеевском монастыре живет истина, правда, любовь…, здесь сохранилась в прежней силе и полном значении слова духовность".
1994 г.
Введение в Оптину
Придет время, когда люди будут безумствовать
и если увидят кого не безумствующим,
восстанут на него и будут говорить: ты безумствуешь -
потому что он не подобен им.
Прп. Антоний Великий.
От Козельска до Введенской Оптиной пустыни я шел по безлюдной дороге, обгоняемый машинами, и вскоре достиг моста через полноводную весеннюю Жиздру. Слева над кромкой соснового бора, игрушечно блеснул золотой куполок. Сердце екнуло (Это Оптина!) и, едва миновав мост, я тут же спустился с насыпи, не дожидаясь, пока покажется дорога, ведущая к монастырю. А в дороге и необходимости не было – шел то прибрежными полями, покрытыми пожухлой прошлогодней травой, то пустынным сухим бором – места проходимые. Но куполок уже не был виден, как с высокой насыпи, и курс прокладывала память. Монастырь, однако, не появлялся, а шел я уже давно. В душе начинало шевелиться неуютное тоскливое беспокойство.
Оптина выросла перед глазами неожиданно и как-то вся сразу. Она была хорошо знакома мне по иллюстрациям и описаниям во многочисленных книгах, а потому даже казалось, что я так же хорошо ей знаком, и встреча эта желанна обоюдно.
Не так ли и к вере люди приходят? Поднятые Господней дланью на необходимую высоту, они вдруг неожиданно видят над кромкой повседневных забот краешек Вечной Истины, поражающей ни с чем несравнимым блеском. Но первый же самостоятельный шаг навстречу Истине доказывает, что собственных сил удержаться на высоте нет – человек погружается в пустынные сумерки. Если жажда Вечности не оставляет его, человек прокладывает свою тропу навстречу Свету, теперь уже зная, что Он существует. И Свет ведет человека, даже оставаясь невидимым.
В жизни все удивительно мудро, вплоть до последней бытовой мелочи, только мы чаще всего не чувствуем этого, а близость святых мест обостряет восприятие.
Итак, Оптина пустынь была передо мной, но действующие ворота я увидел не сразу и стал обходить монастырь с речной, довольно грязной стороны – по дну не глубокой и не широкой колеи. И вот едет мне навстречу "Жигуленок". А свернуть-то некуда. Я немного в бочок оттеснился, и «Жигуленок» вежливо сбавил скорость. Но колесом машина очень точно попала в лужицу грязи, которая в полном объеме благополучно перешла на мои ботинки и брюки…
Я был в дороге ровно сутки. Сначала поезд вез до Москвы, потом электричка до Калуги, потом автобус до Козельска, потом пешком километров пять. Я был уставший, голодный, а теперь еще и грязный. Монах, оформлявший меня на ночлег, с дружелюбным спокойствием отметил последнее обстоятельство: «А что такой грязный?» Неловко и устало промямлив в ответ, что так уж вышло, я был привечен мирной молчаливой улыбкой.
Вспомнил об этом потом, в полную меру оценив духовную глубину монашеского вопроса. Конечно же мне надо было сказать ему: «Я и пришел к вам в надежде стать чище». Так надо было по крайней мере подумать, даже независимо от того, что имел ввиду монах. Но я, конечно, и ответил не так, и подумал иначе, потому что спрашивал инок, а отвечал мирянин.
***
Вот уже полгода, как я вернулся из Оптинской пустыни, а писать об этом, вопреки своему обыкновению, начал только сейчас. Если бы сразу же взялся за перо, то, наверное, пришлось бы его изломать, не выдавив из себя ни единой строчки – внутреннее содержание поездки ускользало, ни как не выражаясь. Да и скрывался ли хоть какой-нибудь второй план за чередой мгновенно промелькнувших впечатлений? Может да, а может нет.
Но вот впечатления понемногу улеглись, мозаичные камушки сами по себе сложились в изображение, и Оптина спокойно не торопясь вошла в меня. Вошла во всем том объеме, в каком открылась.
***
Что есть Оптина? Оптина – это старцы. А старец – это не просто старый монах. Это нечто опять-таки с трудом выразимое. Может быть, наставник на уровне пророка? Старцы наставляли в духовной жизни, в делах и поступках не только монастырских насельников, но и еще половину России. К ним ехали и шли за сотни и тысячи километров. Порою, чтобы задать всего один вопрос. Иногда – чтобы засыпать вопросами. Шли и с житейским, и с духовным. С пустыми руками никто не возвращался, и не было раскаявшихся среди тех, кто последовал совету старца. Это подтвердилось опытом десятилетий.
Первый старец – о. Леонид (в схиме – Лев) пришел в Оптину уже опытным монахом в 1829 году. Потом были о. Макарий, о. Амвросий, о. Иосиф, о. Варсонофий, о. Анатолий и другие. Россия рыдала у них на груди без малого сто лет. И пока рыдала о своих грехах – получала прощение. Последнего духовника пустыни о. Никона большевики изгнали отсюда в 1924 году. Россия, словно под наркозом, уже не чувствовала своих грехов. Ее готовили под нож.
Зачем я шел сюда весной 1995 года? Старцев здесь больше нет или, во всяком случае, мне об этом ни чего не известно. А вопросов, на которые, кажется, только старец и мог бы ответить, накопилось не мало. И вот непонятным образом возникла уверенность, что на все мои вопросы ответит сам монастырь, сама эта земля, где покоятся тела старцев, сам собор, где почивают мощи преподобного Амвросия.
Услышь меня, Оптина. Узри меня.
***
Оптина пустынь всем дает на одни сутки бесплатные ночлег и питание. Паломников размещают в Иоанно-Предтеченском скиту, в здании бывшей церкви, вместе с послушниками. Пока я оформился, достоял в храме службу и поел, на улице уже была кромешная темнота.
– А где скит? – спросил я, выйдя из трапезной.
– Иди через лесок на горящий фонарь, – ответили мне.
Лесок этот, сразу же за монастырем, небольшой, и скит совсем близко, едва ли в километре. Но он так добротно был упакован в деревья и темноту, что виднелся лишь сам фонарь. Заблудиться при таком раскладе невозможно, а вот попасть в лужу, разорвать брюки о сучек или оцарапать лицо веткой – совсем не сложно. Интересно все-таки идти на огонь, когда не видишь ни чего, кроме огня. Есть в этом что-то мистическое.
На первом этаже бывшего храма на вахте меня встретил симпатичный молодой послушник, не перестававший очень тепло улыбаться. "Братик трапезничал?" – первым делом поинтересовался он и, получив утвердительный ответ, проводил меня на второй этаж, показал койку. Взглянул я на свой ночлег и стало мне тоскливо до бесприютности. Таким контрастным душем поливала меня Оптина все то время, пока я был в ней. Сначала теплая улыбка, ласковая забота, и тут же – тюремно-казарменные двухярусные кровати, закинутые казенными одеялами, стены цвета вечной тоски и дверные проемы без дверей. Ну нет там дверей. И не ищите. Косяки есть. А дверей нет.
Сразу, как зайдешь – обширное помещение, где стоят шесть двухярусных кроватей. Из этого "зала" – четыре дверных проема (к ним на пару гвоздей приколочены одеяла) ведущие в комнатки, где по две кровати. Только крайняя степень усталости способна была смягчить впечатление от этого жилища, которое, к тому же, пребывало в разваленно-ремонтном состоянии. Где угол вывалился, где доски свалены прямо на полу – успевай перешагивать. В 22 часа – вечернее правило (общая молитва) и все – отбой, а точнее – полная отключка.
Да, быт оптинских послушников удручающе уныл и казенно-коммунален. Но сюда рвется немало молодых, красивых, умных, сильных парней. Они теряют все, что цениться в миру, попадая на эти нары. А что приобретают взамен? Вопрос не простой, но очень важный, в том числе и для тех, кто в монастырь уходить не собирается. Ответив на него, можно разрешить очень многие внутренние личные проблемы.
***
Послушников от паломников здесь невозможно отличить – одеты похоже, спят вперемежку, а в местных порядках разбираются, кажется, все, кроме меня. В общей комнате друг с другом ни кто не заговаривает – каждый весь при всех, но сам по себе. Твоего уединения, которым здесь дорожат, ни кто не разрушит, ни кто не пристанет с разговором, не спросит о том, о чем сам не захочешь сказать. Но это не ледяное безразличие вокзального зала ожидания. Попроси о помощи первого же, кто окажется рядом, и для тебя спокойно, без суеты сделают все, что только смогут.
В комнатки, отделенные от общего "зала" вместо дверей одеялами, без молитвы заходить не принято. Перед порогом надо сначала произнести: "Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас", потом услышать "Аминь" и только тогда зайти.
В первый вечер меня по одному вопросу послали на третий этаж, сказав, что "Василий у себя". Постучал. Не открывали. Снова постучал. За дверью, кажется, послышалось легкое шевеление, но и всего лишь. Еще несколько раз постучал вполне внятно и раздельно. Искомый Василий признаков жизни не подавал, и я отступил, уверенный, что шорохи за дверью мне послышались. Но потом мне объяснили, что Василий был на месте, а не открыл, потому что я молитвы не прочитал. Хамское высокомерие по отношению к малосведущему гостю? Не торопитесь так считать, хотя и во мне по началу вертелось подобное заключение. Просто это другие люди. У них внутри уверенность, что разумное существо обязательно прочитает молитву. А если слышно один стук – это или ветер гуляет, или бесы тешатся, или какое-нибудь бессловесное создание. И реагировать на стук будут не больше, чем на скребущуюся мышь. Только молитва является признаком человека.
***
Разбудил меня в 5 часов утра зубодробильный грохот. Казалось, что кто-то изо всех сил трясет пустую жестянку, полную крупных гаек. Что на самом деле было в руках у послушника-будильщика, я так и не узнал, потому что, когда я открыл глаза, он уже удалился с чувством выполненного долга. Здесь не армия и не тюрьма, хотя очень похоже. Сюда люди добровольно приходят. К утреннему богослужению будят всех, но из постели ни кого не выковыривают.
Рано утром в храме, пока еще темно, атмосфера непередаваемая. Молящихся довольно много, но ни один не проронит ни полслова, ни полшепота. Монах изумительно красивым голосом читает псалмы, но это чтение не разрушает тишину, а лишь ее подчеркивает, так же как и ни с чем не сравнимое пение монашеского хора. Единственное освещение – свечи да лампады перед образами. Тихо, как в гробу. Красиво, как в раю. Раньше бывал во многих храмах на богослужении, но только ранним утром в оптинском соборе я по-настоящему ощутил, что такое общая молитва. Если поклон кладется, то одновременно. Стоя в западной части храма, можно видеть, как единою волною склоняются все спины разом. Чувствуешь себя каплей в этой волне, покрывающей храмовое пространство. Так же одновременно все крестятся, причем это слышно (!) – шорох слегка шелестящей одежды на несколько мгновений наполняет слух.
Подобно послам Владимира Святого, я уже не знал, на небе нахожусь или на земле. Какие же духовные радости переживают здесь послушники, спящие на тюремно-армейских кроватях? Видимо, стоит одно другого. А монахи, имеющие многолетний опыт духовной жизни? Им уже, должно быть, ведомо, что такое рай, какое там недосыпание. Но… будьте спокойны, им так же ведомо, что такое ад.
Служба длилась семь часов подряд, до самого обеда. Выстоять ее, разумеется, смогли только те, кто способен раствориться в молитве, то есть почти все. Раньше времени вышли из храма я да еще несколько человек.
***
Еда монастырская – на любителя. Даже имея голод в качестве лучшей приправы (завтрака в монастыре нет вообще), я с трудом заталкивал в себя пустые щи, слипшуюся лапшу, неаппетитный кисель. Но за столом рядом со мной, казалось, ни кто не страдал аппетитом. Все молча наворачивали за обе щеки, внимая послушнику, читавшему душеполезную книгу. Я привычно обратился к соседу: "Будьте добры, передайте кусочек хлеба". Он протянул мне его со словами: "Будьте добры, возьмите", но при этом удивленно поднял на меня брови, да и самой интонацией выразил недоумение – дескать, о какой тут доброте речь? Конечно, мне надо было просто сказать: "Брат, дай хлеба". Ведь каждое слово значит то, что оно значит. Здесь ни что не условно.
***
Оптинские сосны – легендарны. Говорили, что от них не много осталось. Не знаю, сколько сосен тут было раньше, а по мне так и сегодня на берегу Жиздры – весьма приличный бор. Здесь чисто все: и земля под ногами, устланная пожухлой хвоей, чиста как выбитый ковер, она не навязывает гуляющим тропиночных маршрутов, позволяя фланировать в свободном режиме. Чист воздух – немного речной, немного хвойный – его здесь много, потому что кроны сосен – высоко вверху – все кругом прозрачно. Чиста до голубизны вода в святом источнике, который обнесен срубом из толстых бревен – взгляд тонет в прозрачной толще. При мне один мужчина набрал эту воду в бутылку и поднял над головой, показывая другим – солнечный луч вспыхнул в кристальной воде жарким пламенем.
Подумалось, что здесь чисты все четыре стихии: земля, воздух, вода, огонь. Душа в таком окружении очищается, даже если не хочет. Не даром все-таки спрашивал вчера монах на приходной: "А что такой грязный?" Не стал ли хоть чуточку чище?
При источнике устроена дощатая купальня – возможности для очищения. в том числе и телесного, неограниченные. Вот вышли из купальни две женщины, одна из них сказала мне с ласковой улыбкой: "Счастливо вам искупаться, только обратите внимание – там вторая ступенька скользкая". Я поблагодарил за пожелание и предостережение, хотя до этого мне и на ум не шло залезать в студеную апрельскую воду. Но трогательная доброжелательность и предупредительность женщины так замечательно гармонировала с царящей вокруг чистотой, что я просто взял и послушался. Однако, мне удалось зайти в ледяную воду лишь по колено. С трудом превозмогая ломящую боль, я отступил обратно. В душе опять поднялся легкий ропот – железные они тут все что ли, кроме меня?
Рядом у поклонного креста стоял молодой послушник, полушепотом читая акафисты. Молился он тут уже второй час, и прерываться, судя по всему, пока не собирался. А я его видел вчера на привратном послушании, то есть, вероятнее всего, большую часть ночи он не спал. Потом с пяти утра выстоял семичасовую службу. И вот сейчас таким образом отдыхает. Для него это укрепление Божественной благодатью, но если таким образом попытается отдыхать человек духовно неразвитый, он просто свалится и долго не захочет вставать. На практике в этом убедиться очень легко.
Потому и решил я хоть часок полежать после прогулки по лесу перед вечерней службой – выстоянное и выброженное с утра и так уже превосходило мои обычные возможности. Но там, где меня поселили, я был встречен улыбчивым непониманием со стороны убиравшего помещение послушника:
– У нас, знаете ли, днем сюда ни кто не заходит.
С трудом сдерживаясь, я поинтересовался тоном спокойным, но ледяным:
– Это запрещено?
– Не то чтобы запрещено, только кто приезжает, в основном все время в храме проводит.
– Вот я и решил полчаса перед вечерней службой отдохнуть, – хмуро резюмировал я и, скинув ботинки, вытянулся на кровати, думая про себя: "Ты уж меня, голубчик, прости, но раньше, чем через полчаса я не поднимусь, и так собирался час лежать". Он молча подметал пол, а я молча роптал.
***
Перед вечерней службой я не торопясь обошел всю территорию монастыря. Побыл на могилах старцев за собором, вздохнул над каждой. Только что читал их жития, и старцы были для меня, как родные. Отец Макарий… Отец Илларион… Отец Иосиф… Все, кто лежит здесь, мирно почили в Бозе еще до того, как Россия пошла под нож. Последние старцы, к смерти которых имеют непосредственное отношение большевики, похоронены в местах весьма отдаленных. А у тех, что закруглились до революции, мученичество приняли на себя сами могилы – поруганные, оскверненные. Ныне над ними простые деревянные кресты – лучший, наверное, памятник для православного. Русская Православная Церковь канонизировала пока только преподобного Амвросия. Но… Богу ведомо, кто свят.
Поодаль – новое кладбище, где пока лишь несколько крестов, таких же точно, как над могилами старцев. Здесь похоронены три инока, которых на Пасху 1993 года зарезал сатанист. Зарезал подло и безвинно, как у сатанистов и принято, ритуальным ножом с цифрою "666". Не под такой ли нож вновь готовят невеликую ныне по размеру Святую Русь? Не прообраз ли грядущего – убийство трех оптинских иноков? А ныне, говорят, от могил невинно убиенных уже было несколько исцелений. Богу ведомо, кто свят.
***
В соборе во время вечерней службы я стоял у большой иконы преподобного Амвросия оптинского (+1891) Черты его лица – бесконечно родные, наверное, для всех кто читал житие батюшки Амвросия. Под иконой в небольшой витринке – личные вещи батюшки – смотреть на них не мог без внутреннего трепета, а когда после службы прикладывался к мощам преподобного, духовный трепет захватил, кажется, полностью.
Да, ради того, чтобы каждый день молиться в этом соборе, можно выносить любые лишения. Да и назовут исполненным лишений местный быт лишь изнеженные и избалованные, точнее – духовно слабые.
***
Вечером, сидя на кровати, я просматривал купленные в местной лавке книги, и невольно слушал разговор двух послушников из-за "дверного" одеяла:
– Батюшка, мой духовник, интересный. Молодой еще – 29 лет. Я ему по началу так прямо и сказал: "Да ты же пацан, батюшка". А он только улыбается и говорит: "Вот и хорошо". Я ему опять: "Да чего же хорошего, если пацан?" А он свое: "Хорошо, хорошо…" Мне потом перед ним так стыдно стало. Прощения просил.
– Смиренный твой батюшка.
– Да… Он шесть лет уже монашествует. За пять лет ни разу дома не был, потом дали ему на месяц отпуск, а он через несколько дней вернулся. Говорит, встретили дома хорошо, а только в миру долго выдерживать теперь уже не могу…
Этот незатейливый, но такой глубокий разговор послушников освободил меня от последних сомнений, и теперь я уже был уверен – жива Оптина. Здесь не просто возобновлен действующий монастырь. Оптина пустынь воистину воскресла, потому что есть в ней такие вот молодые батюшки, хочется верить, что будущие старцы, у которых, как знать, не будет ли еще Россия рыдать на груди.
***
На следующий день я снова встал в 5 утра вместе с грохотом гаек в жестянке (они ли это были – опять не видел). Зашел в собор, попрощался с преподобным Амбросием. На выходе встретил послушника, который устраивал меня на ночлег. Он, так же тепло улыбаясь, сказал: "Братик уезжает? Сохрани вас Господь в пути". Казалось, что сама Оптина попрощалась со мной его устами.
Пошел в Козельск теперь уже не берегом, а по асфальту от главных ворот, над которыми крупными буквами полукругом было написано просто и невзыскательно: "Оптина пустынь". Покидал я монастырь с опустошенно-перегруженной душой. Впечатлений было много, но они лежали во мне беспорядочной грудой, а в таком виде мало стоили. Потом, спустя значительное время, я постепенно начал понимать: всем тем, что я видел и слышал, Оптина действительно ответила мне на большинство личных вопросов. Святая пустынь и ныне окормляет тех, кто на самом деле этого хочет. Сама, как живая. Пока восходят в духовный возраст ныне еще юные будущие богомудрые старцы.
1995 г.
Подземное Небо
Бог не есть Бог мертвых, но живых.
Мф 22, 32.
От Почтовой станции Киевского метро, которая рядом с речным вокзалом, мы поднимаемся на гору, покрытую редколесьем, под ногами – пожухлая прошлогодняя трава, сквозь которую местами пробивается свежая апрельская зелень. Гора опоясана каменными лестницами, к услугам восходящих – вагончики фуникулера, но мы поднимаемся без пути, по живой земле. Несколько раз приходилось, задыхаясь от крутизны склона, прислоняться к теплым стволам деревьев. Сами по себе, словно бы помимо воли, раздавались в душе слова молитвы: "Пресвятая Богородица, спаси нас и сохрани, святый апостоле Андрее, моли Бога о нас".
Так ли поднимался на эту гору святой апостол Андрей Первозванный? Наверное, он, человек сильный, не делал вынужденных передышек, а шел так же по живой земле, хотя с тех пор без малого две тысячи раз наступала осень, опавшие листья утучняли землю, и апостольские следы ушли в толщу горы, оставшись в ней навеки.
Иные, может быть, усомнятся в исторической достоверности предания, повествующего, что на киевских горах был первозванный апостол, но думаю, что он в любом случае здесь был, по крайней мере духом своим, привлеченный православными молитвами. У Бога все живы, и отошедшие к Нему святые так же участвуют в истории, как и во время своего земного бытия.
Вот мы поднялись к Андреевскому храму, довольно, впрочем, позднему, построенному уже при императрице Елизавете. Он такой изящно-воздушный, бело-голубой, с нарядной позолотой, что невольно скажешь: "Здесь воссияла благодать Божия", как это и предрекал св. ап. Андрей.
Благодать обильно оросила эту гору во время крещения Руси. Равноапостольный князь Владимир воздвиг здесь церковь во имя Пресвятой Богородицы, прозванную Десятинной, потому что князь жертвовал на содержание храма десятую часть своих доходов. "Десятинная Богородица" до наших дней не выстояла, но археологи раскопали ее фундаменты, и ныне как бы план церкви выложен на земле красным гранитом. Можно стоять, словно в храме, и молиться лицом к алтарю, одновременно пребывая среди ошеломляющего, пронизанного солнечным светом простора, под куполом высокого неба, где звучали молитвы святого всехвального апостола и святого равноапостольного князя.
Недалеко от фундамента Десятинной церкви на камне высечены перефразированные слова преподобного Нестора Летописца, одного из Киево-Печерских иноков: "Отсюда пошла русская земля".
***
И вот мы уже в Киево-Печерской лавре – колыбели русского монашества, которое зародилось в толще другой киевской горы, в рукотворных пещерах, где первые наши иноки молились за Русь новоначальную. С горящей свечей в руках спускаюсь под землю узким сводчатым коридором, где и двоим трудно разойтись. В нишах по бокам подземных ходов стоят гробы с мощами святых угодников печерских. Убранные в парчу, святые мощи покоятся под стеклянными рамами, вписанными в контур гробов.
На Руси нет места, где покоились бы столько святых мощей – их десятки, в одинаковых домовинах, под похожими иконами и неугасимыми лампадами, которые только и освещают пещеры вместе со свечами в руках богомольцев. Медленно в таинственном полумраке продвигаясь по извилистым коридорам пещер, прикладываемся к мощам, время от времени заходим в маленькие кельи, где покоятся двое или трое преподобных. Кельи эти настолько малы, что, кажется, даже упокоившимся угодникам здесь тесно. Тишина в пещерах царит воистину гробовая, и всем существом ощущаешь, что мы – под землей. Вместе с темнотой, тишиной и теснотой нас уже окутывает влажный землистый холод, особенно ощутимый после жаркого и солнечного южнорусского дня.
Стены и своды пещер оштукатурены и выбелены, но вот мы заглядываем через ограждение в келейку, оставленную, по всей видимости, в своем первозданном состоянии. Здесь жил инок. Священный трепет, граничащий с ужасом, еще больше сгущается. Господи, да ведь это же самая настоящая могила, в которой человек добровольно заключил свою живую, теплую, трепещущую плоть. И не умирать он сюда пришел, а жить, более того – наполнить свою жизнь высочайшим смыслом и содержанием, которые обрести иного способа не видел. Просто знать об этом подвиге – ни чего не значит по сравнению с тем, чтобы увидеть пещерную келью своими глазами, поместить в нее свою душу хотя бы на минуту – больше помраченная грехами душа не выдерживает.
Мы хотим мира духовного. Мы суетимся, надеясь его обрести и, порою, по незаслуженной милости Божией, видим краешек светлого покоя. Мы хотим больше. Но больше – это вот здесь – в пещерной могиле для живых. И древний пещерник из своего земляного гроба словно бы отвечает нам на все наши недоумения.
***
Преподобный Антоний Печерский, родоначальник русского монашества, юношей отправился на святую гору Афон, где принял постриг и достиг первых успехов в духовной жизни. Тогда игумен, постригавший его, сказал: "Антоний, иди опять на Русь, и да будет тебе благословение от Святой горы, ибо многие черноризцы от тебя имеют произойти".
На гору под Киевом Антоний пришел в 1051 году. "И начал копать пещеру день и ночь…" Историк Церкви А.В. Карташев писал: "Пещерничество не являлось совершенно оригинальными русскими изобретением. Антонию… известен был пример Востока, где иночество часто селилось в пещерах, которые высекались в каменных боках горных утесов, были сухи, прекрасно защищены от ветров и при мягкой средней годовой температуре служили удобным жилищем для отшельников… Но особым родом подвижничества пещерничество сделалось только у нас, благодаря суровым климатическим условиям… Организм обрекался на крайне изнурительное существование среди вечной сырости, при отсутствии света и свежего воздуха…"
Не прошло еще и века, как крестилась Русь, и, видимо, свежая благодать народного крещения привлекла к отшельнику Антонию многих желавших подражать его подвигам. Одним из них был юноша, воспитанный в состоятельной семье – будущий преподобный Феодосий. Сначала Антоний сказал вновь пришедшему молодому человеку: "Видишь ли чадо, пещера моя скорбна и тесна. А ты юн и, как думаю, не в состоянии выносить скорби на месте сем. Феодосий отвечал: "Сам Христос привел меня к твоей святыне, честный отче, да спасуся тобою…"
Пока численность братии не превышала полтора десятка, управлял ими сам преподобный Антоний. Все они жили в пещере, ископав в ней себе кельи и церковь. Потом преподобный, любя уединение, затворился в своей келье, а над братией поставил первого игумена Варлаама, позднее – перешел на соседний холм, ископал для себя новую пещеру и затворился в ней. Так возникли «ближние пещеры» (вновь изрытые прп. Антонием) и «дальние пещеры», именуемые так же Феодосиевы, где игуменом стал этот преподобный после недолго управлявших обителью прп. Варлаама и прп. Никона. Игумен Феодосий непосредственно управлял монастырем, однако, на любое сколько-нибудь серьезное дело, брал благословение у прп. Антония, который, живя в затворе, оставался для братии высшим духовным авторитетом. Так взошло над Русью двойное светило преподобных Антония и Феодосия Печерских, их даже на иконах изображают вместе.
Когда число иноков увеличилось, они решили построить уже наземный монастырь, куда и переселились из пещер в 1062 году. С тех пор подземные лабиринты были уже не местом общего жительства, а местом затворничества некоторых иноков, а так же местом погребения умерших монахов.
В ближних пещерах были погребены 80 угодников Божиих, а в дальних пещерах – 45 угодников. Большинство из них жили в первые 100 лет существования Киево-Печерской обители. Православный мир не знает других примеров, когда бы в одном монастыре за сотню лет прославилась сотня святых, тела которых, к тому же, Господь почтил нетлением. Этому посмертному чуду предшествовало множество прижизненных чудес.
В первой четверти XII века, когда число насельников Печерского монастыря простиралось до 180-ти, было между ними 30, имевших силу одним словом изгонять бесов. Такой великий дар дается Господом лишь тем, кто достиг вершин духовного совершенства, а потому изумление вызывает в первую очередь именно соборность печерского подвига. Это было сердце Руси, которое готовилось к великим подвигам и страшным испытаниям. Печерская обитель стала средоточием всего самого чистого, нравственно крепкого, что только было в русском народе, который тогда еще только зарождался. Здесь, напрягая до предела возможного собранные со всей Руси духовные силы, скопили эти лучшие люди великое богатство благодати Божией, изливая ее потом на всю Русь, и освящая ее, и очищая, и давая силы.
Мы молились в пещерах перед мощами преподобного Илии Муромца. В раке перед нами лежало маленькое, узкое в плечах тело, завернутое в парчу. Впрочем, исследования показали, что у этого человека – очень толстые кости, то есть при жизни он был чрезвычайно сильным. Неужели это и есть тот самый богатырь Илья Муромец? Ни в «Житиях святых» свт. Дмитрия Ростовского, ни в «Киево-Печерском патерике» его имя даже не упоминается. Хотя в святцах он назван и указано празднование ему – 28 сентября (ст. ст.) Только в «Полном Православном Богословском словаре» мы нашли напротив имени прп. Илии Муромца краткое пояснение: «Преподобный печерский, которого народ отождествлял с былинным героем. Живший около 1188 года».
Если оставить в стороне историческую часть вопроса, которая вряд ли когда-нибудь прояснится, то надо сказать, что народ был духовно прав, отождествляя русского богатыря и русского монаха. Оба они в справедливом мнении народном были олицетворением могучей силы – физической или духовной. И богатыри были воинами за веру, и монахи были ратниками Христовыми. Печерская иноческая дружина в значительной части своей, как и дружина княжеская, безвестна. И русский монах Илия Муромец, не оставивший даже жития – олицетворение этого соборного безвестного подвига.







