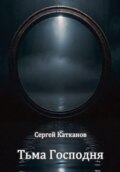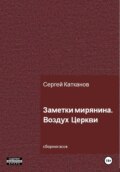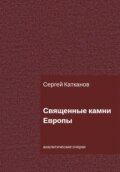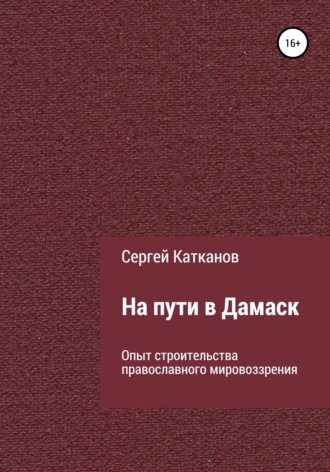
Сергей Юрьевич Катканов
На пути в Дамаск. Опыт строительства православного мировоззрения
А мы? Нам, наверное, тоже хотелось бы, чтобы перекрытие рухнуло не в храме, а в офисе каких-нибудь безбожников? А мы бы тогда с удовольствием сказали: "Наказал Господь подлецов". Если так, то мы не православные. Тот не православный, кто не хочет ко Христу, для кого переход в мир иной – трагедия.
Колбаса, как причина погибели?
Солидная дама великим постом уплетает бутерброд с колбасой и говорит: "Кому плохо от того, что я ем колбасу?" Дама как бы вроде бы верующая, но необходимость соблюдать посты отрицает напрочь. Ее позиция крепка, как броня. Ведь она и в самом деле ни кому не сделала плохого, покушав колбаски. Почему же глупые попы говорят, что она совершила грех?
Беда наша в том, что мы не всегда хорошо понимаем, что такое грех, потому и не знаем, что ответить подобным критикам православия. Нам кажется все просто: грех – это плохой поступок, то есть поступок безнравственный, то есть причиняющий кому-то вред. Да, пожалуй, любой безнравственный поступок – это грех, но не любой грех – безнравственный поступок.
Грех – это действие (мысль, желание, чувство) которое причиняет вред душе согрешившего, то есть разрушает душу, разлучает с Богом, то есть препятствует спасению души. Если человек сидит и в полном одиночестве тихо богохульствует себе под нос – он не совершает ни чего безнравственного. Ни кому ведь от этого не плохо. И Богу таким образом он ни какого вреда не причиняет. Но этот человек разрушает свою душу и тем совершает тяжкий грех.
А если человек сидит и смотрит порнофильм? Кому он плохо делает? Ни кому вреда не причинил, а себе удовольствие доставил. Но он разрушает свою душу, а потому совершает грех. Даже само понятие плохого безнравственного поступка на самом деле очень размыто. Вот, скажем, мужик изменил жене. Пожалуй, скажут, что он плохо поступил. Но ведь на это можно и иначе посмотреть. Сам удовольствие получил, женщине удовольствие доставил, а жена ни чего не узнает, то есть ей он ни какого вреда не причинил. Ну и что такого плохого он сделал? Но он совершил сразу два греха, то есть нанес ущерб своей душе и душе той женщине, с которой был.
Проблема в том, что мы постоянно путаем религию и этику. Мы думаем, что религия нужна для того, чтобы научить человека хорошему поведению. Но это задача этики, а задача религии в другом – помочь человеку наилучшим образом обустроить свое посмертное бытие, то есть спасти душу. Так вот грех – понятие религиозное, а не этическое. Да, религия включает в себя и этику, но религиозные нормы гораздо шире. Значительное количество грехов ни как не нарушают этических норм.
Вы, конечно, уже готовы спросить, каким образом поедание колбасы в определенный период времени разрушает душу? Да ни каким. Колбаса на душу не оказывает ни какого отрицательного воздействия. И все-таки нарушение поста – грех. Почему?
Нам будет проще это понять по аналогии с причинением вреда здоровью. Если человек ходил раздетым на морозе, он причинил своему здоровью вред – простыл. А если он отказывается лечиться? Он ведь тоже причиняет своему здоровью вред, теперь уже не действием, а бездействием.
Так же и с душевным здоровьем. Все мы грешим, то есть причиняем своей душе вред. Но в Церкви есть множество лекарств, которые позволяют нам поправить душевное здоровье. Если мы отказываемся от этих лекарств, мы напрямую вроде бы и не причиняем душе вреда, но мы отказываемся доставить душе пользу, то есть все-таки причиняем душе вред. Посты – одно из таких церковных лекарств для души. Грех отказываться его применять.
Каким образом отказ от мясомолочной пищи в определенные периоды полезен для души? Ведь та или иная еда – это то, что достается телу, а не душе. А тут весь вопрос в том, что происходит в нашей душе, когда мы отказываемся от этой пищи. Почему мы это делаем? Что нас к этому побуждает?
Мы говорим, что любим Бога. Да так ли? К чему побуждает нас эта любовь? Она побуждает нас любить людей, заботиться о них, делать добрые дела. Это хорошо. Но не переключаются ли таким образом все наши чувства на людей? А для Самого Бога мы готовы что-то сделать? Но ведь Бог, в отличие от людей, совершенно не нуждается в наших услугах, мы при всем желании не можем сделать ни чего для Бога полезного. Мы можем построить сто храмов, но Бог, спасая человечество, обошелся бы и без них. Мы можем написать сто богоугодных книжек, но Бог и без этих книжек найдет способы спасать души. Надо, конечно и храмы строить, и книжки писать, но не потому что Бог без них ни как не обойдется, а потому что мы делаем это из любви к Нему. То есть масштабы наших деяний и их видимая полезность не имеют значения, потому что невозможно сделать для Бога что-либо полезное. Имеет значение только то чувство, с которым мы это делаем – любовь к Богу.
Так любящая и любимая женщина вовсе не нуждается в том, чтобы мы подарили ей все цветы мира, в цветах вообще не лишка смысла – они увянут. Женщине достаточно, чтобы мужчина подарил ей скромный букет незабудок, если она чувствует, что он дарит их с любовью. А если она узнает, что мужчина ездил за этими незабудками за сто верст на последние деньги, этот бессмысленный на первый взгляд поступок будет для нее самым радостным подарком, потому что в нем она увидит проявление чувства.
Соблюдение постов – это наши незабудки, которые мы приносим Богу. Отказываясь от мясомолочной пищи, человек как бы говорит Богу: "Господи, я не забываю о Тебе. Я знаю, что ни чего не могу для Тебя сделать, но ради Тебя я готов, например, на время отказаться от хорошего питания, к которому так привык. Я знаю, Ты хочешь, что бы я побольше думал о душе и поменьше о теле, ну вот я готов ограничить свои телесные потребности. Каждый раз, когда мне захочется колбаски и я откажу себе в ней, я вспомню о Тебе".
Так мы укрепляем свою связь с Богом, то есть совершаем действие чисто религиозное, совершенно лишенное какого-либо нерелигиозного содержания. Смысл поста в том чувстве, с которым мы его соблюдаем. Нелепо говорить, что пост – бессмыслица. Все наши земные дела в масштабах вселенной ни чуть не меньшая бессмыслица. Имеют значение только наши чувства, которые останутся, когда и вселенной не будет.
Правило левой щеки
Наверное, больше всего насмешек над нашей верой вызывает требование подставить левую щеку, когда тебя ударили по правой. Много раз приходилось слышать: я ни когда не приму ваше христианство, потому что не собираюсь подставлять левую щеку. Некоторые выражаются еще круче: если меня ударят по щеке, в ответ я сломаю челюсть. Делая такие заявления нехристи чувствуют себя сильными, мужественными, решительными, а на христиан смотрят, как на слабаков, как на размазню какую-то.
Как-то мне в душу закралась соблазнительная мысль: "Если бы у нас не было этого "правила левой щеки", в содержании нашей веры не изменилось бы ровным счетом ни чего, при этом христианство стало бы куда как более приемлемо для большинства". Почему такая фигня в голову лезет? Да потому, что христианство – вера совершенно непосильная даже для большинства христиан. Вера совершенно немыслимая и невероятная. Вера катастрофическая для заурядного мирского сознания. И в этом величие нашей веры. И мы ни когда не откажемся от подлинного духовного величия в угоду заурядности.
Наш Господь ни чего случайно не говорил. Зачем же Он сказал про левую щеку? Мне кажется, для того, чтобы отпугнуть случайных людей из тех, которые следовали за Ним. Очень уж многие тогда были в восторге он Сына Человеческого, не понимая, что новая вера требует от человека умереть и заново родиться.
С тех пор "правило левой щеки" – пугало, установленное на границе Церкви. Оно отпугивает чужых, когда они имеют непродуманное, слишком легкомысленное желание назваться христианами. Требование подставить левую щеку – это тест на содержание гордости в душе. Гордость есть в любой душе, но ваше отношение к этому требованию покажет сколько ее – в пределах допустимого или зашкаливает. Заметьте, речь для начала даже не пойдет о вашей готовности это требование выполнить, а лишь об отношении к нему. Средний человек может подумать: "Я, конечно, пока так не могу, но я восхищаюсь теми, кто на это способен. Это правильно". Такой человек может считать, что он прошел тест, то есть Церковь примет его и даст ему средства для духовного роста. Но если это требование вызвало однозначный внутренний протест – человек не может стать членом Церкви.
Наивно думать: "В Церкви надо левую щеку подставлять, а я не могу". Да большинство христиан не может, они только понимают, что так надо и стремятся к соответствию заданному идеалу. Если вы поступаете в вуз, ни кто не потребует с вас предъявить докторскую диссертацию. Вы, может быть, и ни когда ее не напишете. Но искреннее стремление к изучению наук – необходимое требование, которое надо предъявить абитуриенту.
Господь часто выражает максимальные требования. Этим требованиям в достаточной мере соответствуют лишь святые. Не всем суждено стать святыми, но каждый христианин по мере сил должен к этому стремиться.
Почему же так дико звучит для нехристианского уха именно это требование? Да потому что в безбожном мире гордость – главное достоинство, это безусловная добродетель. Кто из нас не слышал: "Надо же гордость иметь". А для христианина гордость – главный грех. Не так легко поменять в душе плюс на минус, объявить наихудшим то, что ты еще вчера считал наилучшим.
Итак, именно гордость мешает человеку подставить левую щеку. А что такое гордость? Ну… собственно говоря, вся православная литература об этом. Но вся православная литература – это огромная, необозримая библиотека. А вы давайте навскидку, в двух словах. Трудно? По себе знаю.
Как-то я задавал православным вопрос: "Назовите антоним к слову "любовь". Обычно говорили: "ненависть". А я считаю иначе: антоним к слову "любовь" – "гордость". То есть гордость – это отсутствие любви.
Что происходит, когда один человек бьет другого человека по щеке? Это столкновение двух "я". А которое из двух "я" вам дороже – свое собственное или "я" обидчика? Праздный вопрос? Для безбожного мира это вообще вопрос риторический. А для нас это можно сказать основной вопрос православия. Вы представьте себе, что по щеке вас ударил горячо любимый, самый близкий человек на свете. Затмение на него нашло. Бывает. Причем, он явно не намерен ограничиваться одной затрещиной. И что вы будете делать? А у вас только два варианта: или предпринять акт ответной агрессии, или позволить ему продолжить агрессию. Демонстративно подставлять ему другую щеку даже ни к чему, он до нее и сам доберется. Способны ли вы причинить боль и унижение любимому человеку? Если вы действительно его любите – вы не сможете. Вам легче будет еще раз самому вытерпеть боль, чем причинить боль любимому человеку. Для вас его "я" дороже собственного "я". Это и есть любовь. Мало ли примеров, когда муж и отец готов пойти на любые страдания, лишь бы избавить от страданий жену и дочь? А если жена или дочь причиняют ему страдания? Любящий мужчина ни когда не испытает желания причинить им боль в ответ. Скорее подставит другую щеку. Так во всяком случае должно быть и ни кто, очевидно, в этом не сомневается.
А христианство предписывает ко всем без исключения людям относиться, как к самым близким, родным и любимым. Вы скажете, это немыслимо? Да, немыслимо. Но это и есть христианство. Это святость. Это тот идеал, к которому мы должны стремиться.
Для христианина любое другое "я" должно быть дороже, чем свое собственное. Христианин должен чужую боль переживать глубже, чем собственную. Поэтому христианин не должен отвечать ударом на удар. Я говорю "должен – не должен" исходя из собственного несовершенства. А настоящий христианин осмысливает это в других категориях: "могу – не могу". Я не могу ответить ударом на удар, потому что его боль для меня больнее, чем моя собственная. Так скажет настоящий христианин. То есть святой.
Удар по щеке – очень хороший пример, потому что сочетает в себе как физическую боль, так и боль душевную, то есть унижение. Вытерпеть одну только физическую боль способны многие понтовые мужики. На удар можно не ответить ударом, а с кривой усмешкой подначить: "Ну-ка врежь мне еще раз". А вот попробуй так же легко вынести унижение… Мы очень тяжело переживаем унижение, потому что очень любим себя. Наше "я" для нас драгоценно, а другие "я" – ни чего не значат. Это и есть гордость, то есть отсутствие любви.
Мир не приемлет требование подставить левую щеку, потому что считает это проявлением слабости, а христианство, соответственно, религией слабых. Но все наоборот. Христианство – религия сильных. Потому что нет ни чего в этом мире сильнее любви.
Жадность церковная
Иногда говорят про церковную жизнь: "Это все попы придумали, чтобы деньги с людей брать". Ну если так, то мне не с чем поздравить наших попов, бизнесом заниматься они совершенно не способны.
Вот пришли вы в храм на службу. Отстояли службу и ушли. И ни кто у вас ни одной копейки не попросил. А вы когда-нибудь задумывались, сколько все это стоит? Содержание здания, необходимость, как минимум, текущих ремонтов. Плата за электричество, за отопление и все коммунальные платежи. Плата за охрану. На клиросе певчие поют, им надо платить. Женщина торгует свечами и иконами – еще зарплата. Пара священников, диакон, алтарник – у них семьи, им детей кормить надо. Еще несколько зарплат. Вот в церкви появились новые иконы. Иконописец, по вашему кушать не должен? За иконы заплачено. Вот появились новые подсвечники. Они тоже денег стоят. Вот верующих причащают. Надо просфор напечь, вино купить. Вы прикиньте, во сколько в среднем обходится проведение одной литургии. Это очень кругленькая сумма.
А сколько стоит входной билет на литургию? Смешно, да? В храме – и вдруг билеты. Здесь можно просто так приходить. Во время службы мимо вас величественно проплывут бабушки с блюдами для пожертвований. Вы можете положить на блюдо пять копеек, а можете и ни копейки не положить, бабушки в вашу сторону даже не посмотрят, даже взглядом не намекнут на необходимость пожертвования. А у нас и бабушки в последнее время ходить перестали, остались одни ящики для пожертвований. Каждый может сделать вид, что и не заметил этих ящиков, так и не вопрос – все для него будет бесплатно. И исповедуют и причащают тоже бесплатно.
Вы только вдумайтесь: для нас организуют такое расходное мероприятие, а денег с нас за это не берут, по крайней мере – не требуют. Постарайтесь вспомнить хоть одну организацию, где вам постоянно что-то предлагают, сами несут большие расходы, а с вас денег не просят. Ну разве что библиотеки, но их финансируют из бюджета, то есть из наших налогов, Церкви такая лафа не снилась. А вы представьте себе дом культуры, где регулярно проходят бесплатные театрализованные представления. Такого и бюджет потянуть не сможет.
И вот какой-нибудь Задорнов, получающий за каждый свой концерт круглую сумму, обвиняет в корыстолюбии организацию, которая всех приглашает к себе бесплатно. Уже даже не спрашиваю о наличии у этих обвинителей совести. У них хотя бы мозги есть? Из современных организаций не назвать ни одной, которая вела бы себя так же бескорыстно, как и церковные структуры.
Это общее правило, а частные случаи? Моя теща решила освятить квартиру, договорилась со священником, он приходит, она спрашивает: "Сколько?" Он отвечает: "Если с деньгами плохо, я все бесплатно сделаю". У него жена, дети, ему зарабатывать надо, и ему предлагают деньги, а он первым делом говорит, что это не обязательно.
Решили мы с коллегами редакцию освятить, пригласили священника, а тот вообще наотрез отказался деньги брать. На следующий день один из редакционных безбожников мне говорит: "Редакцию освятили? Деньги девать некуда? Ты хоть знаешь, сколько эти попы дерут?" Я отвечаю: "Знаю. Он не взял ни копейки".
Конечно, если иной батюшка освящает банк или совершает «чин освящения колесницы» над новеньким «мерседесом», так я думаю, что храм без пожертвования не останется, и это пожертвование может составить хорошую сумму, но вот именно благодаря таким суммам Церковь и выживает, чтобы нам, нищим, все дать бесплатно. А банкиру трудно что ли на храм отстегнуть? Можете быть спокойны, Церковь еще ни один банк не разорила.
Конечно, за требы в Церкви платят, ведь банкирская щедрость – штука не стабильная и священнослужителям надо из чего-то зарплату получать. Но и это в общем-то не плата, а пожертвование от которого при необходимости могут и освободить. При чем этот подход проводится все более последовательно. Во многих монастырях, подавая записки, просто спускаешь в ящик для пожертвований сколько хочешь, а можешь и ни сколько не спускать, за этим ни кто не следит.
В храмах иногда бывает, что с людей берут строго установленную плату под видом пожертвования, называя это «рекомендованной суммой». Безусловно, это подмена понятий. Но в общем-то и в установленной плате нет ни чего плохого, мы ведь действительно получаем «услуги», говоря мирским языком. Но с точки зрения гражданского законодательства, если это услуги, тогда придется устанавливать кассовый аппарат, а только этого еще и не хватало в церковных лавках. Вам кажется, что попы лукавят, от налогов уклоняются? Ну тогда попробуйте, к примеру, рядом с билетными кассами на транспорт установить ящики для пожертвований, а билеты всем выдавать бесплатно, и вы получите право на такое же лукавство. Если на таком ящике вы укажете «рекомендованную сумму пожертвования» за билет, вам это уже не покажется жадностью. Или, может быть, на все концерты пускать людей бесплатно, установив на входе ящики для пожертвований? Но так, чтобы это были не благотворительные припадки, а все без исключения концерты. Вот тогда вы получите право рассуждать о корыстолюбии попов.
Но даже эти несчастные «рекомендованные суммы» и то уже во многих храмах считают неловким указывать. Не раз встречал такой порядок: свечей каждый берет сколько хочет, а денег спускает в ящик сколько может. Впрочем, не осуждайте батюшек, которые выставляют напротив свечей ценники с конкретными цифрами. Поставьте себя на место настоятеля храма, который по концу месяца пересчитал общую сумму кружечного сбора и понял, что ему просто нечем платить зарплату своему клиру. Проблема-то не в их жадности, а в нашей. Что же делать, если мы всего и всегда хотим на халяву. И если нам сказать «сколько можешь», то мы, как правило, можем три копейки.
Мы не хотим содержать свою Церковь, и мне жаль наших священников, которые постоянно вынуждены бить челом перед богатыми спонсорами. Место священника – у престола и на амвоне, а не в приемной у жирного коммерса, который презрительно поглядывает на батюшку, как на попрошайку. И тем не менее духовенство старается избавить нас от лишних расходов, сделать нашу жертву на Церковь не обременительной.
А может ли религиозная организация проводить более прагматичную финансовую политику? Еще как может. В большинстве протестантских общин действует правило десятины, то есть прихожане отдают десятую часть своих доходов на содержание своей общины. На мой взгляд, в этом нет ни чего плохого. Если нам это надо, так мы и платим. А кто за нас должен платить? Но если бы мне, например, предложили с каждой тысячи отдавать сотню на Церковь, я бы заскрипел зубами. Жалко. Потому что непривычно. Привык в православных храмах все получать почти задаром.
А в Швеции, где лютеранская церковь является государственной, все платят налог на Церковь, причем независимо от вероисповедания. То есть шведские мусульмане, кроме того, что содержат мечеть, отстегивают еще и на лютеранскую церковь. Налог не большой, что-то около 1%, но все же. Если же подданный шведской короны заявляет о своей принадлежности к лютеранской церкви, он становится плательщиком еще одного налога на церковь, где-то еще процента полтора. Это честно и справедливо. Но чтобы в современной России государство собирало налог на содержание Церкви – и помыслить себе невозможно. При этом ни кто не обвиняет шведских пасторов в жадности. В жадность почему-то обвиняют русских священников, которые ни с кого не требуют денег.
Почему мы так не справедливы к своим? А я объясню. Большинство русских, которые время от времени заходят в православный храм, считают, что делают кому-то большое одолжение, что их едва ли не поблагодарить за это должны. Кажется нас не удивило бы, если бы нам еще и платили за посещение церкви. А если попы осмеливаются взять хоть за что-то хоть копейку, так тут уж мы считаем их редкостными стяжателями.
Мы воспринимаем "услуги священников" как то, без чего легко можем обойтись, в отличие, например, от услуг врачей или адвокатов. Последним мы отстегиваем, не скупясь, потому что вполне осознаем, что в некоторых ситуациях их услуги нам жизненно необходимы. А достаточно ли мы осознаем, что от "услуг Церкви" зависит наша жизнь, причем – жизнь вечная? Если бы мы это не просто понимали, а глубоко переживали, так ведь последней рубашки было бы не жалко, только бы храм не закрылся и батюшка не бедствовал. И мы восхищались бы бескорыстием наших священников.
Сказки о попах
Антицерковная, антиправославная пропаганда целиком строится на том, что священники плохие. Начиная от тупого обывательского: "Знаем мы этих попов" и заканчивая интеллигентскими мудрованиями о том, как надлежит жить христианину, и как далеки от этого идеала православные священники. К этому суровому хору иногда присоединяется протестантский писк: "Наш пастор как учит, так и живет, а ваш священник…" далее по списку все основные тезисы воинствующих безбожников.
Меня эти нелепости и возмущали, и обижали, и даже травмировали, а потом я научился им радоваться и не раз говорил своим: "Вы только вдумайтесь, какая чистая и непорочная у нас вера. Православие настолько безупречно, что даже самые лютые и самые умные враги нашей Церкви не могут найти в ней ни малейшего изъяна, поэтому им ни чего не остается, как только ворошить грязное белье наших священников. Мне, например, для того, чтобы проехаться по протестантам вовсе не надо узнавать подробности личной жизни пастора, сам по себе протестантизм настолько кособок, что дает достаточно поводов для критики".
Без счету раз приходилось объяснять, что вера наша не становится ни лучше ни хуже от того, что иной священник, мягко говоря, не безупречен. Очередной дурак заявляет: "Вот из-за таких попов я в Церковь и не хожу". В очередной раз приходится отвечать: "А если бы ты знал, что у хирурга есть любовница и вообще он берет взятки, ты не пошел бы на операцию? Если бы ты был уверен, что все врачи плохие, ты вообще отказался бы от услуг медицины? Если тебе нужны услуги профессионала, так какая тебе разница, он грешный или не грешный, лишь бы дело делал. Священники – ремесленники, они делают то на что поставлены, на что их личные качества ни какого влияния не оказывают. Что это за логика: священник плохой, поэтому Бога нет".
Мне говорят: "Он слишком много плохого знает про священников, поэтому в Церковь не ходит". Я усмехаюсь: "Пусть он ко мне приходит, я знаю про священников в десять раз больше плохого, чем он может знать, я ему такое порасскажу… А в конце добавлю, что меня из Церкви и палкой не выгнать".
В самом деле, хоть я ни когда и не собирал церковных сплетен, однако знаком с людьми, которые не мало знают, а потому и сам знаю о священниках гораздо больше плохого, чем большинство врагов Церкви. Почему-то меня это ни когда даже в малой степени не соблазняло. Ни разу не появилось даже тени желания уйти из Церкви потому только, что тот или этот священник ведет себя неподобающе. Мне просто логически очень хорошо понятно, что между личными качествами священников и моими убеждениями нет ни какой связи. Если иной поп живет не так, как учит других, это характеризует только его самого, к характеристике православия это не имеет ни малейшего отношения. Неужели так трудно это понять? И тем не менее сплошь и рядом эта простейшая логика оказывается недоступна пониманию неглупых вроде бы людей. Кто из компьютерщиков отказался пользоваться антивирусом Касперского только потому что узнал о Касперском какую-нибудь грязную сплетню? Нет же таких идиотов.
Я привык отвечать, что не имеет значения то, что наши священники плохие. А недавно подумал: что ж мы так легко соглашаемся с тем, что они плохие? Я лично знал очень многих священников и не просто мельком, а достаточно регулярно с ними общался в течение многих лет. За каждое из этих знакомств я благодарен Богу. Все знакомые мне батюшки были замечательными людьми. Я ни одного из них не идеализировал, ни с одного из них не стал бы писать икону, я всегда видел недостатки любого из них. Один водочку любил больше, чем она того стоит, другой к деньгам был явно неравнодушен, третий был склонен к самолюбованию, четвертый страдал припадками гнева, в пятом было слишком много человекоугодия. Я добродушно улыбался, отмечая про себя их недостатки, но ни когда не забывал, что лично мне свойственно все вышеперечисленное и еще многое куда похуже. Я восхищался ими, потому что все они были людьми очень искренней веры, и у каждого были свои замечательные качества. Они были очень разными и к каждому из них тянулись очень разные люди. Все эти священники осознавали себя духовными лекарями и воистину таковыми были.
"Иных уж нет, а те далече". Но вот вспоминаю любого из них, и на душе тепло. Где же те самые "плохие священники"? Итак, я утверждаю вполне ответственно и на основе многочисленных фактов: средний нравственный уровень православного духовенства заметно выше среднего нравственного уровня мирян. Нам хочется, чтобы уровень духовенства был еще выше? Наши батюшки все-таки не дотягивают до той высокой планки, которую мы для них устанавливаем? Но, господа, давайте не будем забывать, что Церковь наша – народная, и батюшки наши – из народа. И если мы с вами – полный отстой, так откуда возьмутся идеальные батюшки? С Марса их что ли завозить?
Храмохождение
Как-то одна вроде бы верующая старушка мудрым голосом сказала: "Лучше в Церковь не ходи, а сделай доброе дело". Вот она на этом основании в Церковь и не ходила. Не могу быть уверенным, что вместо каждой воскресной литургии она в обязательном порядке совершала какое-нибудь доброе дело, но аргумент ее воистину из разряда бронебойных. Кажется, нечем от него прикрыться. А бабушка – таки не права. Но, как и всегда в подобных случаях, опровержение гораздо сложнее утверждения.
Конечно, если вы встали перед выбором, пойти сегодня в церковь или спасти человека, то и думать не чего, не ходите в Церковь, спасайте человека, иначе вы не православный. Но часто ли жизнь ставит нас перед подобным выбором? Это все-таки исключительная ситуация, а мы говорим о том, как вести себя обычно, всегда. В каком-нибудь добром деле, пусть и небольшом, все же больше пользы, чем в посещении храма? Или как?
И вот тут перед нами в полный рост встает вопрос о том, а сами-то мы, православные, какой главный смысл усматриваем в этом столь привычном для нас "хождении в церковь"? Что такое для нас это "храмохождение"? Мы когда-нибудь задавали себе этот вопрос? А в нем-то все и дело.
Беда наша в том, что мы очень часто воспринимаем "посещение богослужений" как исполнение формальной обязанности, в которой вроде бы и смысла ни какого нет, но так уж положено. Как бы Церковь требует от нас исполнения чисто внешних, ритуальных обрядовых действий. Будто бы эти действия по каким-то неведомым для нас причинам угодны Богу. Посещая храм, мы как будто "ставим галочку", почему-то считая что от количества проставленных галочек зависит спасение нашей души. Это очень обычный тип религиозности, но он обычен для ветхозаветной эпохи, а отнюдь не для православия. Однако, сердца наши так часто остаются ветхозаветными…
Суть Ветхого Завета – закон. Закон надо выполнять детально и не рассуждая. Если человек исполнил все 613 заповедей Ветхого Завета – у Бога не может быть к нему претензий, такой человек угоден Богу, он сделал все необходимое и не имеет ни какого значения, что сердце человека в этих "делах закона" вовсе не участвовало. Ветхозаветная религиозность строится на неукоснительном исполнении бесчисленных формальных предписаний. К этому так склонны были фарисеи, за что Господь их обличал. А мы сейчас порою чисто по-фарисейски считаем хождение в храм "делом закона" – нам велели, мы исполнили.
Однажды в храме ближе к концу богослужения удалось услышать поразительное суждение. Пожилая женщина наставляла свою молодую спутницу: "Если ко кресту не пойдешь, то считай, что на службе не была". Во как! Вы только вдумайтесь. Здесь, оказывается, исполняется такое ритуальное действие, которое не возможно совершить, не завершив. Одной только маленькой детальки в конце не хватит и "дело закона" тебе не зачтется, не сможешь галочку поставить. В самом деле, было бы очень глупо проторчать в храме часа полтора столбом, потерять время, убить ноги, но не завершить ритуал – и все коту под хвост. Это как длинное магическое заклинание, которое не срабатывает, если не произнести последней фразы. Такова формальная ветхозаветная и совершенно не православная религиозность.
И вот тогда становится понятно, откуда взялось это суждение: "Лучше в церковь не ходи, а сделай доброе дело". Из полемики с формально церковными, а по сути – ветхозаветными старушками. "Ты вот, Мария, все в церкву ходишь, да что-то пользы не видно. С соседями ссоришься, детей тиранишь, одна в тебе злоба. Ты бы лучше не в церву таскалась, а хоть что-нибудь доброе для кого-нибудь сделала". Это суждение продиктовано здоровым нравственным чувством, но оно направлено не против настоящей церковности, а против церковности ложной. Беда только в том, что иные православные являются носителями именно ложной церковности, а их критики не имеют представления о церковности настоящей.
Посещение храма не есть какое-то угодное Богу дело. Не то Богу надо, чтобы мы истуканами торчали на ногах в специально отведенном месте, сами не понимая зачем. Богу надо, чтобы сердца наши становились чище, лучше, добрее. А участие в богослужении призвано нам в этом помочь. Участие в коллективной молитве очищает душу. Из храма мы должны выходить добрее, чем были, когда зашли в него. И, посещая храм, мы не должны упускать из вида этой главной цели.
И тогда все встает на свои места. Если не будешь ходить в церковь, то и на доброе дело, может быть, окажешься не способен, сил на добро не хватит. И к каждому твоему доброму делу примешается столько нехорошего, что лучше бы ты и ни чего не делал. Не всегда даже будешь добро от зла отличать. Нам кажется, что тут все просто, а не всегда. Как часто мы делаем зло, думая, что совершаем добро.