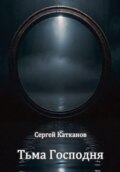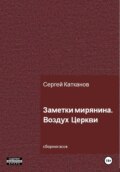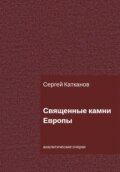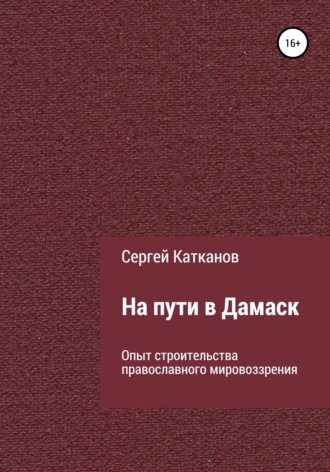
Сергей Юрьевич Катканов
На пути в Дамаск. Опыт строительства православного мировоззрения
Видимо, постепенно люди, совершая привычные действия, перестали понимать их смысл. Вместо "ставлю свечку и молюсь о здравии", получилось "ставлю свечку о здравии". Как будто горение специальной свечи в специальном месте может кому-то прибавить здоровья. Такое и думать грешно. Да еще отвели специальное место для того, чтобы ставить свечи "за упокой". Не дай Бог перепутать: поставишь свечку о здравии на канун и человек помрет. Нормальная логика магии.
Сегодня свечи в храме для освещения не нужны, везде электричество, и ни кто иконы в потьмах не разыскивает. Так что же, нам свечи уже не ставить? Да почему же не ставить? Просто надо понимать смысл того, что делаешь.
Сегодня тот, кто ставит свечи в храме, тем самым приносит жертву на содержание храма. Доход от продажи свечей – один из немногочисленных стабильных церковных доходов. Но смысл не только в этом. Пусть электрифицированный храм сейчас и не нуждается в дополнительном освещении, но свечи перед иконами – это очень красиво. Как букетики цветов. То есть человек, который ставит свечи перед иконами, вносит свой вклад если не в освещение, то во всяком случае в украшение храма. И самое главное, подойти к иконе и поставить свечку – это хороший повод помолиться за того, кому вы желаете здравия. Просто надо помнить, что главное тут – молитва, а сама по себе свеча погоды не делает, это просто внешнее действие, сопровождающее нашу молитву. Нет ни чего плохого в том, что мы привыкаем к внешним действиям, надо только не забывать, что главное тут – действие внутреннее – то, что происходит в душе.
Как-то был в католическом храме в Самаре. Ни одной иконы. Католики, конечно, не считают иконы идолами, но как-то вот постепенно они от них отказались. И разумеется – ни каких свечей, перед чем их тут зажигать? Можно ли молиться без икон и без свечей? Да, разумеется, можно. От чего же так зябко, неуютно и неприкаянно чувствует себя душа в католическом храме? Все какое-то чужое, холодное. Не хотелось бы тут молиться, было бы очень трудно настроить себя на соответствующий лад. И как все-таки хорошо в православных храмах. Душа согревается. Зайдешь с улицы и сразу чувствуешь, что попал в другой мир.
Свечи в храме – это внешнее проявление нашего внутреннего консерватизма. Мы храним православную догматику такой, какой она была сформулирована к VIII веку. И то, что мы даже свечи, даже одежды священников оставили такими, какими они были в VIII веке, наглядно символизирует, что в мире веры нет ни чего древнего – только вечное. Горе начинается тогда, когда для нас внешние символы становятся дороже внутреннего содержания, когда мы вовсе забываем о содержании и дорожим только формой.
В этом вопросе есть две крайности: обрядоверие и пренебрежение обрядами. Для одних обряд – сама суть веры, а другие, ну до того уж духовные, вовсе отвергают обряд. Но мы должны бороться с обрядоверием и дорожить обрядами. Нельзя ставить форму на место содержания, но, отвергая форму, можно сильно повредить содержание. Что ни говори, а обряд и догмат находятся в сложной взаимосвязи. Как тело и душа человека.
Коринфский ордер
Помню, еще в конце 90-х гулял я по одному разрушенному провинциальному монастырю. Многим, наверное, известно то тягостное чувство, которое вызывает мерзость запустения на святом месте. Рассматриваю храмы и корпуса, пытаюсь представить, какими они были раньше, и вдруг вижу на одном из храмов – коринфский ордер. Это такое пышное множество завитушек наверху колонны. И тогда стало совсем уж тошно. В голову пришла шальная мысль: «С тех пор, как на храмах начал появляться коринфский ордер, разрушение храмов стало в конечном итоге неизбежным».
Сказать, что я не люблю церковную архитектуру ХVIII века, значит не сказать ни чего. Я все ни как не могу понять, чей язык впервые осмелился назвать эту архитектуру церковной. Это принципиально не православная эстетика. А может ли эстетика быть православной? Иными словами: присущи ли православию свои, только ему свойственные эстетические представления? Да, безусловно, в том-то все и дело.
Вера православная прекрасна. Это высшая форма гармонии из тех, какие только возможны на земле. Наша вера идет от Бога, то есть от Источника Красоты. Халкидонский догмат, например, не просто правильный, он изумительно, непостижимо, невероятно красивый. Это произведение высшего духовного искусства, созданное Богом в соавторстве с человеком. А православная сотериология? Она красива в самом высшем смысле. Католики и протестанты, как дети неразумные, спорят о том, верою или делами спасается человек? В рамках этого спора правильный ответ принципиально невозможен, а православие снимает непримиримые противоречия выдуманных сотериологий с таким элегантным изяществом, что поневоле восклицаешь: «Как это красиво!» Православие во всех своих проявлениях дышит неземной красотой.
Православие – нечто большее, чем только религия в узком смысле этого слова. Это определенный тип миросозерцания, мировосприятия. Если православие входит в кровь человека, в любой сфере человеческой деятельности он будет проявлять себя так, как это присуще только православным. Если душа человека впитала православную догматику, сотериологию, аскетику, это окажет влияние на всю сумму его представлений о мире, на любые его действия, восприятия и отношения.
Православный журналист или писатель – не тот, что без конца долдонит о вере. А то бывает, что иной автор проповедует православие, а дышит как католик. Православный автор может ни слова не говорить о вере, он может написать, например, детектив, и все в этом детективе, вплоть до пейзажных зарисовок, будет дышать православным мировосприятием.
Как-то давно один православный человек подарил мне роман Толстого «Воскресение», предварительно вырвав из книги страницы с кощунствами. Я говорю: «Неужели ты думаешь, что в этой книге страшны только сами кощунства, а все остальные вопросы жизни человек, дышавший ненавистью к православию, отразил вполне правильно и читать это может быть полезно?» Каждая строчка Толстого дышит безбожием, даже если это описание бытовой сцены. Кстати, чудовищный стиль Толстого, его неспособность нормально строить фразы, не связаны ли с его антихристианством?
С этой точки зрения могут быть православные ученые или православные следователи. Православная методология – в способности воспринимать ситуацию (и весь мир) в ее целостности, ощущая взаимосвязь фактов. Безбожник видит ситуацию дробно, она в его сознании распадается на ряд фактов, и эти факты он склонен изучать по отдельности, по очереди, поэтому выводы безбожников по любому вопросу всегда имеют признаки неустранимых противоречий.
Вы когда-нибудь видели православных женщин, одетых в безобразные балахоны до пят? Это они демонстрируют свое пренебрежительное отношение к одежде и вообще презрение ко всему земному. Но все некрасивое – не православно. Для этих женщин православие остается чем-то внешним, принятым, может быть, очень искренне и даже ревностно, но не пропитавшим личность, не растворившимся в душе. Наша вера не терпит безвкусицы, потому что Бог – Источник Красоты, а безвкусица – прямое следствие оскудевшего или неразвитого религиозного сознания. Посмотрите, как красивы и элегантны монашеские одежды. Конечно, монах не стремиться к элегантности в суетном значении этого слова, он стремиться к Богу, к гармонии с Богом, а Бог – источник той гармонии, которая пронизывает собой все. Монашеские идеалы так прекрасны, что монах не может быть безвкусно одет.
И вот теперь вопрос о том, а может ли быть православный стиль в архитектуре, кажется уже риторическим. Под православной архитектурой мы привычно понимаем порождение греческой и славянской ментальности, то есть нечто национальное, а не религиозное. Но и сама-то эта ментальность сформирована православием, и архитектура, следовательно, порождена не тем, что временно и преходяще, а тем, что вечно актуально. Значит, может существовать и очень не православный архитектурный стиль, в том числе и в архитектуре храмов.
Откуда это взялось? А вы вспомните, чем был XVIII век, век «просвещения». Век «освобождения разума от оков религии». Век разрушения религиозного сознания. Бог прост, и религиозное сознание дышит простотой. Разум, оставшийся без Бога, тут же начинает все усложнять. На смену красоте приходит украшательство. И вот извольте получить барокко. Множество деталей, сплошные завитушки, пестрота такая, что в глазах рябит. Все эти детальки по отдельности могут быть интересны, но они не образуют единого целого, гармония исчезает. Красивое красиво само по себе, некрасивое приходится украшать.
Этот стиль – прямое порождение безбожия. Как же он попал в религиозную архитектуру? Из-за утраты целомудрия – главного признака православия. Мудрость православия целостна, она разом охватывает все. Утрачивая целомудрие, мы все начинаем воспринимать по отдельности. Мы вроде бы по-прежнему верим в Бога, но наша вера – это одно, а архитектура – это совсем другое. Одно с другим в нашем сознании уже ни как не связано. И вот мы с легкостью необычайной начинаем строить православные храмы даже не по языческим образцам, еще хуже – перемешивая элементы языческой архитектуры с элементами православной с добавлением католической. Каждый элемент по отдельности может быть весьма хорош, но вместе взятые они создают дикую дисгармонию.
Вот этот фронтон на православном храме – от Парфенона, ну и колонны, разумеется. Ордер давайте сделаем коринфский. Ионический или дорический скучно, а коринфский он такой нарядненький, с завитушечками, веселее будет. Ну готическое стрельчатое окошечко, и византийскую арочку не забудем. А купола давайте сделаем барочные. Изящненькие такие самоварчики. Не правда ли, получилось красивенько?
Душа православного человека так устроена, что она требует простых (но не примитивных!) строгих, величественных форм. Душа, которая обрела внутреннюю гармонию, порождает гармонию внешнюю. Если мы начинаем строить нечто дисгармоничное – это признак оскудения нашей веры. Если мы не чувствуем, что вот эта архитектурная форма порождена сознанием безбожным, если мы эту форму легко заимствуем, значит религиозность наша уже дефективна. Если в мир православия мы легко впускаем совершенно чуждые православию стихии, то насколько мы сами православны? Если сегодня мы бестрепетной рукой украшаем православный храм коринфским ордером, значит процесс разрушения веры в наших душах уже запущен, он будет приносить все новые и новые плоды, а в конечном итоге нам захочется вообще разрушить все храмы. Что и произошло.
Живописные иконы
То же самое происходило и с иконописью. Откуда у нас появились иконы в живописном стиле? На Западе понемногу побеждало мировоззрение человекобожия, то есть по-прежнему вроде бы религиозные художники объявили человека мерилом всех вещей и живописали уже плоть, а не дух, и все увидели на иконах вместо Господа, Богоматери и святых обычных грешных людей с их вполне заурядными страстями. Иконопись фактически исчезла, на ее место пришла религиозная живопись. Ее образцами можно было любоваться, но перед ними нельзя было молиться.
На Русь это влияние пришло через Польшу уже в XVII веке. Симон Ушаков и иже с ним начали изображать на иконах плоть вместо духа. Безумцы! Они думали, что старые мастера не умели писать красиво и похоже, и вот теперь они, передовые подражатели поляков, покажут новое мастерство. Господи, до какой же степени должна была оскудеть вера в сердцах этих изографов, если они уже перестали понимать разницу между иконой и картиной, если они думали, что единственное отличие между ними лишь в степени мастерства. Между тем, у иконописи и живописи разные объекты изображения. Живописец изображает нам материальный мир, иконописец – мир иной, духовный. Разумеется, это требует различных художественных приемов. На иконе нет и не должно быть реальной плоти, лишь ее символическое изображение. Иконописный канон – особая, очень сложная знаковая система. Там даже организация пространства другая, там все другое, как и в мире ином. Это перестали понимать.
Наши бесчувственные и развращенные богомазы вместо Пресвятой Богородицы начали изображать "даму приятную во всех отношениях". Они демонстрировали свое художественное мастерство, забывая, что икона существует не для дворца, а для храма. На нее не любуются. Перед ней молятся. А как можно молиться перед иконой, с которой на вас смотрит лицо красавицы? Человек на молитве должен отрешиться от всего земного, и икона должна ему в этом помочь. Но живописные иконы не помогают в этом, а мешают – они навевают мысли о земном.
А кому не доводилось видеть в храмах "голгофы", на которых изображено почти полностью обнаженное тело мужчины? Дикий, кощунственный реализм. Что сделали бы с мужиком, если бы он пришел в храм в одной набедренной повязке? Почему же в храмах допускают подобные изображения? Кто-нибудь вообще думал, какие чувства вызывают это у женщин? На древнерусских иконах Тело Распятого Господа изображали символически. Вы думаете, раньше не умели "рисовать похоже"? Нет, раньше понимали, что это кощунственно.
Иногда кажется, что наши богомазы XVIII – XIX веков не только ни когда не молились в храме и не знали, зачем они пишут образа, но и Евангелия ни когда не читали. Вот захожу в храм и вижу на иконе Спаса нерукотворного лицо мужчины. Лицо заурядного и вполне ничтожного мужчины. Сколько же надо иметь дерзости, даже наглости, чтобы не убояться в реалистической манере изображать лик Христов. Читаешь Евангелия и всей душой чувствуешь, как прекрасен Господь. Прекрасен невыразимо, неизъяснимо, непередаваемо. Даже величайшему гению человеческого духа и то вряд ли дано реалистично показать, каким был Христос. Да ведь тут мало гения, тут нужна святость. Впрочем, святой человек ни когда не взялся бы за такую работу, понимая ее невозможность. Но для провинциального богомаза нет ни чего невозможного. Христа нарисовать? Да раз плюнуть, прости, Господи. И вот сегодня в храмах мы любуемся на эти памятники бездуховности и кощунственной дерзости. Кому они помогут молиться? Глядя на эти лики, начинаешь понимать, откуда взялось гадкое большевистское словечко "Иисусик".
Речь идет вовсе не об уровне мастерства, а о том, что не бывает такого уровня мастерства, которого в данном случае оказалось бы достаточно. Иные лики Леонардо столь же кощунственны, как и мазня провинциальных художников. Иконописный канон избавлял изографов от этой проблемы. Настоящий изограф ни когда не дерзал показать Христа или Пресвятую Богородицу, он символически их изображал, он давал православным знак, а не картину. А это возможно и без большого таланта, и без личной святости, тут не обязательно быть Андреем Рублевым, достаточно быть церковным человеком и понимать, что перед твоим образом люди будут молиться, и твоя задача помочь им в этом. Если изограф имеет личный опыт молитвы и хотя бы средние художественные навыки, он сделает то, что надо. Вершин не достигнет, но этого с него и не спрашивают, храм – не галерея.
Как все-таки замечательно, что сейчас в вологодских храмах начинают появляться современные иконы, написанные по древнему византийскому канону. Они разного уровня, но это воистину настоящие иконы. Перед ними чувствуешь себя в мире молитвы, в мире православия. И как скребет по душе, как оскорбляет религиозное чувство безбожная мазня XVIII – XIX веков, которой до сих пор полно в наших храмах. Ну уберите же это наконец.
Символичная история
Что такое обновленческие тенденции в Церкви, стремление сделать православие более современным? Все они в конечном итоге сводятся к попытке примешать к нашей вере чуточку безбожия. Не правда ли, если добавить к православию немного атеизма, оно будет выглядеть куда более респектабельно. Надо же шагать в ногу со временем.
Но мы, дремучие ортодоксы и фундаменталисты, тупо пытаемся шагать в ногу с вечностью. Мы понимаем, что дух времени это дух безбожия. И мы не хотим украшать православие плодами расцерковленного сознания. В Церкви нет и не может быть ни чего не церковного. Но в наших храмах мы с величайшей горечью порою не только видим, но и слышым нечто совершенно не церковное.
Как порою выделываются и выдрючиваются наши певчие на клиросе – это же просто уму непостижимо. Веке в XIX многие весьма далекие от Церкви композиторы написали музыку для православной литургии. Людей не церковных вообще постоянно мучает странный зуд – желание что-то в Церкви улучшить. Они неспособны понять, что такое литургия, да и не хотят они это понимать, но они уверены, что музыка литургии могла бы быть и получше, посовременнее. Как-то купил на виниловом еще диске литургию Иоанна Златоуста на музыку композитора Грекова. Это нечто чудовищное. Резкие повышения тона, дикие выкрики не вызывают ни чего, кроме желания вызвать милицию. Под это принципиально невозможно молиться. А Грекову-то что? Он и не пытался.
То, что сейчас исполняется на клиросе порою ненамного лучше. Такие концерты закатывают, что хоть из храма беги. Заливаются соловьями на несколько голосов, порою одно слово тянут столько, что за это время можно неторопливо произнести несколько фраз. Это зачем? А это искусство. Клиросные явно не понимают, где находятся и что делают. Как-то затянули "Символ веры" на такую замысловатую мелодию, что верующие растерянно замолчали. "Символ веры" по уставу положено петь хором всем мирянам, но вытянуть такую сложную мелодию миряне без музыкального образования оказались не в состоянии. А клиросные продолжали выделываться, мешая нормальному ходу богослужения. Вот уж "символичная история". Верующие – отдельно, а клиросные – отдельно. Одни пришли молиться, а другие – заниматься искусством. Разумеется, одни другим только мешают.
Как-то, при мне было, поссорился регент церковного хора со старостой и на прощанье заявил ему: «Да я в кабаке гораздо больше заработаю». Вы представляете, что этот кабацкий лабух вытворял на клиросе, когда еще изображал из себя регента? Храм в кабак превращал. А зачем староста его пригласил? Так тот, видите ли, был известным музыкантом, и его задача была создать профессиональный хор.
А вот не надо! Не надо профессиональных хоров. Не надо настоятелям состязаться в том, у кого певчие самые голосистые и у кого из них больше музыкальных премий. Эти профессиональные музыканты в подавляющем большинстве случаев – люди не церковные и не понимают, в чем задача клиросных. Они «исполняют литургию», отыскивая для этого «музыкальные произведения» поинтереснее, да позаковыристее. Они не молятся, они мешают молиться.
А помню, как в одном вологодском храме на клиросе пели простые церковные девчонки под руководством женщины, кажется, с музыкальным образованием, но и она была человеком церковным. Боже, как молитвенно они пели! Да они ведь и не пели. Они молились нараспев. И молиться вместе с ними было так хорошо…
Все просто: клиросные должны молиться, иначе они пребывают вне литургии и только мешают верующим. Я говорю банальности? Но почему же эти банальности не понятны такому большому количеству настоятелей?
Какова же настоящая православная музыкальная эстетика? А вы слышали хор валаамских монахов? Вот звучание истинного православия. Вот небо на земле. Это древние распевы. Наши целомудренно-православные предки вряд ли знали, что такое эстетика, но их души пели молитвенно, и они бы ни когда не позволили в храме пения, чуждого молитве. Они чувствовали, какого именно пения требует православие, а мы этого зачастую не чувствуем. Так возблагодарим же Бога за то, что древние распевы живы и отметем, как ненужный хлам, музыкальные выделения расцерковленного сознания.
Однажды мы с женой были на литургии в Соловецком монастыре. На клиросе пели три стареньких монаха. Это было настоящее чудо. Они пели возвышенно, задушевно и очень молитвенно. Мы прикоснулись к миру подлинной монашеской духовности, то есть духовности истинно православной. Я не помню, какие голоса были у соловецких иноков, конечно, довольно слабые. Я только помню, что молиться вместе с ними было большой радостью. Ради этого стоило прорываться через тоскливый холод Белого моря. На клиросе пели люди, которые неизмеримо духовнее нас, и мы тоже подтягивались за ними, и благодать Божия наполняла душу.
Вот что значит хорошее клиросное пение. Но разве мы заслуживаем такого счастья на каждое воскресение? Не такая архитектура, не такие иконы, не такое пение вполне соответствуют не таким душам. Все это надо терпеть, осознавая, что лучшего мы пока не заслужили. Искажение православной эстетики было одним из признаков, предвещавших крушение империи и революционное безумие. А разве мы сегодня уже преодолели то состояние души, которое породило революцию? Наши души все такие же раздерганные, дробные, далекие от цельной мудрости. Так что, когда приходим в храм, радоваться надо тому, что имеем, а то как бы и это не потерять.
Православный туризм
Когда я пришел к вере, мне нравилось сочетать это новое состояние души с вечным моим стремлением к перемене мест. Я всегда любил путешествия, ну а теперь у меня начались паломничества. Удалось побывать во многих святых местах Руси, о чем до сих пор вспоминаю с удовольствием. И вот теперь я спрашиваю себя: «Зачем ездил? Что хотел? Получил ли я от своих паломничеств духовную пользу? Или одни только приятные воспоминания?»
Как-то, еще в разгар моего паломнического зуда, мой православный друг иронично спросил:
– Ты что по монастырям-то мотаешься? Тебе дома-то чего не хватает? У нас же тут все есть: и литургия, и все таинства, и священники у нас есть хорошие, и хороших православных книг в наших лавках хватает. Что тебе еще-то надо для спасения души?
– Не мы с тобой паломничество придумали, не мы его и отменим, – столь же иронично ответил я.
Не правда ли, я очень красиво его срезал? Люблю так сказать, чтобы оппоненту было уже нечем крыть. Чаще всего у меня получается. И мой друг тогда молча кивнул, не имея, что возразить. А потом я задумался о том, что было основой наших разногласий? Да просто он не любил путешествовать, а я любил. Эта чисто психологическая разница между нами не имела ни какого отношения к нашим религиозным убеждениям, тем не менее каждый из нас объяснял свою позицию мотивами чисто религиозными. Он ссылался на отсутствие в этих поездках религиозного смысла, а я на православную традицию. Так в чем же смысл этой традиции, если смысла-то вроде бы и нет?
Как-то я сказал своему уже не православному знакомому, что ездил в Дивеево. А он в ответ спросил: «Помогло?» Сначала я растерялся, потому что не понял, о чем он спрашивает, а потом понял, и мне стало горько. Болезней у меня всегда хватало, но ни разу ни в одну паломническую поездку я не отправился, чтобы у какой-нибудь святыни молиться об исцелении. Не из каких-то принципиальных соображений, а почему-то и в голову не приходило. А тот мой знакомый был твердо убежден, что к святыням ездят только если болеют и только для того, чтобы помогло.
Действительно ведь, для многих это основной мотив, побуждающий отправиться в дорогу. В таком-то монастыре есть такая-то икона, хорошо помогающая от недуга пьянства. А в другом монастыре у мощей такого-то святого можно порешать проблемы со зрением. Или, если вы прониклись особым доверием к какому-либо святому, прочитав его житие, то поезжайте к его мощам, должно помочь.
Не стану говорить, что это неправильно. Ведь многим и правда помогает. Жития наших святых снабжены списками исцелений, которые произошли у их мощей. Но что-то тут не так. Почему человек едет за сотни километров к некой особой «целевой» иконе? Он считает, что эта икона «эффективнее», чем все прочие? Тогда это идолопоклонство. Почему человек о том же исцелении не может молиться у себя дома или в своем местном храме? И Господь, и Богородица, и любой святой услышат нас с любой точки пространства. Люди чаще всего мыслят просто: там много исцелений произошло, туда и надо ехать. Наивно? До чрезвычайности. Как будто есть некие особые пункты приема прошений, а если подать прошение в другом месте, то его, может быть, и примут, но толку не будет. Примерно по такому же принципу мы ищем хорошего врача. Нам трудно поверить, что у нас в райцентре есть хороший врач, все хорошие врачи – в Москве, а то и за границей. Но ни икона, ни мощи святого – не врач. Один у нас Врач – Господь. А на каком транспорте мы надеемся до Него доехать?
Конечно, Господь примет самую наивную простодушную веру и ни кому не вменит во грех логическую ошибку. Если мы считаем, что ради исцеления надо потрудиться, преодолеть тяжелую сложную дорогу и было бы просто нечестно, сидя дома в мягком кресле, просить Бога о чем-то очень важном для нас… Что ж, в этом есть свой смысл. Перед Богом имеет значение все, что мы делаем ради Бога. И сама дорога может быть вменена в молитву, если это по-настоящему молитвенная дорога. Тут, наверное, не обязательно все правильно понимать, тут наверное важнее «правильно чувствовать», что и есть православие. Одно и то же действие можно совершать с разным чувством. Я ни когда не скажу человеку, что он не прав, что-либо предпринимая, потому что не знаю, что у него в душе.
То есть, если человек едет в святое место за тысячу километров исключительно ради исцеления, я не скажу, что он не прав. Не знаю. Но меня всегда раздражало потребительское отношение к вере и магическое понимание святынь. Дескать, поезжайте туда, там энергетика сильнее. Там скважину пробурили, из нее благодать хлещет.
Но вот были мы недавно с дочкой в храме абхазского села Илор. Там семь мироточивых икон. Факт исключительный. Чтобы сразу семь икон замироточили – такое не часто случается. Конечно, хотелось побывать в таком удивительном месте, где так зримо явлена благодать Божия. И вот перед входом в храм наш не сильно православный экскурсовод говорит: «Это особое место, то, о чем вы будете молиться в этом храме, обязательно сбудется». Разумеется, я отнесся к этому весьма скептично. Будет то, на что Божия воля, а не то, о чем просят в Илоре. Не верю я в особые места, откуда молитва быстрее доходит, а уж когда мне гарантируют исполнение желания, это чистая магия. Впрочем, я был благодарен экскурсоводу за то, что он предложил молиться, а не «загадывать желания».
Молиться – всегда хорошо, а в святом месте – особенно. И я молился об исполнении одного моего желания. Конечно, я не думал о том, что оно обязательно должно исполниться. Ни один человек не может гарантировать проявление Божье воли. И после этого я отнюдь не пребывал в напряженном ожидании исполнения просимого. Тем более, что желание было выражено обобщенно, не конкретно, да и касалось не меня самого. Потом мы с дочкой выяснили, что не договариваясь, молились об одном и том же.
И что вы думаете? Наше общее желание сбылось почти сразу же по возвращению из поездки. Господь словно улыбнулся над моим скептицизмом. Вот как это понимать? Думаешь, что «оно не работает», а оно работает. Конечно, я не начал верить в магию святого места. Но я стал осторожнее в суждениях. Бог принимает самую кособокую, даже «неправильную» веру при условии ее искренности. Может быть, так?
Зачем еще у нас ездят по святым местам? Иногда – к каким-нибудь совершенно особенным батюшкам или старцам. Однажды даже слышал выражение «сильный батюшка». Мне кажется, это ужасно. «Сильный» может быть маг, колдун, они могут обладать разным уровнем магических способностей. О характере этих способностей и об эффективности магических практик разговор был бы отдельный, сейчас лишь о том, как они сами понимают то, что делают. Так вот православные, считая иного батюшку «сильным» понимают его роль так же, как поклонники магии понимают роль колдуна. На самом деле все священники, и самые грешные, и близкие к святости, в равной степени сильны. Ведь таинства совершают не они, а Святой Дух через них, и сила таинств ни как не зависит от личных качеств священников.
А старцы? Ведь бывают же в самом деле прозорливые старцы, которым Бог в особых случаях частично открывает будущее и которые соответственно знают, как поступить. Например, делать операцию или не делать? И вот начинают православные нарезать круги по монастырям, прознав то об одном, то о другом дивном старце, и пытаясь порешать чаще всего бытовые проблемы. Опять же, ни чего не отрицаю. Ведь есть же старцы, и ведь принимают же они людей, и ведь действительно же они имеют реальную возможность в некоторых случаях помогать людям. Но вот мне это, мягко говоря, не близко. Тут как будто что-то не так. Не всегда не так, но иногда. Вот я, к примеру, кто такой, чтобы мне было положено «что-нибудь особенное»? Большинство православных довольствуются обычными приходскими священниками, и я уж как-нибудь вместе со всеми. Господь нас не оставит. Будем молиться и получим то, что нам надо. А если кто-то все ищет «особого» батюшку, так он наверное себя и свои проблемы считает «особыми». А у меня все как у всех – ни чего особенного. И будущего я знать не стремлюсь, все будет так, как угодно Богу. И если я уперся лбом в какую-то проблему, значит я должен сделать свой выбор, на то и дал мне Бог свободную волю. И ответственность вся целиком лежит на мне, и ни куда я не убегу от этой ответственности, да и пытаться не стану. Вся жизнь это непрерывный ежедневный выбор, на то нам эта жизнь Богом и дана. Зачем же перекладывать свой выбор на кого-то другого? Неужели на страшном суде мы собираемся кивать на старца: «Это ж не я так решил, это он мне велел». Легче, наверное, на кого-то ответственность переложить, но ведь все равно не удастся, за каждый свой поступок мы будем отвечать лично.
Конечно, бывают в жизни очень сложные ситуации, порождающие крайнюю растерянность, когда кажется «куда ни кинь – везде клин». И тут мы нуждаемся в мудром совете богопросвещенного человека. Для этого, наверное, и нужны старцы. Но за советом ли мы к ним идем? Мы ведь надеемся, что старец откроет нам Божью волю. Может быть, и откроет…
Пытыюсь заглянуть в свою душу и понимаю, что я не просто не испытываю в старцах нужды. Я их боюсь. Я боюсь того, что не смогу принять слова старца, как Божью волю. Или, может быть, не найду в себе сил исполнить то, что велит старец. И тогда буду иметь на себе двойной грех. Я боюсь этого удвоения греха. Еще вчера я мог сказать, что не знал, как лучше поступить, а завтра уже будет так, что знал, да не захотел. Нет, если бы быть уверенным в том, что старец озвучил Божью волю, то тут уж поперек не попрешь, но ведь обязательно появится соблазн считать, что это воля старца, а не Бога. Конечно, каждому будет по вере. Если я действительно готов принять слова старца, как Божью волю, какими бы странными и неудобными не показались мне эти слова, тогда все будет хорошо, Бог не оставит. А если я не уверен в твердости своей веры? Хуже бы не вышло. Я могу, конечно, придти к старцу просто за советом, но ведь он-то может начать «вещать». А меня «вещуны» напрягают. В душе может появиться противление, а в итоге я греха не оберусь.